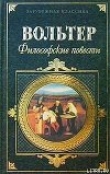Текст книги "Повести"
Автор книги: Лев Рубинштейн
Жанры:
Детская проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 14 страниц)
ВИЛЬГЕЛЬМ В ПРУДУ

Наполеон был разбит и изгнан из России. Русская армия вступила в Германию, а потом во Францию. Оружие российское освобождало Европу.
Кометы больше не было в небе, но надежды росли и укреплялись. Все ждали чего-то нового и прекрасного.
В Лицее были большие перемены. Неожиданно умер директор Малиновский.
Сын его Ваня почти месяц не являлся на занятия, а потом пришёл заплаканный, с чёрной повязкой на рукаве – это был траур по отцу. Директора долго не назначали. Вместо него был временный директор.
А на месте Пилецкого появился артиллерийский подполковник Фролов – человек толстый, усатый, с хриплым голосом и тяжёлой походкой.
Фролов относился ко всему Лицею с презрением – школа для стихоплётов, учёных и бумагомарак. То ли дело фрунт!
По части фрунта было приказано ходить шеренгами и в ногу, тщательно отбивая шаг. При этом мундиры должны быть застёгнуты на все пуговицы, а фуражки надеты ровно, без уклона к затылку или к уху.
Фролов сам водил лицейских на прогулку. Приближаясь ко дворцу, откуда царь мог увидеть лицейских в окно, Фролов приосанивался и командовал, как на параде:
– Раз-два! Раз-два! В ногу! Сильнее! Раз-два!
И, уже пройдя дворец, останавливал колонну и добродушно басил:
– Молодцами прошли, не хуже гвардии! Вижу успехи…
– Однако везёт нам на инспекторов! – сказал Жанно Пушкину.
– А как же, – засмеялся Пушкин, – один был шпион, другой полковой барабан…
Лицейские стали взрослее и научились разбираться в начальниках. Стихи и песенки теперь сочинялись открыто. В свободное время воспитанники ходили друг к другу в гости. Комнаты Дельвига и Пущина превратились в клуб, где некоторые лицеисты даже пытались курить из длинных трубок. При этом их охватывал мучительный кашель и тошнота.
– Зато подлинные студенты, – бодро говорил Дельвиг.
Сам он не курил.
Обезьяна-Яковлев представлял Пущина и Кюхельбекера. Сцена начиналась с того, как толстый Пущин, согнувшись и напыжившись, скучным голосом переводит с латинского:
– «Галлия вся делится на три части, из которых одну белый населяют…»
Входит Кюхельбекер. Яковлев вскакивает, вытягивается, худеет и начинает извиваться всем телом.
– Пущин! О! Послушай, что я сочинил!
Яковлев садится на стул и превращается опять в Пущина, который со вздохом говорит:
– Ладно, только не слишком долго…
Яковлев подскакивает и мигом снова превращается в тощего Кюхлю.
Он выхватывает из кармана бумажку и начинает выкрикивать стихи… то есть не стихи, а бессмысленный набор слов, очень ловко составленный в виде элегии. При этом он постукивает ногой и помахивает рукой в такт да ещё трясёт головой и сверкает глазами.

И вдруг Яковлев снова превращается в Пущина. Жанно покачивается на стуле, клюёт носом и наконец пускает заливистый храп.
Сцена кончалась под всеобщий хохот. Кюхля обычно говорил: «Тьфу, совсем не похоже!» – и уходил из комнаты.
Книги теперь можно было читать свободно. Жанно стал увлекаться историей. Он даже во сне видел древних римлян, присутствующих в сенате в длинных белых одеждах. Заговорщики подходили к Цезарю, окружали его и пронзали кинжалами.
«И ты, Брут!» говорил Цезарь другу и, завернувшись в тогу, падал мёртвый к подножию колонны.
Да, это был Брут, великий сторонник республики, который без колебаний поднял кинжал на друга, потому что Цезарь изменил свободе отечества и пожелал стать тираном!
– Древние римляне готовы были умереть за дело общее! – восклицал Жанно.
Жанно особенно уверовал в общее дело с тех пор, как лицеисты сообща прогнали Пилецкого.
– Все были как один, – говорил он Пушкину, – даже Горчаков, кажется, присоединился!
Горчаков на самом деле не присоединялся. Они с Корфом стояли вдали и молчали. При этом Горчаков рассеянно улыбался, а Корф надувал щёки. Оба не любили «общих дел».
– У нас дружба, – отвечал Пушкин, – мы вольные студенты. А ещё недавно были мы дурнями…
Пустые потасовки в Лицее прекратились. Ими занимался только такой глупец, как Мясоедов, прозванный «Мясожоровым».
По учебной табели первым учеником был Суворчик-Вольховский. Он учился не за страх, а за совесть, не теряя ни одной минуты. «Расписание дня» висело у него над кроватью, а на столе тикали часы.
Вторым учеником был Горчаков. Этому, казалось, учиться ничего не стоило. Никто никогда не видел его над книгой. Он часами приводил в порядок свои ногти и волосы. И, однако, все профессора были от него в восторге.
– Конечно, Горчаков мог бы быть первым, – говорил Фролов, – ежели бы менее занимался собою. Но за что особо хвалю его – мундир в порядке! У других, глядишь, то пуговица болтается, то петлица отскочила…
Пуговицы болтались обычно у Пушкина.
Жанно был на четвёртом месте, поближе к началу. Пушкин был на семнадцатом, поближе к концу. Так как за столом сажали учеников по табели, то Пущин сидел далеко от Пушкина, но недалеко от раздатчика каши. Пушкин на это сказал: «Блажен муж, иже сидит к каше ближе»… Ему было всё равно, на каком месте сидеть.
Про Пущина в табели было сказано: «Прилежен, способен, отличных дарований». Про Пушкина: «Прилежен, но нетерпелив, в российском языке не столь твёрд, сколь блистателен».
Особым занятием лицеистов было сочинение стихов. Сочиняли стихи многие. Писал торжественные строки Кюхельбекер, писал песни Дельвиг, писал эпиграммы Илличевский, писал Пушкин.

Писал он по ночам, ломал перья, бормотал, стучал в перегородку и читал стихи Пущину, который спросонок ничего не соображал, но стихами восхищался.
Саша Пушкин посылал свои сочинения дяде и друзьям.
Жанно и Кюхля знали, что стихи Пушкина собираются печатать в журналах и что дядя Василий Львович читает его стихи знакомым и называет Сашу своим «собратом по музам».
Жанно ничего не понимал в стихах. Он видел, как страдает из-за неистовых стихотворных припадков Кюхля и как не спит по ночам Пушкин. Жанно уважал и того и другого. Это были мальчики особенные, отмеченные гением! Но Жанно им не завидовал. Он рисовал себе своё будущее по-другому. То ему казалось, что он будет офицером и умрёт на поле сражения, спасая полковое знамя. То казалось, что будет он законодателем и произнесёт речь в сенате, потрясая умы новыми, высокими мыслями. Он признавался в этом Пушкину.
– В нашем сенате-то? – презрительно сказал Пушкин. – Да ведь это собрание старых развалин!
– Ты ужасно насмешлив, – обиженно проговорил Жанно.
Зато Кюхля ему посочувствовал, пожал руку и даже всхлипнул.
Кюхля продолжал потрясать Лицей неожиданными поступками. Он обижался, когда ему за столом подавали первое не в очередь. Однажды он забрал тарелку со щами у Малиновского и поставил перед собой.
– Ты по порядку после меня! – объявил он гордо.
Казак-Малиновский вспылил, схватил тарелку и вылил щи Кюхле на голову.
За столом началась сумятица. Многие лицеисты повскакали с мест.
– Мы будем драться на пистолетах! – завопил мокрый Кюхля, сбрасывая с ушей капусту. – Сейчас же! Пущин мой секундант! Ты согласен, Жанно?
– Вильгельм, хватит бесноваться, – сердито сказал Пущин. – Малиновский извинится. Ваня, что же ты молчишь?
– Да… конечно… – промямлил Малиновский. – Я вовсе не то… а что же он говорит?..
– Стреляться! Сию минуту! – кричал Кюхля.
При этом он потрясал ложкой и страшно сверкал глазами. За столом раздался смех.
– Кюхля, ложка не заряжена, – заметил Илличевский.
Кюхля вдруг бросил ложку на пол, побагровел и убежал.
Панька, садовников сын, подметал дорожки вокруг Скрипучей беседки, как вдруг услышал топот. Сквозь кусты с треском прорвался Кюхельбекер в расстёгнутом мундире, взлохмаченный и потный. Он остановился на берегу пруда, простёр руки к небу, потом ухватился за голову и зашагал прямо в воду.
Кюхля был высокого роста, а пруд был мелок. Вода доставала несчастному Вильгельму только до колен. Он оглянулся и встал на колени, а потом взмахнул руками и шлёпнулся головой в пруд. По пруду пошли пузыри. Панька отчаянно закричал. На крик его прибежали два человека – караульный солдат и Чирикандус. Солдат вошёл в воду и потащил Кюхлю штыком за воротник к берегу.
– Эй, ты, сходи в Лицей за доктором! – крикнул Чирикандус. – Да живо!

Панька побежал во всю прыть. По пути он встретил лицейских мальчиков, бежавших за Кюхлей. За ними, отдуваясь, спешил тучный доктор Пешель.
– Что Кюхельбекер, опять плохо? – спрашивал Пешель. – Кричал, бросался?
– Топился, ваше благородие, а не бросался, – сообщил Панька. – Сырой на берегу лежит и вроде живой.
Кюхлю привели в чувство. Минуты через три он заморгал глазами и приподнялся.
– Братцы… – сказал он и прослезился.
Беднягу утопленника подхватили под руки и повели в Лицей.
– Растереть спиртом, – соображал Пешель, – и, пожалуй, малинового настоя, дабы вызвать перспирацию, то есть отпотение…
– Испарину, – поправил его Илличевский.
– Вильгельм совсем с ума сошёл, – сказал Горчаков в группе лицейских, которые шли позади.
– Не сошёл ещё, но когда-нибудь сойдёт, – добавил Дельвиг.
– Господа, я не завидую Вильгельму, – угрюмо сказал Пушкин, – его ждёт не сладкая жизнь.
– Все вы хороши! – рассердился Пущин. – Ежели бы на вас всегда рисовали карикатуры, как Илличевский, да строили бы рожи, как Яковлев, вы бы не в пруд, а в водопад бросились!
– Уж ты, Жанно, известный защитник! – возмутился Корф. – Что поделаешь, если он смешной?
– Вовсе он не смешной, – упрямо твердил Жанно, – он очень высоких чувств и глубоких познаний человек. И трудолюбец, и отличный товарищ…
– Нельзя забывать себя, – сказал Корф, – сие недостойно человека учёного…
– И светского, – добавил Горчаков.
Жанно пожал плечами. Он хотел сказать, что выходки Кюхельбекера ему милее, чем аккуратность Корфа и холодный блеск Горчакова. Но он промолчал.
ПИРУЮЩИЕ СТУДЕНТЫ

Увлечение жизнью «вольных студентов» охватило весь Лицей.
Все изображали студентов, то есть ходили в расстёгнутых мундирах, держали волосы в беспорядке, повязывали галстуки самым небрежным образом и сидели в классе развалясь.
– Безначалие, – хрипел Фролов, косо поглядывая на лицейских, – и пагубная распущенность… Профессоры только лекции читают да стихи правят. И что же получается? Вместо слуг государевых растим писателей да читателей!
Лицейские собирались у Яковлева и на весь Лицей пели «национальные песни» под гитару. Обезьяна-Яковлев прослыл изрядным музыкантом. И в самом деле, он исполнял даже песни собственного сочинения – большей частью чувствительные, про соловьев, пастушков, дружбу и вино.
Вина никто из «студентов» не пил, но каждый хвастался тем, что может выпить «бочонок, если не более».
Однажды Пушкин решил, что истинные студенты должны пить гоголь-моголь. В те времена основной частью гоголь-моголя был ром. Но ром был в Лицее запрещён строжайшим образом.
– Я раздобуду, – сказал Жанно.
Лицейские не имели права выходить самостоятельно из Лицея. О поездке в Петербург не могло быть и речи. Но Жанно никогда ничего попусту не обещал.
Через неделю он вошёл вечером к Пушкину и таинственно вынул из-за пазухи бутыль в соломенной плетёнке.
Пушкин был в рубашке и ночном колпаке – собирался спать. Он соскочил с кровати, откупорил бутылку и понюхал.
– Браво! – крикнул он. – Подлинный ром!
– А ты думал – чернила? – обиженно отозвался Жанно.
– Откуда взял?
– Тайна, – сказал Жанно.
– А всё-таки?
– Никому не сказывай. Дядька Фома принёс.
– Послушай, Жанно, ты герой! Зови Дельвига и Малиновского! Зови всех!
– На всех не хватит, – рассудительно сказал Жанно, – а Дельвига и Малиновского согласен.
Пушкин нырнул в коридор и пошептался с дядькой Фомой. Через несколько минут в комнате Пущина собралась компания заговорщиков. Разбили десяток яиц, пустили желтки в вазу, насыпали сахару и собрались у кипящего самовара. Ром был торжественно налит в горячую смесь. Самым большим специалистом по гоголь-моголю оказался Дельвиг. Он сам ничего не делал, но давал указания, лёжа в кровати.
Ром оказался ужасно крепок. Через десять минут все почувствовали слабость в ногах.
– Я, конечно, пил ром не раз, – хвастливо сказал Дельвиг, – но этот какой-то особенный…

Пущину почему-то казалось, что его собственный голос выходит из затылка. Он нисколько не удивлялся тому, что в комнате появились новые лица и среди них лицеист Тырков. Жанно просил только говорить потише и, сохрани господи, никому не сказывать, что ром принёс дядька Фома, потому что это тайна.
– Братья по чаше! – возгласил Пушкин. – Поклянёмся никогда и никому слова не молвить о нашем возлиянии и о Фоме!
Все поклялись, держа в одной руке бокал, а другую положив на грудь.
Выпили ещё за Лицей, потом за дружбу вечную, потом за веселье. Жанно никак не мог понять, сколько людей в комнате. То ему казалось, что Пушкиных двое, то, что Тырков исчез.
Тырков и в самом деле исчез. Ему стало плохо. Он вышел в коридор и стал продвигаться к своей комнате самым странным образом – отталкиваясь то от одной стены, то от другой. Вдруг он увидел впереди какую-то фигуру, которую принял за Кюхельбекера.
– Дружище, вот славно-то! – сказал он громко. – Доведи меня, пожалуйста, до моей каморки, а то я никак не найду, куда она, к чёрту, запропастилась!
И он дружески обнял «Кюхельбекера».
– Господин Тырков, как вы смеете? – неожиданно проговорил встречный хриплым басом. – Да вы пьяны, сударь мой!
Это был инспектор Фролов.
– Извольте отвечать: кто напоил вас?
– Милейший человек, – слабым голосом отвечал Тырков, – дядька Фома…
Голос Фролова услышали «братья по чаше», и первым опомнился Пущин.
– Господа, бутылку и бокалы в окно, – скомандовал он, – барабан идёт!
Бутылка и бокалы полетели в окно, вазу спрятали под кровать. Но лужи на полу и самовар на столе остались. В этот момент дверь распахнулась, и в ней показался объёмистый живот инспектора.

– Отлично-с! – прохрипел он. – Воспитанники императорского Лицея завели у себя кабак! Я ещё понимаю, Пушкин… но вы, Пущин! Малиновский! Господин Дельвиг, соизвольте немедля встать с кровати! Ага! Что это на полу?
Фролов понюхал.
– Ром-с! Кто доставил сию гадость в Лицей?
Все молчали.
– Не желаете признаваться? Смирно! Я знаю, кто ром доставал! Фома! Потрудитесь всё прибрать и разойтись по комнатам!
– Это Тырков спьяну сболтнул, – пробормотал Пущин.
– Что изволите шептать? Назовите зачинщиков!
– Я зачинщик, – сказал Пущин.
– Не верю! Заговорщики! Потаённый зловредный кружок! Обо всём доложу начальникам. Будет вам всем на орехи, а с Фомой особенный разговор! Марш!
«Братья по чаше» разошлись. На следующий день Пущин, Пушкин и Малиновский явились к временному директору и во всём повинились. О дядьке Фоме ни слова не было сказано, да о нём и не спрашивали. Через две недели приехал министр (на этот раз он был без ленты и орденов) и в зале, при всех воспитанниках и профессорах, объявил троим зачинщикам строгий выговор.
– Не могу изъяснить, – добавил он, – сколь вреден и возмутителен сей поступок в среде юношества благородного. Мысль моя отказывается поверить, что потомки знатнейших фамилий распивали спиртные напитки и шумели по образу грубого простонародья! Конференция Лицея справедливо постановила: зачинщикам две недели при утренней и вечерней молитве стоять на коленях, за столом занимать последние места, а имена их да будут занесены в чёрную книгу.
– Я на всё согласен, – сказал Жанно Пушкину после отъезда министра. – Но знаешь ли ты, что дядька Фома уволен?
Пушкин потемнел.
– Виноваты мы, – сказал он.
– И я так думаю. Соберём все деньги, которые из дому нам посылают, и отдадим Фоме. У него детей шесть человек.
Так и сделали.
Обезьяна-Яковлев после этого пустил в ход новые строчки «национальных песен».
Ребята напилися ромом,
За то Фому прогнали с громом…

Пушкин заболел. Доктор Пешель определил, что у него «фебрис», по-русски – «трясучка».
– Горячка, – поправил его Илличевский.
У Пушкина была высокая температура. Он лежал в госпитале на втором этаже, жевал лакрицу, глотал лавровишневые капли и по ночам бредил.
Сначала не пускали к нему никого. Но дней через десять стали пускать по одному, по двое. Сходили в госпиталь Горчаков, Дельвиг, Кюхельбекер. Жанно побывал с Кюхельбекером, но Пушкин был ещё слаб, а Вильгельм не дал никому слова сказать и читал битый час свои стихи, пока больной не заснул. Наконец Пушкин прислал приглашение всем и велел передать, что будет читать новую поэму, которая всех касается.
После вечернего чая лицеисты пошли в госпиталь вместе с Чирикандусом. Пушкин сидел на кровати, поджав ноги калачиком. Лицо у него было загадочное.
– Я передумал, – объявил он, – поэма ещё не готова!
Раздался негодующий хор, и больше всех волновался Кюхля.
– Коли так, не стоило и звать, – говорил он, – у тебя, Александр, вечно на уме путаница! Не желаешь поэму читать, так я свои стихи прочту…
Шум усилился. Дельвиг заявил, что если стихи будет читать Кюхля, то дело затянется до утра. Пушкин с удовольствием поглядывал на всех и помалкивал. Наконец он вытащил из-под подушки исписанный лист, опёрся локтем о столик и стал читать так, как читал всегда, – с усмешкой, едва раскрывая рот, останавливаясь и поправляясь, как будто читал не стихи, а письмо домашним.
Поэма называлась «Пирующие студенты».
Друзья, досужный час настал,
Всё тихо, всё в покое…
– Да это Жуковский! – воскликнул Вильгельм. – «На поле бранном тишина, огни между шатрами»…[21]21
Кюхельбекер имел в виду знаменитую поэму В. А. Жуковского «Певец во стане русских воинов», напечатанную в конце 1812 года.
[Закрыть]
– Вильгельм, – в сердцах сказал Пушкин, – ежели ты подражаешь Гомеру, значит ли это, что ты Гомер?
– Он более, чем Гомер, – не удержался Илличевский, – он успешный подражатель всей древней поэзии…
– Хватит! – крикнул Пушкин, хлопнув листом по столу. – Никому я не подражаю! Прошу слушать да понимать!
И он продолжал спокойно читать.
Чем дальше он читал, тем больше посмеивались слушатели. Не все были названы по имени, но в каждой строфе угадывался знакомый.
Про Дельвига было сказано: «Дай руку, Дельвиг, что ты спишь? Проснись, ленивец сонный»…
Далее Жанно услышал:
Товарищ милый, друг прямой,
Тряхнём рукою руку…
– Это ты, – шепнул ему Малиновский.
– Да я ли?
Не в первый раз мы вместе пьём,
Нередко и бранимся,
Но чашу дружества нальём
И тотчас помиримся…
– Да, точно я, – сказал Жанно.
Далее было сказано и про Яковлева, и про Малиновского. Кюхельбекер слушал внимательно, приложив ладонь к уху.
– Братцы, не шумите, – говорил он. – Вот истинная поэзия!
Пушкин подошёл к концу:
Писатель, за свои грехи,
Ты с виду всех трезвее.
Вильгельм, прочти свои стихи,
Чтоб мне заснуть скорее.
Раздался хохот, шум и гром. «Тьфу!» – искренне произнёс Кюхля, но докончить ему не дали, потому что лицейские атаковали бедного Вильгельма, опрокинули его на кровать и стали тормошить. Над этим адом возвышался Пушкин в ночной рубашке. Он размахивал бумагой, а позади него хлопотал Чирикандус, которому не скоро удалось установить порядок.
– Да ну вас совсем, братцы, – сказал Кюхля, еле отдышавшись, – вы не студенты, а форменные скоты!
С тех пор лицейские стали называть друг друга «скотобратцами».
Исключение было сделано только для одного Мясоедова-Мясожорова, который получил звание «ослобратца».
Пушкин скоро выздоровел. Но теперь было не до пиров. В начале 1815 года предстоял экзамен.
Илличевский по секрету сообщил известие: на экзамене будет сам великий поэт Гаврила Романович Державин.
ПРЕКРАСНЫЙ ЦАРСКОСЕЛЬСКИЙ САД

Панька скучал.
Среди мальчишек Царского Села он считался слишком учёным, и с ним не очень-то охотно водили компанию. Отец его был человек суровый. Он не позволял сыну бегать с сыновьями дворцовых конюхов, поваров и лакеев.
– Что они знают? – говорил он. – Только спину гнуть! Мы не простые слуги, мы умельцы.
И в самом деле, в дворцовом управлении садов и парков, которым заведовал генерал Захаржевский, отец Паньки считался садовником не хуже выписанных из-за границы француза и англичанина.
Француз добивался стройности и «регулярности» – проводил аллеи по линейке, подстригал деревья в виде шаров и пирамид и ставил фонтаны шеренгами, как строй конной гвардии. Англичанин, наоборот, сажал густые рощи с путаными тропинками, пускал через них ручейки с водопадами и растил на лужайках высокую траву, «как надлежит в нерегулярной природе».
Генерал Захаржевский во всём старался угодить императору. Но у императора вкус был изменчивый – то ему нравился «регулярный» строй деревьев и статуй, то «нерегулярные» рощицы и ручьи. Вообще император был человек избалованный и капризный.
– Не наше дело рассуждать, – грустно говорил Панькин отец, – нынче так сажай, завтра этак. Его высочество Михаил Павлович давеча хлыстом розовые кусты посекли. Стало быть, царский брат изволили быть во гневе…
Панькин отец гордился своими розами, особенно махровыми, которые приятно пахнут ранней весной. Но розы были не в моде. В моде были нарциссы и лилии, которые тогда называли «лилеями». Оранжерейные «лилеи» часто требовали к царскому столу зимой.
Отец обучал Паньку своему ремеслу. Но Панька и тут скучал. Он не хотел быть садовником.
Брат Николай вернулся из похода невредимым. Он рассказывал про то, как живут немцы и французы и Как победоносная российская армия освободила их от Наполеона, которого Николай называл «тираном».
Слово «тиран» Николай слышал от господ офицеров и знал, что «тиран» – это царь бессовестный.
Много вёрст прошагал Николай с солдатским ранцем на спине. Видел он зелёные поля и голубые реки, разрушенные города и сожжённые сёла, слышал гром пушек и грохот залпов и мог по звуку угадать, куда упадёт ядро. Видел он и плачущих вдов, и смеющихся девушек, которые бросали цветы под ноги освободителям. Паньке хотелось всё это повидать, но судьба его складывалась совсем по-другому – сажать кусты и цветы и снимать шапку перед гуляющими придворными.
В Царском Селе прогулки были особым искусством. Гуляя под сенью громадных лип, на каждом шагу можно было увидеть генералов и сановников, а то и услышать в аллее звонкий лай маленькой собачки, с которой ходил на прогулку император.
Зимой гуляющих было меньше. Среди расчищенных белых аллей мелькали синие шинели и слышался смех и гомон лицейских.
Паньке перед лицейскими шапку снимать не требовалось. Сами они были простые и весёлые – совсем не под стать Царскому Селу.
Особенно подружился Панька с Пущиным и Матюшкиным. Пушкин был раздражителен и резковат. Горчаков, Корф и Илличевский вообще слуг не замечали. Кюхельбекер замечал, но разговаривал непонятными словами и даже пытался читать Паньке мудрёные стихи.
Матюшкин, завидев Паньку, радостно улыбался. Интерес к Паньке появился у него с тех пор, как Панька осенью пускал по пруду деревянный кораблик.
Кораблик был сделан из выдолбленной сосновой чурки. Посередине торчала мачта, а на ней был натянут парус из летней портянки. Корабль с надутым парусом устремился по пруду, а Панька затаив дыхание следил за тем, доплывёт ли он до другого берега или остановится в середине пруда.
Кораблик доплыл. «Есть!» – весело воскликнул Панька и тут только заметил, что на пристани, склонив голову набок, стоит маленький Матюшкин.
– Здорово! – восхищённо произнёс Матюшкин. – А я думал, зюйд-вест ослабнет…
– Что такое зюйд-вест, ваше благородие?
– Юго-западный ветер.
– Разве нынче юго-западный ветер?
– Компаса не знаешь! Уже третий день ветер с юго-запада. Твой корабль шёл бейдевиндом. Не понимаешь? Бейдевинд – это когда ветер дует кораблю в борт.
– Откудова вы таковые морские слова знаете, ваше благородие?
– Я ведь после Лицея буду служить на флоте.
Маленький Матюшкин сразу словно вдвое выше стал в глазах Паньки.
– И пойду в кругосветное плавание, – задумчиво добавил Матюшкин.
– Да разве вас возьмут, ваше благородие?
– Не знаю, – улыбаясь, сказал Матюшкин, – буду стараться. Ныне российские корабли далеко ходят. Капитан-лейтенант Головнин собирается вокруг Южной Америки в Камчатку.
У Паньки даже дух захватило от таких слов. Он не знал, где находится Южная Америка, но понимал, что перед всем этим его кораблик на пруду – просто сущая ерунда!
Панька раньше думал, что барчуки способны только развлекаться да стихи сочинять. Особенное презрение к лицейским он почувствовал после того, как они подвели его и не сумели сбежать на войну. Но тут, оказывается, есть забавные ребята!
А как они играют в лапту!
Лицейские играли на лужайке, где раньше было розовое поле. Там при покойной царице разводили розы, но потом велели сажать их на другом месте, где царь гуляет. Бывшее розовое поле заросло травой.
Лицейские разделились на две «артели» (команды). Начальником одной артели был Пущин. Другой артелью руководил известный силач граф Броглио.
Броглио могучим ударом толстой палки посылал мяч в воздух. Пока мяч летел, полагалось ребятам Броглио добежать до другого края поля. Артель Пущина «водила», то есть старалась словить мяч или схватить бегущих и «запятнать» их. На поле шла отчаянная суетня. Ребята Броглио побеждали, потому что бегали ловко и сбивали с толку противников. У Пущина были игроки нетерпеливые – они бросались вперёд толпой и мешали друг другу, а когда приходил их черёд посылать мяч, били слабо и низко. Броглио перехватывал мяч на лету.
Панька стоял сбоку, подперев щёку кулаком, и смотрел, как пущинские игроки проигрывали игру за игрой.
– Эх, ваше благородие, – сказал в перерыве Панька Пущину, – как мяч-то бросаете? Его надо вверх поддавать, чем повыше. Дозвольте мне попробовать.
– Тебе? – удивлённо спросил Пущин. – Ты умеешь играть в лапту?
– Да я с молодых лет, – важно сказал Панька и взялся за палку. Мяч взмыл у него над верхушками лип и плавно начал спускаться на поле.
– Ого! – восхитился Пущин. – За это время весь парк обежишь! Господа, вот кто будет у нас водить! Панька!
– Гм, – не спеша промолвил Корф. – Откуда этот господин?
– Это сын садовника.
– Не знаю, уместно ли брать слуг в лицейскую игру, – проговорил Корф по-французски. – Кто-нибудь из гуляющих может заметить…
– Лапта есть российская народная игра, – отозвался Пущин, – и нет причин отказываться от хорошего игрока. Вам угодно, чтобы Броглио нас постоянно бил?
– Да согласится ли Броглио?
Броглио согласился, посмеиваясь. Но на второй игре его «артель» была бита. Третью игру он выиграл, четвёртую проиграл.
– Господа, этот курносый отлично бьёт, – сказал он, отдуваясь. – А ну-ка, давай мы с тобой померимся, кто дальше пошлёт. Становись!
Состязание продолжалось долго.
Броглио из тридцати ударов проиграл девятнадцать и, в конце концов, загнал мяч в пруд.
– Послушай, ты, иди в нашу артель, – выпалил он.
– Несправедливо будет, ваше благородие, – отвечал Панька, вытирая рукавом пот со лба. – Игроки должны жребий метать, кому куда идти на каждую игру. А то выходит, одни всегда посильней, другие всегда послабей – да таково играть скучно!
Кинули жребий, и Панька попал в «артель» Броглио. Но сам Броглио попал в артель Пущина, и Панька стал начальником «артели». Броглио и Пущин проиграли.
– Фу, чёрт возьми, да он мастер! – сказал Броглио, хлопая Паньку по спине. – Приходи ещё играть, мон шер. Как тебя звать?
– Панька, ваше благородие.
– Ты молодец, Панька!
Игра кончилась.
– Ты дело знаешь, профессор, – сказал Пущин Паньке, – а ещё что умеешь?
– Плавать умею. В свайку умею. В бабки умею. Прыгать умею… – Панька сморщился и со вздохом закончил: – Цветы сажать умею. Розы дамасские, центифольные, французские, чайные, белые, полиантовые багрянцевые и вьюны. Также лилеи. Лилеям есть семь сортов…
Пущин поднял брови.
– Читать умеешь, профессор?
– Никак нет, ваше благородие, нам не положено.
– Это почему же?
– Которые из крестьянов, тем читать не положено.
– Что за ересь? – раздражённо сказал Пущин. – Ты не барский мужик, а дворцовый служитель. Я тебя научу.
– Их высокопревосходительство господин генерал Захаржевский будут сердиться.
– Чушь! Он и не узнает!
Учение, однако, на лад не пошло. Гувернёры косо посматривали на Паньку, и видеться с Пущиным он мог только по секрету, в зарослях, возле «кухни-руины». Наступила зима, а Панька едва выучил азбуку и еле разбирал слова по складам.
Пущин больше на свидания не приходил. Он готовился к экзамену и по целым дням переводил с латыни про Галлию, разделённую на три части. Лицейские приуныли и даже на прогулках молчали и в снежки не играли.
Экзамен состоялся после Нового года. За два дня до экзамена похудевший Пущин шепнул Паньке на ходу:
– Послезавтра с утра приходи, профессор, к дверям большого зала с лицейской стороны. Гости пойдут через парадный вход и тебя не увидят. Пушкин будет стихи читать Державину.
– А коли увидят?
– Ничего. Инспектор разрешил дверь не запирать. Только не входи в зал, а смотри в щёлку.
Панька пришёл поздно. Сторож не хотел пускать его на чёрную лестницу, по которой истопники носили дрова, но Панька сказал, что инспектор разрешил, и его пустили. У дверей большого зала толпились дядьки, все разодетые, припомаженные, в начищенных сапогах.
Панька заглянул в щёлку. У него зарябило в глазах от сияния золотых эполет, шнуров и вензелей. Зал был наполнен гостями, родителями и родственниками. За столом сидели лицейские начальники и профессора в парадных фраках. Лицеисты стеной стояли вдоль окон, все в мундирах, белых панталонах и ботфортах. Лица у них были торжественные и отчаянные.
Спрашивали Пушкина. Поэт стоял перед экзаменатором Галичем, закинув назад растрёпанную голову, и блуждал глазами по потолку и стенам. Видно было, что он страдает.
– Определите, – говорил рыхлый Галич мурлыкающим голосом, – определите, пожалуйста, каковы суть главные качества писателя?
– Главное качество писателя, – отвечал Пушкин, – есть скрытый гений, который проявляет себя в общении с музами неожиданном и высоком… Закона же тут вовсе никакого нет.
Галич торопливо затряс головой.
– Так, так, верно! Но вы забыли, господин Пушкин, ещё одно качество – чувствительность, – сказал он, – чувствительность, которая одна только имеет силу приводить нас в умиление!
Панька понял, что Пушкин ответил не то, что полагалось по учебнику. Галич повернулся всем корпусом к дряхлому старичку в синем фраке со звездою. Старичок, согнувшись, дремал в кресле и кивнул головой в полусне.
– Я полагаю, – сказал Галич, – что следует нам выслушать также опыты сего воспитанника в высоком роде. Господин Пушкин сочинил стихи под названием «Воспоминания в Царском Селе». Осмелюсь просить внимания вашего…
– Выгораживает, – сказал один из дядек вполголоса. – Галич никого топить не станет.
– Он за наших? – спросил озадаченный Панька.
– Дурень! Он справедливый!
Панька оживился. Он желал победы лицейским, как при игре в лапту.
Пушкин кашлянул и неуклюже вытащил из-за обшлага бумажку. Но он не заглянул в неё, а скомкал в кулаке и начал читать, по обыкновению, сквозь зубы, как на уроке:
Навис покров угрюмой нощи
На своде дремлющих небес…
Старичок открыл глаза, посмотрел на Пушкина удивлённо и повернул к нему левое ухо.