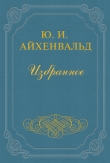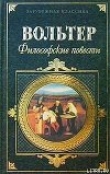Текст книги "Повести"
Автор книги: Лев Рубинштейн
Жанры:
Детская проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 14 страниц)
Пушкин читал, всё больше воодушевляясь:
Голос его становился всё увереннее и звонче. Руки его задвигались, Он говорил о минувшем веке – веке героев, о памятниках царскосельских – о Екатерининском дворце, о великолепной Ростральной колонне на пруду, об Орлове, Румянцеве и Суворове.
Их смелым подвигам страшась, дивился мир;
Державин и Петров героям песнь бряцали
Струнами громозвучных лир…
В зале послышался шёпот. Старичок уронил руки на стол, вперился в Пушкина, улыбнулся и зашевелил губами.
– Старик почтенный кто же будет? – спросил Панька.
– Дурень! Это сам Державин и есть!
Пушкин читал всё вдохновеннее. Голос его звенел металлом. Галич сложил ладони на животе и удовлетворённо покачивал головой в такт.
Пушкин читал о нашествии Наполеона, о родной Москве, окровавленной и сожжённой, о победе над врагом и о призвании поэта —
И ратник молодой вскипит и содрогнётся
При звуках бранного певца.
Державин поднялся и протянул обе руки к Пушкину. Пушкин дико посмотрел кругом и вдруг заметил, что в зале сидит множество людей, что за столом экзаменаторы, а у Державина на щеке слеза.
Он тряхнул кудрями и бурно устремился к выходу из зала.
Среди гостей прокатился гул.

– Что же ему за это будет? – в ужасе спросил Панька.
– Дурень! Видишь, Державин хотел Пушкина обнять! Даже слеза его прошибла!
«Ну, слава богу, наша взяла», – подумал Панька.
На следующий день Панька подошёл к Пущину и рассказал ему про всё, что видел в щёлку.
– Теперь их благородие господин Пушкин из лицейских будут самый главный? – спросил Панька.
Пущин улыбнулся.
– У нас главных нет, – сказал он, – у нас, в Лицее, республика… Пушкин, конечно, гений. А нам, обыкновенным людям, следует о другом думать – о назначении нашем в жизни. Мы уже не дети.
Панька не понял.
– Вырастешь, поймёшь, – добавил Пущин и отошёл.
«ЛИЦЕЙСКИЙ МУДРЕЦ»
У лицейских появился свой журнал. Это была книжка в красном сафьяновом переплёте. На переплёте были вытиснены буквы «Лицейский Мудрец» в золотом венке и год «1815». Страницы были переписаны аккуратной рукой лицеиста Данзаса, который по успехам был на последнем месте, но зато отличался превосходным почерком. Он так и написал в заглавии: «Печатано в типографии Данзаса».
Журнал помещал стихи и прозу, откликался на все лицейские события. В нём появилась статья под названием «Борьба двух монархий».
«Тебе известно, – сообщал „Лицейский Мудрец“, – что в соседстве у нас находится длинная полоса земли, называемая „Бехелькюкериада“, производящая великий торг мерзейшими стихами… В соседстве сей монархии находится государство, называемое „Осло-Доясомев“… Последняя монархия, желая унизить первую, напала с великим криком на провинцию „Бехелькюкериады“, но зато сия последняя отомстила ужаснейшим образом: она преследовала неприятеля и, несмотря на все усилия королевства „Рейема“, разбила его совершенно при местечках „Щека“, „Спина“ и пр. и пр… Снова начались сражения, но по большей части они кончились в пользу королевства „Осло-Доясомева“… Наконец, вся Индия пришла в движение и с трудом укротила бешенство сих двух монархий, столь долго возмущавших спокойствие Индии».
Все понимали, что «Бехелькюкериада» – это Кюхельбекер; «Осло-Доясомев»– Мясоедов; «Рейем» – гувернёр Мейер; «Индия» – Лицей.
При этом сообщении помещён был рисунок, изображавший Кюхельбекера, который с вытаращенными глазами наступает на Мясоедова. У обоих бойцов пребольшие кулаки и престрашные лица. Вокруг Кюхельбекера рассыпаны листы мелко исписанной бумаги – вероятно, его стихи. «Осло-братец» Мясоедов изображён с длинными ослиными ушами. Вдали виден Мейер. У гувернёра волосы стоят дыбом от усилий растащить сражающихся. Ничего у него не получается.
Война между Кюхлей и «ослобратцем» возникла из-за басни, которую неожиданно сочинил Мясоедов. Басня эта была направлена против рисунков Илличевского. Художник всегда изображал Мясоедова в виде осла. «Нет, оба мы ослы, – писал Мясоедов, – вся разница лишь та меж нами, что ты вскарабкался на высоты, а я стою спокойно под горами…»
– Глупо! – сказал на это Вильгельм. – Мясожоров сам признал себя ослом в журнале!
Мясоедов обиделся вдвойне: во-первых, за то, что его оскорбили, а во-вторых, за то, что оскорбил его Кюхля.
– По крайней мере, я себя показываю ослом в журнале лицейском, а ты в журналах настоящих! – завопил он.
Он намекал на три стихотворения Вильгельма, которые были напечатаны в московском журнале.
Поэты напали друг на друга, и произошло ужасное сражение, описанное в журнале Данзасом.
– Жанно, останови их, – потребовал Дельвиг.
– Надоело мне с дурнями возиться, – отвечал Пущин. – Они сами остановятся, когда поймут, что мы уже не детки.
Это была любимая фраза Жанно. В последнее время он всем напоминал о взрослости.
Настоящей взрослости у лицейских ещё не было, но «война двух монархий» была последней дракой старшего курса. Сам Кюхельбекер завёл к себе в комнату Пущина и Пушкина и признал, что вёл себя недостойно и что настало время заняться «возвышенным».
И он показал друзьям свой словарь, он же «лексикон».
Это была толстая тетрадь. В неё Кюхля помещал выписки из книг, которые он читал. А читал он больше всех в Лицее. Выписки шли по алфавиту заголовков. Например, под заголовком «Сила и свобода» было списано из сочинений французского философа Руссо: «Первое из благ не есть власть, но свобода».
– А ты не хотел бы власти? – спросил Жанно.
– О нет! Зачем она мне?
– А славы?
Кюхля задумался.
– Мне только для того нужна слава, чтобы находить сочувствие людей порядочных, – твёрдо проговорил он.
Жанно это понравилось.
– Свобода – это главное, – сказал он, – остальное пустота.

Под заголовком «Правители» у Кюхли было несколько фраз о преступных правителях и сказано было, что преступный правитель хуже вора и убийцы.
– Кто примером? – спросил Пушкин.
– Король из шекспировой трагедии «Гамлет», который брата своего тайно отравил, дабы завладеть престолом.
– Так это из трагедии! А у нас на самом деле был царь Борис, – весело сказал Пушкин.
– Какой же он преступник?
– Приказал царевича Дмитрия зарезать. Не знаешь?
– Я слышал, – рассеянно отозвался Кюхля.
Кюхля читал свой словарь долго. Тут были всякие заголовки: «Естественное состояние», «Обязанности гражданина», «Знатность происхождения». Про знатность было сказано, что истинно знатен тот, кто подражает великим. Например, ежели ты подражаешь Бруту или Теллю, то можешь считать их своими предками…
– Ну, это блажь, – насупившись, промолвил Пушкин, – мои предки не Брут и не Телль, но нет причины мне от своих предков отказываться!
– Тут сказано не об обычных предках, а о предках по духу, – пояснил Кюхля.
– Какой ты просвещённый, – сказал Жанно, – а затеваешь позорные побоища с Мясожоровым…
Кюхля вспыхнул.
– Я вёл себя глупо, – воскликнул он, – и впредь драться ни с кем не буду, кроме как на благородных дуэлях! И обещаю в будущем посвятить себя только высокому и прекрасному!
– Давайте все поклянёмся! – предложил Жанно.
Они соединили руки. С серьёзными лицами обещали они заниматься «возвышенным» и посвятить себя дружбе вечной и отечеству просвещённому. Договор этот, по желанию Вильгельма, был объявлен тайным.
Жанно бродил по паркам один.
Может быть, это было потому, что за лицейскими старшего курса меньше смотрели, а может быть, и потому, что лицейские теперь редко ходили гурьбой.
Липы и вязы стояли в золоте. В полутёмных аллеях и рощах стало светлее. Коричневые тени бегали по розовому песку. Ветер стал сильнее, пруды рябило, волны плескались у подножия статуй. На чугунные скамейки изредка сиротливо залетал жёлтый лист. В Софии, в гусарских казармах, протяжно и напряжённо пела труба.
Будущее Саши Пушкина ясно – он настоящий, чудесный поэт.
А будущее Жанно?
Бедному Жанно иногда становилось стыдно перед лицейскими. У каждого было «своё»: у Пушкина, Дельвига и Кюхельбекера – стихи, у Матюшкина – корабли. Горчаков, конечно, будет дипломатом, Корф – чиновником, Яковлев – музыкантом. А у Жанно одна мечта сменяла другую – то офицером, то оратором, то судьёй, то сенатором, то…
– Пущин будет мудрецом, – сказал однажды Дельвиг, – он умнее всех нас.
Но что такое быть мудрецом? На царской службе мудрецы не надобны.
Ах, если бы старший курс продолжал бы своё «общее дело» и после Лицея! Тогда нашлось бы место для Пущина. Так и жить в вольной компании лицеистов – людей, которые не выдадут, не продадут, поддержат, обнадёжат…
Впервые Жанно подумал о том, что лицейские дни через два года кончатся и не будет больше общей жизни. Лицеисты разойдутся в разные стороны… И останется только память – память о сдержанном, умном, ныне покойном директоре Малиновском; о бледном, воодушевлённом Куницыне; о длинных коридорах и просторных залах лицейского здания; о статуях древних мудрецов и богов; о мечтах, фантазиях и «идеях» – тех идеях, которые так не нравились Пилецкому и Фролову. А потом и память постепенно исчезнет…
Блуждая по пустым аллеям, Жанно вдруг наткнулся на Паньку и едва ответил на его «желаю здравствовать, ваше благородие!».
– Панька, – внезапно спросил Жанно, – ты кем будешь?
– Садовником, – мрачно ответил Панька.
– А кем хочешь быть?
– Не могу знать, ваше благородие.
– Вот и ты не знаешь, – сказал Жанно, – а пора подумать.
– Я уж думал, ваше благородие. Хотел на флот. Да никуда не пустят из Царского Села.
– Кто же тебя не пустит?
– Начальство не пустит. У нас не спрашивают. Вам-то хорошо, вы люди вольные. А мы садовники.
– Разве мы вольные? – спросил Жанно.
Панька не отвечал. Жёлтый лист продолжал тихо падать на дорожки.
Жанно вдруг вспомнил деда-адмирала. Дед умер в конце 1812 года. Жанно повезли в Петербург, но он не узнал собственного дома. Все двери были раскрыты, полы устланы ельником. В комнатах было холодно. Дед лежал в большом зале в гробу. Вокруг гроба горели днём большие свечи, и священник что-то бормотал по книге. Лицо у деда было жёлто-серое, тихое и величественное.
Жанно припал к его ледяной руке и всхлипнул. И тут ему показалось, что он слышит голос деда:
«Не предавайся чувствам, но исполняй долг свой, сообразуясь с разумом…»
Прав был дедушка! Никогда не давать воли чувствам! Прежде всего разум! А там будь что будет!
КАК ПОССОРИЛИСЬ ДВА СОСЕДА

О четвёртую годовщину Лицея воспитанники поставили театральный спектакль. Это была комедия Шаховского «Ссора, или Два соседа».
Комедия была коротенькая, всего одно действие. Но готовили её всё лето.
Главными лицами в комедии были два старых чудака-помещика – охотник и собачник Вспышкин и судейский крючкотвор Сутягин. Они поссорились из-за козла и собаки. Из-за этой ссоры сын Сутягина Виктор и дочь Вспышкина Оленька не могут пожениться. Дядя Оленьки, отставной капитан Брустверов, увёз племянницу, чтобы выдать её замуж за Виктора, но она отказалась от свадьбы без согласия отца. Что делать? Вспышкин ведь ни за что не выдаст дочь за сына своего врага…
Вспышкина играл Илличевский, Сутягина – Яковлев, Брустверова – Пущин. Матюшкину, за малый рост и высокий голос, поручили играть Оленьку. Он сразу же согласился. Но когда Вильгельму предложили играть хитрую жену смотрителя почтового двора Орефьевну, он закипел.
– Это издевательство! – кричал он. – Кто придумал дать мне женскую ролю? Я вовсе могу не играть на театре, я не комедиант!
– Все мы не комедианты, – возразил Пущин. – Ежели тебе охоты нет, мы назначим на это место Корфа, он уже просил.
Вильгельм сразу остыл:
– Корфа?! Как бы не так! Он не может разобраться ни в каком роде искусства. Нет, нет, с Корфом вся затея распадётся! Корф… тьфу!
– Когда так, соглашайся!
– Но надо мной будут смеяться!
– Виля, ты чудак, – ласково сказал Пущин, – в комедии и надо, чтобы смеялись. А откажешься, всех нас собьёшь, и будет это не по-товарищески.
Кюхля вздохнул и согласился.
Действие комедии происходит на почтовом дворе в проливной дождь. Брустверов и Виктор умоляют Оленьку дать согласие на брак. В эту минуту вбегают простые люди Угар и Кондрат и сообщают, что Сутягин и Вспышкин гонятся за сбежавшими детьми.
Тут артисты зашли в тупик. Кто же будет играть простых людей? Ни один лицеист на это не согласится!
– Раз нужно играть слуг, пусть слуги и играют, – сказал Пущин.
– Как, слуги чтоб играли вместе с лицейскими? – удивился Илличевский. – Знаешь ли ты, что говоришь?
– Однако выхода другого я не вижу, – отвечал Пущин.
Спектакль едва не отменился. Но в конце концов решили помириться с тем, чтоб позвать слуг.

– На здешнем театре крепостные играют и поют, – объяснял Пушкин, – да ещё как! А всего у слуг Угара и Кондрата несколько слов. Их и не заметят.
Кондратом назначили швейцара Якова, который немного грамоту знал. А Угара приказали играть… Паньке! Жанно объяснил ему:
– Как Виктор спросит: «Угар, что сделалось?» – поклонись и скажи: «Ничего, сударь! Только батюшка ваш поведал, что вы уехали по Белевской дороге, разгневался, приказал заложить шестёркою коляску, забрал все свои бумаги и хочет вас догнать, схватить да отдать под суд»… Понял?
– Как не понять, понял, ваше благородие!
– Ну, проверим… Вот я Виктор. «Угар, что сделалось?»
Панька поклонился в пояс.
– Беда, ваше благородие! – воскликнул он. – Батюшка ваш прямо в Царское Село скачет, хочет ваши бумаги схватить да директору показать! Бегите что есть мочи из Лицея, а то отдадут под суд!
– Что ты сочиняешь? – озадаченно спросил Жанно. – При чём тут Лицей?
– Прощения просим, ваше благородие, я думал про Лицей. А то ведь зачем людям столько беспокойства?
Жанно спохватился, что не объяснил артисту, что он должен изображать. Через полчаса Панька уже знал свою роль.
Комедию играли днём 19 октября. Декорацию нарисовал Илличевский на ширмах, оклеенных бумагой. Вместо занавеса была повешена поперёк зала парчовая портьера. Занавес раскрывал Дельвиг. Он же подсказывал артистам из-за кулис, что говорить.
Зал был набит гостями, главным образом пожилыми, придворными дамами, набелёнными и напудренными. В их руках мерно колыхались веера. Лицеисты постоянно видели этих дам на прогулках, возле прудов. Они передвигались с зонтиками и собачками, а лакеи несли за ними корзинки с рукоделием и шёлковые накидки. Пущину иногда казалось, что в затейливый царскосельский парк пустили не людей, а заводных кукол. И сейчас они сидели в креслах, выпрямившись, как куклы, а в воздухе, словно ветерок, порхали французские фразы.
Спектакль шёл как по маслу до той минуты, когда на сцене появился Вильгельм. Поглядев на публику, он остановился, заколыхался и беспомощно поглядел на Дельвига. Дельвиг шёпотом подсказывал ему роль, но Кюхля был глуховат. Не расслышав, он пустился во все нелёгкие и стал сам выдумывать текст.
В шестом явлении вместо слов Орефьевны: «Вот он, расскажи ему всё», Кюхля объявил:
– Явился к вам гонец и ждёт у врат почтовых!
Дельвиг округлил глаза и замахал бумагой. Пушкин, стоявший за ширмой, прикрыл рот обеими руками и затрясся от беззвучного хохота.
– Спасай, Панька! – шепнул Яковлев и хлопнул Паньку по спине.
Панька колобком выкатился на сцену. Услышав привычные слова Виктора: «Угар, что сделалось?» – он испуганно оглянулся на Дельвига и гаркнул на весь зал:
– «Сударь, не извольте беспокоиться! Батюшка ваш проведал!»
– … «Что вы уехали по Белевской дороге», – сипел из-за кулисы Дельвиг.
– «Что вы уехали по Белевской дороге! Разгневался, страсть! Хочет вас догнать, схватить…»
Тут Панька забыл, что ещё хочет сделать батюшка, и обернулся было к Дельвигу, но Вильгельм, нетерпеливо топнув ногой, произнёс басом:
– Не ври! Сей старый крючкотвор уж прямо в суд поехал! Разве Шаховской по-настоящему-то напишет?
В зале послышался смех. Дельвиг хотел закрыть занавес, но Пущин махнул ему рукой и пустился на сцену, как на поле сражения.
Ему удалось восстановить порядок. Прибыли враги Вспышкин и Сутягин, поссорились и нехотя сели за стол. Вильгельм – Орефьевна внёс яичницу почему-то сковородой вверх, помедлил и с оторопелым лицом брякнул её на стол. Илличевский – Вспышкин посмотрел на Вильгельма сердито, есть не стал, а послал за выпивкой.
Промокшие в пути враги выпили вместе и стали мириться, так и не отведав яичницы.
Спектакль подходил к концу. Пущин – Брустверов объявил: «Дети, сюда, к отцам!» Вошли Виктор и Оленька и встали на колени. Помирившиеся отцы благословили детей. Брустверов подошёл к краю сцены и проговорил:
– «Э, брат! Худой мир лучше вздорной ссоры!»
И тут сзади послышался голос Кюхельбекера:
– А комедия пустая!
На этом Дельвиг закрыл занавес.
«ОНА»

«Светским людям» в Лицее положительно повезло с приходом нового директора Егора Антоновича Энгельгардта.
Безначалие и своевольство, на которые так жаловался инспектор Фролов, кончились. Начались новые, блестящие времена.
Директор являлся в зал после вечернего чая в светло-синем фраке с чёрным стоячим воротником и золотыми пуговицами. На нём были чёрные шёлковые чулки и башмаки с пряжками. Волосы его были зачёсаны по-модному, к бровям, в руке он держал серебряный лорнет.
– Ничем не похож на Малиновского, – шепнул Пушкин Пущину.
– Лучше или хуже?
– Он мне не нравится.
Вильгельму новый директор тоже не понравился. Не понравился он сначала и Жанно. Но потом Жанно переменил своё мнение – уж очень любезен оказался новый директор.
Он всегда улыбался, почти всегда. Улыбаясь, перелистал он журнал «Лицейский Мудрец»; улыбаясь, выслушал стихи Кюхельбекера, поздоровался отдельно с каждым лицеистом старшего курса, похвалил Горчакова и Вольховского за успехи; улыбаясь, вспомнил об истории с гоголем-моголем; улыбаясь, намекнул на непорядки в спектакле «Ссора»…
– Надеюсь, непорядков больше не будет, господа, – сказал он, – и прошу вас не бояться меня. Я не стану вводить строгостей, потому что для меня славный Лицей не республика, как для вас, – в этом месте Егор Антонович весело улыбнулся, – а единая семья! Да, господа, семья, в коей вы братья, а я отец! Да, господа, настоящее повиновение – только добровольное! Сие следует твёрдо усвоить в вашем раннем возрасте…
– Да ведь мы уже взрослые! – воскликнул Жанно.
Энгельгардт посмотрел на него с лёгкой усмешкой.
– Вы, пожалуй, слишком взрослые, – сказал он. – Желал бы я видеть вас достойными юношами, а не рано созревшими мыслителями.
Мягкая, но настойчивая рука нового директора чувствовалась везде. Прекратилась жизнь «вольных студентов» и ночные прогулки без гувернёров. Присмирел и Фролов.
Никакого обучения строю не было, потому что директор не любил военных порядков. Он всегда и повсюду присутствовал. Каждый лицейский воспитанник мог к нему обратиться. Он на всё обращал внимание, даже на танцы.
Из всего старшего курса хорошо умел танцевать только один Горчаков.
– Это непростительно, – сказал Егор Антонович, – я не желаю готовить вас к обращению с одними книгами да бумагами. Лицейские должны быть людьми и образованными, и разумеющими светское обхождение. Танцы, разумные беседы, посещение почтенных семейств – всё это обязательно! Следует с честью носить мундир лицейский!
Лицейские изучали новомодный танец мазурку, недавно завезённый из Польши гусарами. Лучше всех танцевал мазурку Пушкин, хуже всех Кюхельбекер. Пущин танцевал не худо, но без всякого интереса.
– Раньше толковали о гражданском воспитании, а теперь делают из нас светских любезников, – сказал он Дельвигу.
– Энгельгардт возвышенного не понимает, – отвечал Дельвиг. – Но человек он порядочный, да с ним весело!
С Егором Антоновичем и впрямь было весело. Он завёл катанье на тройках.
Жанно на всю жизнь запомнил это зимнее катанье по широким дорогам, между двумя стенами елового бора. Тройки неслись, как пушечные ядра, мимо вытянутых по линейке просек в густом лесу. Снег бил в лицо из-под копыт, ямщики покрикивали. Навстречу ветру, морозу, розовому январскому солнцу летели сани с лицейскими, закутанными в тёплые полушубки. Хоровые песни неслись вместе с санями в синем воздухе. Мужики на перекрёстках снимали шапки и кланялись.

Пили чай в сторожках лесничих, играли на гитаре, плясали и читали стихи. Под конец Энгельгардт возглашал: «Домой и да здравствует Лицей!» И с криками «ура!» поезд саней с той же скоростью возвращался в притаившееся под серебряным снегом Царское Село.
В Царском Селе лицеисты посещали знакомые дома. На этих вечеринках раздолье было Яковлеву с его песенками под гитару. Стихов не читали, зато разыгрывали в лицах французские шарады. Брали слово «пуассон» – «рыба» – и раскладывали его на два слова – «пуа» (вес) и «сон» (звук). «Вес» изображал самый грузный лицеист Броглио, да ещё обложенный подушками. Он играл древнегреческого бога виноделия Диониса. Являлся он на сцену-с шестом, обвитым виноградной лозой, делал вид, будто опьянел, и тяжело падал на подпиленную скамью, которая под ним подламывалась. Во второй картине гасили свет, и Яковлев, сидя за диваном, щипал гитару – это был «звук». Целое было похоже на балет и изображалось девицами, одетыми под рыбок. Они скользили под звуки фортепьяно.
– Я уже понял, – шептал Матюшкин Дельвигу, – это «пуассон» – «рыба».
– А я с самого начала знал, – презрительно отвечал Дельвиг.
– Забавы для маленьких, – говорил Пушкин.
Пушкин, Вольховский и Пущин ходили в гости в Софию, к офицерам. Там было куда интереснее.

Иван Григорьевич Бурцов жил в отдельном домике, в комнатах, увешанных коврами. В этой «пещере» Бурцова всегда было полутемно и горели свечи. На стенах грозно поблёскивало оружие – длинные французские палаши,[23]23
Палаш – прямой меч с острым концом, дающий возможность и рубить и колоть.
[Закрыть] изогнутые восточные сабли, пистолеты. Был немецкий кинжал с загадочными знаками на рукоятке. Иван Григорьевич объяснял, что эти знаки обозначают «свободу, честь, отечество и гибель тирана». Тиран был Наполеон.
Бурцов восемнадцати лет от роду вступил добровольцем в армию и сражался с наполеоновскими войсками в России и Германии. Он был отменным храбрецом. В двадцать два года он был уже майором и имел несколько боевых орденов. Лицейские часами слушали его рассказы о схватках, стычках, ночных нападениях, лазутчиках, набегах, патрулях и восстаниях.
– Да, мы без дела не сидели, – говорил Бурцов, приглаживая густые, каштанового цвета бакенбарды. – Как сейчас помню, под Гамбургом…
И он рассказывал, как немецкие юноши, поклявшись на кинжалах, нападали из-за угла на наполеоновских генералов и «разили их клинком прямо в грудь».
– Этот самый кинжал трижды был обагрён кровью неприятелей! А хозяин его был расстрелян у церковной стены!
– Как же достался вам этот кинжал, Иван Григорьевич?
– О, да это история! Мы в тот же день отбили его у французских кавалеристов, и явился я к друзьям расстрелянного юноши, держа в руках сей знак доблести. А они просили меня принять священный кинжал в дар и намять. И клянусь, друзья мои, слёзы потекли у меня из глаз. Нет, мы не варвары! Мы уважаем храбрость и верность отчизне!
Слова у офицеров были не те, что в Лицее у Энгельгардта. Доблесть, храбрость, честь, верность! Смерть тирану! Гибель деспотам! Отечество и… «она»!
Слово «она» было секретное. Это слово означало «вольность». Произносить его не полагалось. Поднимали тост за…
Тут наступало молчание. Все обменивались взглядами и осушали бокалы с вином.
И снова говорили о войне.
Жанно услышал про 1812 год совсем не то, что писали в журналах. Офицеры открыто говорили о Барклае, несправедливо обиженном, и о «некотором лице», которое во время войны трусливо отсиживалось в своём дворце…
Жанно не спрашивал, кто это «лицо». Он знал, что это царь.
В доме Бурцова Жанно впервые услышал стихи запрещённого поэта Радищева:
Вокруг престола все надменна
Стоят коленопреклоненно;
Но мститель, трепещи, грядёт,
Он молвит, вольность прорекая,
И се молва от край до края.
Глася свободу, протечёт…
Стихи эти дали прочесть Саше Пушкину, и он прочитал взволнованным голосом. Офицеры сидели в расстёгнутых мундирах и молча дымили длиннейшими трубками – чубуками.
– У нас тоже вот какие были! – воскликнул Жанно.
Офицеры переглянулись и усмехнулись.
– Всякие у нас были, – уклончиво сказал Бурцов и забрал у Пушкина листок. – Славно написано, – прибавил он, – но вы, юноши, о сем молчите, если молчать умеете…
Пушкин и Вольховский хотели было поклясться, но Пущин их остановил.
– Хватит клятв, – заявил он, – точно мы болтуны!
Бурцов посмотрел на него.
– Здраво и умно, – сказал он, – вы не болтуны.
Вот где оно, настоящее «дело общее»! Это не шарады, не стихотворные состязания, не лицейские кружки, не школьная болтовня! Это высокая цель – таинственная, взрослая и полная новых обязанностей.
Впервые Жанно стал уважать самого себя. Так! Он будет участником общего дела, как эти прекрасные офицеры, которых крепко спаяла война! Вот его, Ивана Пущина, предназначение! Вот жизнь!