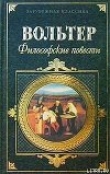Текст книги "Повести"
Автор книги: Лев Рубинштейн
Жанры:
Детская проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 14 страниц)
ПОВЕСТИ
ОБ АВТОРЕ ЭТОЙ КНИГИ
Однажды автор этой книги сказал нам в редакции:
– Знаете, я ведь по-настоящему путешественник! Только путешествую я не в пространстве, а во времени. Когда вы говорите со мной по телефону, это вовсе не значит, что я здесь. Я, может быть, нахожусь где-нибудь под Полтавой или в пушкинском Лицее.
Конечно, это было сказано в шутку, но Льву Владимировичу Рубинштейну и в самом деле на месте не сидится. Миновало 45 лет с тех пор, как он отправился в своё первое, очень далёкое путешествие, не покидая письменного стола.
Тогда ему было 25 лет, сейчас ему 70. За это время он объездил много эпох и рассказал о жизни многих народов. Он и в самом деле много ездил, но всегда оставался историком.
Больше всего писал он об истории России, об её полководцах, флотоводцах, писателях, музыкантах, строителях и творческих людях.
Во всех этих книгах любовь к труду, любовь к родине, любовь к людям – людям с умом и душой – сливаются в единое целое.
«Если хочешь быть достойным великого отечества своего, – словно говорит нам автор, – сделай что-нибудь хорошее для людей. Сделай самое лучшее, что ты можешь».
Так говорит он обо всём, что вы найдёте в этой книге. У него Петр I не столько царь, сколько работающий и любознательный московский мальчик.
Белорусский деревенский паренёк Алесь скачет по воюющей России с сумкой, в которой не пули, не порох, а буквы новой азбуки.
А вот целая вереница мальчиков из Царскосельского Лицея, которых хотели сделать чиновниками, а вышли из них славные русские революционеры и поэты.
Вся эта книга построена на одной теме: как учились в России подростки, кем они хотели быть и кем стали.
Не думайте, что писателям легко писать. Конечно, перед вами не научные труды, но все эти книги написаны с точным знанием разных эпох, фактов и характеров, и в них вложены годы упорного труда.
Но это не просто прилежная работа. В этих книгах есть любовь к самому «рассказыванию», к тому, что называется литературой, и к вам, читателям, которым эти книги адресованы.
А написаны они по-разному.
В «Дедушке русского флота» действие происходит в «сухопутной» Москве, но во всей этой небольшой книжке невидимо присутствует старинная российская тяга к мореплаванию, к строительству кораблей, к предприятиям далёким и смелым.
– Мне нравится эта книжка, – заметил как-то автор, – в ней сыростью пахнет…
«Азбука едет по России» написана по-другому. В этой повести герои создают печатное слово, следуя по стопам первопечатника и просветителя Ивана Фёдорова, стараются вложить «гражданскую» книгу в руки читателя. Тут даже язык другой – более цветистый и энергичный.
«В садах Лицея» – повесть о юности Пушкина, Кюхельбекера, Пущина и их друзей. Это уже начало расцвета знаменитой русской литературы и свободолюбия. У автора словно меняется манера говорить. Мы как будто не книгу читаем, а ходим вместе с ним по вольному воздуху царскосельских парков. Наш провожатый, человек слегка насмешливый, но добродушный, вводит нас в комнаты лицеистов. Мы слышим их звонкие голоса, мы вглядываемся в их лица. Это разные характеры, но всех их объединяет крепкая лицейская дружба.
Автор и сейчас продолжает своё повествование о том, как учили и учились в России, и собирается делать это и в дальнейшем. Он всегда пишет о близком и далёком так, как будто сам там был.
– Я всё ещё учусь, – сказал он нам недавно, – но кое-что я уже начинаю понимать.
Итак, переверните страницу и отправляйтесь вместе с автором путешествовать по истории.
ДЕДУШКА РУССКОГО ФЛОТА
1. ДЕЛА СУХОПУТНЫЕ

На восточной окраине Москвы, за Сокольниками, у Матросского моста, тянется вдоль речки Яузы длинная набережная.
Невдалеке от неё, на оживлённой улице Стромынке, шумят машины, гремят трамваи. Но здесь, на набережной, движение небольшое. Тихая Яуза почти незаметно несёт свои медлительные воды к Москве-реке.
Эта набережная называется Потешной.
Два с половиной столетия назад на этом месте стояла игрушечная крепость Пресбург.
Крепость была сделана как самая настоящая крепость. Только размером она была маленькая, и всё в ней было маленькое: неглубокие рвы, некрутые валы, невысокие стены. Над крепостью реял маленький флаг. В этой крепости молодые солдаты, пятнадцати – девятнадцати лет, вели друг с другом ненастоящую войну.
В крепости возле небольших башен, у подъёмного моста, стояли пушечки, которые стреляли порохом и бумажными снарядами. Густой дым поднимался вверх, к флагу, который защитники ни за что не хотели спускать. Потом начался штурм, и осаждавшие, вооружённые деревянными пиками, бросились на стены и после ожесточённого боя ворвались в крепость.
Их вёл рослый мальчик в узком зелёном кафтане. Он был обут в высокие, выше колен, сапоги. В руках у него была игрушечная шпага. Свою треугольную шляпу он потерял в пылу боя. Его длинные тёмные волосы развевались по ветру. «За мной, молодцы!» – кричал он, прыгая на вал, за которым стояли защитники крепости.

Наконец крепость была взята. Победители и побеждённые выстроились на площади и прошли маршем мимо командующего – долговязого человека в затейливой шляпе с пером. Били барабаны, трубили трубы. Солдаты пиками салютовали командующему. После парада он обнял мальчика, который вёл солдат на штурм, и сказал:
– Поздравляю, Пётр Михайлов, крепость лихо взяли!
Село на берегу Яузы, в котором происходила эта война, называется теперь Преображенской заставой города Москвы. А тогда это было царское село Преображенское. Москва виднелась вдалеке, километрах в четырёх. Это был деревянный город с крутыми крышами, со множеством белых стен, башен, садов. Над Москвой поднимался высокий Кремль, и ветер доносил оттуда перезвон колоколов. А в Преображенском пели петухи, гудели на Яузе водяные мельницы. Ветер шумел густой листвой в яблонях, над пасекой, над огородами, скотным и соколиным дворами, над затейливой узорной крышей деревянного царского дворца.
Утро в Преображенском начиналось с трубного сигнала и барабанной дроби. По улицам, поднимая высокие столбы пыли, маршировали солдаты в зелёных мундирах, с белыми и красными портупеями.
Проходя мимо «Капитанского дворца», который стоял отдельно, неподалёку от царского, они поднимали вверх пики и ружья. На крыльцо выходил генерал в шляпе с пером.
Среди сержантов в строю стоял и Пётр Михайлов, в треугольной шляпе, с саблей наголо. Затем начинался развод караулов.
Как-то утром на извилистой дороге заклубилась пыль. Из Москвы ехал длинный поезд – рысью скакали всадники в ярких кафтанах, жёлтых и красных, шитых золотом.
В центре группы всадников, тяжело переваливаясь, ехала по ухабам огромная золочёная карета. Карета была вся расцвечена узорами в виде листьев, на крыше сверкали четыре золотых шара, из них торчали метёлки разноцветных перьев. Три пары откормленных коней везли эту блистающую карету. На передней лошади сидел всадник и непрерывно свистел.
Уже издали было слышно, что едет не какой-нибудь простой человек, а важный боярин.
На заставе возле Преображенского карету неожиданно остановили. Два солдата, скрестив свои пики перед всадниками, спросили, кто, куда едет и пропуск.
– Ума рехнулись? – закричал один из всадников. – Не видите, что ли? Едет знатный боярин Троекуров к государыне царице Наталье Кирилловне! Какой ещё вам пропуск?
– Браниться не велено, – ответил караульный, – а без пропуска не пустим.
На шум перебранки подошёл «капитан» – загорелый мальчишка лет шестнадцати, в треуголке, лихо надетой набекрень.
В эту минуту дверца кареты приоткрылась, и показалась огромная боярская борода. Белая рука, унизанная кольцами, неторопливо её поглаживала.
– Без пропуска нельзя, – упрямо сказал капитан. – Таков генеральский указ.
– Федька, – прогудел боярин густым басом, – побойся ты бога, родного отца не узнал! Погоди, уж я до тебя доберусь! Я те покажу с конюховыми детьми в игрушки играть!
Молодой капитан, однако, не смутился.
– Ничего не знаю, – сказал он. – Отец ли, чужой ли человек, а только для проезда на полковой двор надобен пропуск, по-другому называется пароль. А кто того пароля не знает, велено тащить в съезжую избу,[1]1
Съезжая изба – административная канцелярия, в которую приводили в чём-либо провинившихся людей.
[Закрыть] и пущай господин генерал сам разберётся. А мы караул, у нас указ есть.
– Меня, боярина Троекурова, в съезжую избу? Видать, у тебя, парень, в голове шумит. Не поеду!
Капитан нахмурился:
– Как знаете, а только пустить не могу.
– Отца-то родного! Срам! Навеки срам перед людьми!
– Ежели кто будет шуметь или браниться, – сказал капитан, – то указано бить в барабан и всё войско поднимать к ружью.
Боярин зажал бороду в кулак и минуты две разглядывал своего сына.
– Новомодные обычаи: кафтан до колен, рукава до ладоней, на голове гнездо воронье! Разодели боярского сына!
– У нас таковых слов не любят, – спокойно ответил капитан. – Мы государево войско, а кому не нравится, милости просим – до Москвы три версты.
– Охальник! – рявкнул боярин. – Погоди уж, доберусь до спины твоей! Вези отца родного на съезжую! Согласен!
Капитан сделал знак караулу, и карета своротила направо, по «Генеральской улице», в конце которой возвышался деревянный дом с башенкой. Над башней трепетало большое знамя.
Это и была съезжая изба, штаб петровского потешного войска.[2]2
Потешное войско – войско, состоявшее из детей, сверстников Петра I, и служившее для военной игры
[Закрыть]
Боярина отпустили не скоро. Его спросили, к кому и за каким делом едет и надолго ли. Солнце поднялось уже высоко над Яузой, когда Троекурова ввели в комнаты царицы Натальи. Царица показалась из маленькой двери, и все поклонились ей в пояс.
Боярин сразу принёс жалобу, что его-де, родовитого боярина, потащили в съезжую избу, на допрос, и кто же? Не кто иной, как собственный сын! И что он, боярин, просит непокорного сына отпустить из полка к нему, родителю, на исправление, чтобы сын и вовсе не отбился от родительской власти.
Царица Наталья, нестарая ещё женщина, с большими, вечно испуганными глазами на бледном лице, вздохнула и потупилась.
– Проси его царское величество, – сказала она тихо. – Царю Петру всего шестнадцать годков, а уж он и сам-то от родительской власти отошёл. Видишь, у нас вся жизнь по пушке да по барабану. Мы, матери, тут не хозяйки. Того и гляди, в воинской потехе шею свернёт или в Яузу свалится. Разве за ним уследишь?
Но боярин не мог успокоиться. Он перечислял все свои заслуги, возмущался новыми порядками, ругал пушечную забаву и фейерверки, которыми честным людям бороды палят, бранил зелёные мундиры, треугольные шляпы и короткие рукава.
Он требовал, чтоб сынка вернули к обычной, спокойной жизни, как исстари повелось: чтоб мальчик сидел взаперти, под родительским наблюдением, свято соблюдал посты и праздники и женился вскоре на той девице, которую ему родители подберут.
Да и пора его женить – уж ему шестнадцать лет! Статочное ли дело, чтоб такой взрослый парень в военные игрушки играл с солдатами, набранными из простого народа, из детей конюхов и слуг?
Тут дверь раскрылась, и в комнату широкими шагами вошёл бомбардир[3]3
Бомбардир – звание нижнего чина в артиллерии петровской армии, соответствовавшее ефрейтору в пехоте.
[Закрыть] Пётр Михайлов, очень высокий, худощавый юноша с блестящими чёрными глазами. Это был тот самый юноша, которого мы видели при штурме игрушечной крепости Пресбург. Все находившиеся в комнате поклонились ему в пояс.
– Что, боярин, – сказал Пётр, – не нравится тебе моё хозяйство?
– Помилуй, государь… – пробормотал боярин, не зная, что ответить.
Это был царь. Только он поступил на военную службу простым пушкарём, под именем Петра Михайлова. Ему тогда было шестнадцать лет, и больше он из армии не уходил до самой смерти и дослужился до генеральского и адмиральского званий. Так вот, Петру не понравились боярские речи, но он не стал вздорить с боярином, который был старым другом его матери.
Он усмехнулся и, прищурив глаза, поглядел на длинную бороду Троекурова.
– Слышал я твою просьбу, – сказал он. – Изволь, возьми своего сына. Посади его в курятник и расти с курами. Только сам-то он, чай, не большой охотник ехать с тобой в родительский дом?
– Государь, власть родительская от бога, – ответил боярин, – и не моего Федьку о том спрашивать. А что до…
Но Пётр его не дослушал. Обернувшись к матери, он объявил, что генерал приказал выехать в соседнее поле и производить на нём пушечную стрельбу и чтоб мать велела своим людям сидеть смирно и не пугаться великого пушечного грома.
Мать вздохнула и ничего не ответила. Пётр поклонился ей и, меряя ковры своими длинными худыми ногами, вышел за дверь.
Он направился в Капитанский дворец и возле крыльца встретил капитана, Федю Троекурова, который вёл свой караул на смену.
– Фёдор, – сказал царь, – приехал за тобой отец. Не нравятся ему наши дела. Хочет он тебя забрать из полка и посадить в терем с няньками, чтобы ты ел, спал и звёзды считал, пока тебя не женят. Нравится тебе такая жизнь?
– Не нравится, господин бомбардир, – твёрдо ответил шестнадцатилетний капитан.
Пётр подошёл поближе к Троекурову:
– Отказать боярину – матушку обидеть. Значит, надобно тебя отдать отцу.
Федя молчал. Его загорелое лицо побледнело.
– Не изволь, государь, меня выдавать, – прошептал он. – Что мне в тереме-то делать? Я капитан!
– Тогда вот что… – Пётр ещё более приблизился к Феде: – Беги!
– Как бежать, господин бомбардир?
– Скройся, куда знаешь, чтоб я тебя не видал до праздника. А я тут боярина-то уломаю. Авось сменит гнев на милость. Понял?
– Как не понять! Понял, господин бомбардир.
– Как сменишься с караула, чтоб я тебя больше не видал. Ступай!
И Пётр, посмеиваясь, вошёл в Капитанский дворец.
К вечеру капитан Фёдор Троекуров пропал. После обеда начали палить пушки; густой дым пополз с поля и окутал дворец и Генеральскую улицу и другие улицы, на которых вытянулись линейками «ротные дома» потешного войска. Боярин сидел у себя, запахнув окна, и крестился на иконы. В густом дыму трудно было разыскивать пропавшего. Обыскали всё село, но капитана Фёдора и след простыл.
Вечером, когда солнце уже закатилось, беглый капитан пробрался огородами к реке Яузе и долго стоял на берегу, свесив голову.
Идти мостом он не мог, потому что на мосту стоял караул. Он помедлил немного, вздохнул и прошептал:
– К Лёшке пойду, в Измайлово! Эх, вода-то холодная!
Он взмахнул руками и отчаянно бросился в воду. Часовой на мосту крикнул: «Кто идёт?», но никто ему не ответил.
Утром боярину доложили, что сына сыскать не могут и что царица приказала искать его в Измайлове.
2. ДЕЛА РЕЧНЫЕ
В селе Измайлове, возле сарая, на Льняном дворе сидел светловолосый парнишка лет двенадцати и смотрел на небо.
По синему небу медленно шли крутые белые облака. Они выходили пышной стаей из-за крыши сарая.
Мальчик пел:
Облака плыли куда-то на северо-запад, к далёким берегам, к далёким землям – туда, куда их гнал ветер.
Мальчик перевёл глаза на сарай, старый, тёмный, с покосившейся соломенной крышей. В тишине чуть слышно шелестели за тыном[5]5
Тын – забор.
[Закрыть] берёзы. Двор был пуст и заброшен. Когда-то здесь хозяйничали управители важного боярина Никиты Романова, но с тех пор прошло много лет, и в этот запущенный угол редко заглядывали люди.
В сарае громко закудахтала курица. Затем раздался тихий стук: мальчик постучал пальцем в стенку. Вероятно, это был условный знак, потому что изнутри ответили стуком же. Потом тихий голос из сарая спросил:
– Никого не видать?
– Никого… вылезай. Нет, стой! Идут!
Светловолосый мальчик мгновенно принял прежнее положение, поглядел на облака и запел:
Посмотрят казаки,
Они на море синее.
От того зелёного
От дуба крековистого
Как бы бель забелелася —
Забелелися на кораблях
Паруса полотняные…
– Нишкни, ирод! – раздался резкий женский голос. – Я тебя зачем посадила? Хохлатку стеречь! А ты песни поёшь! Да и какие песни! За такую песню, олух, тебя в Москву да в царский застенок…
– Отчего, матушка? – спросил мальчик, равнодушно глядя на коренастую женщину со вздёрнутым широким носом, которая стояла перед ним, уперев в бока свои крупные загорелые кулаки.
– Оттого, что песня казацкая, вольная, её петь не велено.
– Да ведь это отцова песня!
– Молчи, ирод! Про отца-то своего поменьше рассказывай! Не ровён час, услышит кто… С кем ты тут говорил?
– Ни с кем.
– Врёшь, ирод! Я сама слышала голос чужой. Кого ты прячешь?
– Да я никого, матушка…
Женщина рванула дверь сарая. Дверь с тяжёлым скрипом распахнулась. Внутри сарая, в темноте, снова закудахтала курица.
– Снеслась, ей-богу снеслась! – с торжеством объявила женщина. Она нырнула в темноту и через несколько минут появилась с большим белым яйцом на ладони.
– Уже давно снеслась, а ты сидишь, лодырь, песни поёшь! Да всё про корабли да про казаков… – Женщина боязливо оглянулась и перекрестилась. – Я из тебя отцову дурь-то повышибу! Не для того люди на суше родятся, чтоб по морям плавать. Рыба в воде, а человек да курица – на сухопутье. А кто на воде плавает, тому не сносить головы. От Москвы до моря год прошагаешь – не дойдёшь. Ты смотри у меня!..
Женщина погрозила мальчику кулаком и торопливо зашлёпала к дому. В сарае послышался шорох, и прежний голос спросил:
– Лёшка, а Лёшка! Ушла?
– Ушла.
– Вылезать?
– Сиди. Нынче день неспокойный.
У Лёшки Бакеева была очень сердитая мать. В молодости была она замужем за понизовым казаком,[6]6
Понизовые казаки – казаки с низовья Волги.
[Закрыть] который прибежал в Москву с Волги после казни лихого атамана Стеньки Разина. Не сносить бы головы Бакееву-старшему, да никто его не знал в этих краях, и он правильно рассудил, что лучше податься в Москву, чем бродить по Волге, где его в конце концов схватили бы царские стражники.
Так он и прожил свой век в Измайлове сторожем на заброшенном Льняном дворе; мастерил удочки, ловил рыбу в Измайловских прудах, старался никому на глаза не попадаться, в церковь исповедоваться не ходил; а если его спрашивали, откуда он родом, то отвечал, что из Мурома. Да он и в самом деле был из Мурома.
От него Лёшка слышал множество песен и рассказов про синее море, про белогрудые паруса, про казачьи лодки, про то, как горел город Астрахань на Волге, как казаки уничтожили царский корабль «Орёл» и как славно они пировали. Весной, когда над Москвой шли с северо-востока низкие чёрные тучи, когда на Яузе начинал трещать лёд и ветер сотрясал соломенные кровли в Измайлове, у Лёшкиного отца начинался приступ тоски. Он без конца говорил о том, как пройдёт лёд, как задует ветер, как пойдут с низовья караваны с солью и рыбой, с персидским шёлком и с бусами, а с севера повезут пеньку, полотно и лес; как дожидаются ветра тяжёлые суда на Москве-реке и Оке и как в затонах по ночам горят костры. Мать бранила отца, топала ногами, проклинала тот день, когда вышла за него замуж, упрашивала хотя бы невинное дитя пощадить и не рассказывать ему сказок про вольных молодцов да про дальние края. Когда Лёшке было семь лет, отец умер, а мать раз навсегда запретила ему поминать отцовы сказки. Но Лёшка не забыл ни одного слова. Мальчик он был молчаливый и задумчивый. Часами сидел он на пустом дворе, глядел на облака, вдыхал полной грудью весенний ветер и запах сырого дерева от намокших после дождя брёвен.
Он тайно играл в казаков. Когда матери не было, он, размахивая самодельной саблей, брал приступом сарай и испускал боевой казачий клич: «Сарынь на кичку!»[7]7
«Сарынь на кичку!» – боевой клич волжских повстанцев: приказ команде вражеского судна бросить оружие и бежать на нос («кичку»), чтобы не мешать захвату корабля.
[Закрыть] Затем он врывался в сарай, где испуганно кудахтали куры, и брал в плен хохлатку.
В глубине сарая стояло в пыли и мраке какое-то странное сооружение: это была лодка, но не такая, какие ходили по Москве-реке.
Лодка была узкая, длинная, с красивыми крутыми боками. На ней торчала, упираясь в стрехи сарая, мачта. Реи[8]8
Рей – поперечное дерево у мачты, которое служит для крепления прямых парусов.
[Закрыть] были обломаны, руль наполовину сгнил. На носу было когда-то выведено золотой краской название, но оно стёрлось. Остался только красно-зелёный нарисованный глаз, который, как казалось Лёшке, светился в темноте. На борту и на остатках рея любили сидеть куры. Лёшка сгонял их, но куры считали эту странную штуку в сарае своей собственностью, тотчас же садились снова и пачкали палубу.
– Кыш отсюда, хохлатые! – кричал на них Лёшка. – Куда вам, курам, на кораблях плавать! Вы и летать-то не умеете!
Куры быстро моргали, самодовольно глядя на Лёшку: смотри, дескать, какой у нас высокий насест, выше ничего на свете не бывает.
Лёшка взбирался на эту лодку и, прислонившись к мачте, командовал:
– Парус поднять! Смотри в оба – купец идёт! Пищали[9]9
Пищаль – старинное русское название длинного, тяжёлого ружья.
[Закрыть] и сабли изготовь! Правее держи! Ещё правее! Спускай вёсла на воду! Выгребай сильней, братцы, а то уйдёт! А ну, за мной!
И Лёшка бросался в бой. Но тут мать приходила к курам, и Лёшке приходилось уходить на двор. Он садился на кучу брёвен и пел вполголоса, глядя на небо.
Так и сейчас. Только мать ушла и Лёшка замурлыкал вполголоса ту же песню, как вдруг перед ним выросли два человека.
Один из них был высокий юноша в зелёном кафтане. На шее у него был повязан белый шарфик, на ногах были сапоги выше колен. За ним с трудом поспевал тучный иностранец с толстым, гладко выбритым лицом.
У иностранца на жирных ногах были белые чулки и туфли с пряжками. На голове у него торчала плоская круглая шляпа, словно не надетая, а поставленная на голову.
– Ты кто? – спросил юноша, подбегая к Лёшке стремительной, прыгающей походкой.
– Я сторожев сын, – сказал Лёшка, низко кланяясь странно одетому юноше.
– Звать как?
– Лёшка.
– Ты что пел?
Лёшка покраснел до корней волос.
– Это песня мореходная, – сказал он. – Это про ладьи.
– Я слышал, что мореходная. «Забелелися на кораблях паруса полотняные…» – а дальше как?
Лёшка поглядел на юношу исподлобья. Юноша смотрел не строго. Губы у него сложились в усмешку. Живые чёрные глаза смеялись.
– Ну, что ты молчишь? Не бойся.
– Матушка не позволила таковы песни петь.
– А я позволяю.
Лёшка вздохнул:
– Дальше так поётся: «А не ярые гагали[10]10
Гагали (гаги) – крупные морские утки.
[Закрыть] на сине море выплыли, выгребали тут казаки середи моря синего…»
– Казаки?
– Мейнгер[11]11
Мейнгер – по-голландски «господин».
[Закрыть] Питер, – резко сказал иностранец, – не слушайте эту песню: это воровская песня!
– Отстань, мейнгер! Разве казаки и по морям плавали?
– Ещё как! – гордо сказал Лёшка. – По синему морю Хвалынскому да к дальнему персиянскому берегу…
– Откуда знаешь?
– Слышал, – многозначительно отвечал Лёшка.
– А дальше? Песня-то как дальше поётся?
– Дальше забыл, – сознался Лёшка.
– Эх ты, певец! А что за сарай?
– Боярина Никиты Ивановича покойного…
– А что там?
– А там хлам всякий.
Куры закудахтали в сарае.
– Курятник, что ли?
– Пойдёмте, мейнгер Питер! – сердито сказал иностранец. – Тут нет ничего примечательного.
Юноша повелительным жестом указал на сарай:
– Открой!
– Не указано открывать, – пробормотал Лёшка, боязливо оглядываясь.
– Кем не указано?
– Царёвы люди не велят.
– А я велю. Ну!
Юноша нахмурил брови. Видя, что Лёшка колеблется, он подбежал к двери и распахнул её. Куры испуганно закудахтали.
– Что это? Что за лодка? Мастер Тиммерман, погляди-ка! Тиммерман подошёл поближе, посмотрел и произнёс не торопясь:
– Это есть бот.
Юноша схватил Тиммермана за руку и почти силой втащил его в сараи.
– Какой бот? Зачем?
– Ходить по воде, – отвечал Тиммерман, брезгливо стряхивая с туфель солому и куриный помёт.
– Это я и без тебя знаю. А зачем у него мачта?
– Ходить под парусами, – сказал Тиммерман, – и не только по ветру, но и против ветра.
– Как против ветра? Врёшь ты, мейнгер! Такого не бывает.
– Не прямо против ветра, – сказал Тиммерман, обиженно надувая толстые щёки и шею, – а вот так…
И он показал рукой, как лавирует бот.
Юноша легко вскочил на борт и потрогал мачту.
– Хороша ладья! – сказал он.
Лёшка стоял в стороне и с опаской поглядывал на кучу рогожи, лежавшую на корме бота. Тиммерман угрюмо смотрел на судёнышко.
– Бот старый, гнилой, – пробурчал он, – плавать на нём нельзя, он утонет. Пусть уж лучше останется в сарае.
– Починить можно! – весело отозвался юноша. – А что там, на корме?
Юноша шагнул в бот. Послышалось его удивлённое восклицание, и он вылез, держа за шиворот какого-то мальчика в грязном потешном мундире. Этот мальчик оказался капитаном Фёдором Троекуровым.
Юноша расхохотался:
– Вот ты где прячешься, Фёдор! А тебя по всему Измайлову царицыны люди ищут. Хитрец!
– По вашей воле, господин бомбардир, – мрачно проговорил Фёдор.
– Кто же тебя кормит?
– А вон парень, Лёшка Бакеев, сторожев сын. Такого страху я набрался, сил нет. Приходили сюда стремянные,[12]12
Стремянные – стрельцы, составлявшие царскую стражу.
[Закрыть] весь сарай обшарили. А я в лодку спрятался. С тех пор в ней и сижу.
– Отец твой упрям, как колода, – сказал юноша-бомбардир, – вынь да положь ему сынка! Он до того меня доведёт, что я его прогоню. Ну что ж, сиди!
Он повернулся к Лёшке:
– Эй, поди сюда, парень! Тебе зачем бот нужен? Ты на нём плаваешь, что ли?
– Я на нём играю…
– Во что же ты играешь?
Лёшка хотел сказать: «в казаков», но, поглядев на Тиммермана, сдержался.
– В море.
Юноша расхохотался звонко и искренне:
– Так ты мореход?
Лёшка смотрел на его смеющееся лицо и растрёпанные ветром длинные волосы. Этот бомбардир с каждой минутой всё больше ему нравился.
– А что ж? – неожиданно сказал Лёшка. – Ежели починить ладью да на воду спустить – вот-то поплывём!
– Кто же поплывёт?
– Да мы с тобой, бомбардир!
Высокий юноша снова расхохотался. Смех его звучал всё задорнее.
– Разве ты умеешь плавать?
– Ну, я-то, положим, не очень, – признался Лёшка, – а отец мой по морю-Каспию ходил, а дед, бают, и до самого города Веденца добирался, что на воде стоит…
– Где твой отец? Приведи его ко мне!
– Ан нет его, помер, – отвечал Лёшка.
Высокий юноша несколько минут сосредоточенно поглядывал то на бот, то на Лёшку.
– А ведь правда твоя, парень, – промолвил он вдруг. – Мейнгер, вели-ка бот вытащить на Яузу.
– Нельзя! – сердито ответил Тиммерман. – Он повреждён. Его надобно умеючи починить, поставить новую мачту, потом натянуть снасти и паруса.
– Нет ли поблизости человека такого, который умел бы скоро всё это сделать?
Тиммерман сдвинул шляпу на затылок.
– Есть.
– И ход покажет?
– Покажет.
– Кто таков?
– Карстен Брандт, старик, служил пушкарём на российском корабле «Орёл» под командой капитана Бутлера. Ходил в Астрахань.
– А нынче чем занят?
– Плотничьими поделками.
– Приведи его ко мне!
Юноша повернулся к Лёшке:
– А ты оставайся, сторожи Фёдора. Придёт время – возьму тебя вместе с ботом. Моё слово верное. Доволен?
Лёшка не отвечал. Юноша потрепал его за вихор и обернулся к голландцу:
– Гей-гей, за мной, мейнгер! Дело есть!
И он побежал прыгающей походкой так быстро, что тучный Тиммерман едва поспевал за ним.
Когда бомбардир ушёл, Лёшка подбежал к Фёдору и спросил у него шёпотом:
– А он не расскажет?
– Кому?
– «Кому»! Царицыным людям!
– Нет, не расскажет. Он не таков.
– Кто он? Небось боярский сын?
– Нет, это сам царь Пётр, – торопливо сказал Троекуров. – Скорее запирай ворота! Я слышу – опять кого-то несёт!
Это была Лёшкина мать. Она накинулась на Лёшку, который в остолбенении глядел вслед юноше-бомбардиру.
– Ты с кем тут говорил?
– Я… я ни с кем. Тут не было никого.
– Ан нет, я двоих видела! Оба в заморском платье. У меня, чай, не на спине глаза. Что-то здесь неладное творится у нас в сарае! Ну, погоди маленько, уж я тебя! Дай срок!
Мать погрозила Лёшке своим могучим кулаком и скрылась за домом.
Лёшка сразу почувствовал недоброе, но удержать мать был не в силах. Он тщательно запер дверь сарая и пошёл к пруду, свесив голову. А беглый капитан Троекуров сидел в темноте, подперев лицо обеими руками, и слушал, как куры кудахчут над его головой.
На следующее утро пришли два молодца в кафтанах и шапках, шитых золотом. У одного была бородка русая, у другого – тёмная. Тот, который был потемнее, держал в руке большую алебарду.[13]13
Алебарда – старинное оружие: секира на длинном древке.
[Закрыть]
– Сторожиха ты? – спросил он Лёшкину мать.
– Я, батюшка…
– Намедни ты приходила с жалобой?
– Я, батюшка…
– Ну вот, приказано у вас на Льняном дворе караул держать нам с Андрюшкой, так что неси, что в печи есть! Вино есть?
– Да я, батюшка…
– Неси, неси – а то я тебя!
Лёшкина мать поохала, поторговалась и вынесла стражникам ушат пива и кадушку солёной рыбы. Они закусили, оглянулись и, заметив Лёшку, замахали ему руками.
– Матушка-то твоя на свою голову назвала! Теперь пущай стонет. Огоньку нет ли? Поди принеси.
Лёшка принёс кусок каната, зажжённый у очага. Тот, что потемнее, достал из-за пазухи длинную тростниковую трубку, воровато оглянулся и закурил, смахивая дым ладонью.
– Не проведали бы во дворце, Матюха! – сказал ему его товарищ. – Грех велик, за табак кнутом бьют.
– Ничего, парнишка не скажет… Эй, парень, молчать будешь?
– Буду, – ответил Лёшка. – А вы зачем пришли?
Стражник затянулся и сказал важно:
– Приказано нам сторожить, не объявится ли где беглый боярский сын Фёдор Троекуров. Старуха-то твоя, шило ей в бок, говорила намедни, что, дескать, по Льняному двору ходят чужие люди, так мы…
– Матюха, – сказал тот, что посветлей, – а не сыскать ли в сарае?
– Сыскано, – сказал Лёшка, с трудом глотая слюни, – да ничего не нашли.
– А может, сыскать?
– Ищите, – сказал Лёшка, набравшись отчаянной храбрости. – Только там неладно.
– А что?
– Кто-то по ночам стучит…
Стражники переглянулись. Тот, что посветлее, перекрестился.
– Кто же это?
– Не знаю. А только стучит.
– Тьфу! – сказал тот, что потемнее. – Ну и пущай стучит. Нам велели сторожить, а не искать. Нечистая сила, тьфу! Поди, парень, к матери, скажи, что пива мало. А ежели не даст, то мы ей всю печь разворотим.
Лёшка обежал кругом сарая, нашёл щёлочку, постучал и шёпотом сказал беглецу, чтобы он выбирался поскорее через дыру, где доска поотстала, и бежал в лес. Но, к его удивлению, Фёдор устало ответил, что он никуда не пойдёт и останется в ботике хоть до зимы.
– Тут и буду сидеть, – сказал Фёдор. – Пропаду, а никуда больше не пойду! А водицы принеси испить.
Но недолго пришлось Фёдору сидеть, а молодцам сторожить. К полудню раздался звук барабана, и на Льняной двор вошла целая рота преображенцев в форменных кафтанах. Впереди шёл офицер. Он показал молодцам приказ, свёрнутый в трубочку:
– Генерал князь Ромодановский приказал взять из сарая лодку и до Яузы дотащить.
Молодцы читать не умели, а Ромодановского боялись. Но всё-таки уйти они не решились и остались сидеть на брёвнах, хмуро поглядывая на солдат. С солдатами пришёл крупный старый, осанистый голландец с белой подстриженной бородой и розовым лицом. При нём был помощник, молодой человек лет двадцати пяти. Оба шли важно, опираясь на суковатые палки. Старший был Карстен Брант, пушкарь и матрос, строивший двадцать лет назад корабль «Орёл» на Оке.
Много приключений пришлось пережить старику.
Он плавал по Волге, видел, как горел построенный им корабль, бежал из Астрахани на лодочке, скитался по Кавказу и Персии и наконец с трудом добрался до моря, откуда голландский корабль доставил его на родину. Но скучно было ему на родине. Он бросил всё и вернулся в холодную страну московитов, в страну, которая стала для него второй родиной, без которой он жить не мог.