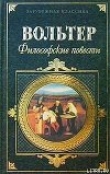Текст книги "Повести"
Автор книги: Лев Рубинштейн
Жанры:
Детская проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 14 страниц)
РУКУ В РУКУ!

Весна 1817 года была ранняя и длительная.
В первых числах мая на липах забрезжила молодая, светлая зелень. На Царское Село словно опустилось зелёное облако. Настоящие облака двигались по небу лениво. Их было мало, и они не только не мешали синеве неба, но ещё её подчёркивали.
Белые статуи в свежей зелени выглядели как будто вымытыми. И лебеди на голубеющей воде казались мраморными. Они плыли, не сгибая шеи, словно прислушивались к звукам, которых люди не слышат.
До окончания Лицея осталось несколько недель.
Жанно снова ходил один по парку с учебником под мышкой. В лицейском садике Энгельгардт с воспитанниками старшего курса только что заложили памятник – вернее, плиту, посвященную «местному духу». Егор Антонович был поклонником Царского Села. Он считал, что здесь необыкновенно здоровый воздух, и решил в честь этого поставить плиту «духу», который, как верили древние римляне, живёт в каждом месте и охраняет его от зла. Этот же царскосельский «дух» должен быть добрым гением Лицея. По сему случаю Егор Антонович произнёс небольшую речь и даже утёр слезу платочком.
Император любовался прогулками лицеистов из окна дворца и однажды ласково сказал Энгельгардту:
– Как они милы в мундирах!
Энгельгардт почтительно поклонился.
Для Егора Антоновича всё было в порядке. Но для Жанно жизнь только начиналась и всё было в беспорядке.
Как во сне, вспоминал он дедушкину карету, представление министру, первые дни в Лицее, тоску по дому, потом весёлую компанию первокурсников, ссоры, примирения, двенадцатый год, победу над Пилецким…
«Какие мы тогда несмышлёные были – думал Жанно, – совсем ещё ребятишки!»
Тоска по дому прошла. Жанно привык к лицейской «республике», хотя в ней были разные люди.
Смешной, но чистый душой Вильгельм… Медлительный, умный Дельвиг… Тихий, добрый Матюшкин… Обезьяна-Яковлев, товарищеская душа… И Пушкин, блестящий, горячий, порывистый, то весёлый, то грустный, споров с ним было много, но ссоры ни одной…
Снова в Софии поёт воинская труба и напоминает о тех офицерах, которые мыслят одинаково с ним, Пущиным. И ещё напоминает труба о долге перед отечеством. И ещё – о тайном обществе, о союзе людей благородных и честных.
Вдохновенный профессор Куницын призывал когда-то лицеистов «не отвергать гласа народного». Нашлись люди, которые не отвергают гласа народа – и где? Рядом с царским дворцом! И никто о них не знает!
Сказать Саше?
Саша Пушкин сидел на берегу пруда, опершись локтем о чугунную спинку скамьи, уткнув кулак в щёку. Жанно очень хорошо знал, что в такие минуты с Сашей лучше не разговаривать. Пушкин бесился.
Лебеди один за другим выплывали из ракитника. Над прудом неслись их гортанные весенние крики. Пушкин расстегнул воротник и закинул голову, словно ему душно было. Нет, сейчас говорить с ним не надо. И никому ничего не надо говорить!
Жанно ушёл в глубину Екатерининского парка. Здесь, за причудливым мостиком «Большого Каприза», стояла будочка, в которой генерал Захаржевский держал ручного медвежонка.
Издали слышно было, как бряцает цепь. Медвежонок бегал из стороны в сторону, грыз цепь и ворчал – тоже бесился.
Жанно посмотрел на пленного зверя, покачал головой и прошёл дальше. Майский воздух и в самом деле был необыкновенно вкусный. Он как будто пропитывал насквозь всё тело. Жанно уселся на скамью, развернул учебник. И тут послышался заливистый лай маленькой собачки.
Жанно знал – это лает царский Шарло. Лай был тревожный, злобный, неистовый. Мимо Жанно пробежали двое караульных солдат со штыками наперевес. За ними бежал адъютант с обнажённой шпагой.
Жанно повернулся в другую сторону и с изумлением увидел Паньку.
– Ваше благородие, – отчаянно прошептал Панька, – скорей уходите! Медвежонок с цепи сорвался!
Панька исчез, словно сквозь землю провалился.
Жанно думал было уйти, сделал шаг по тропинке и вдруг лицом к лицу встретился с императором.
Александр I в одной руке держал треуголку, а другой натягивал поводок собачки. Лицо у него было в красных пятнах, лоб в поту.
Увидев Жанно, он вздрогнул и яростно округлил свои выпуклые голубые глаза. Несколько секунд он смотрел на Пущина взглядом лютого зверя, как будто хотел вцепиться ему в горло. И вдруг стремительно бросился в сторону. Жанно застыл на месте.
Царь с треском пробился сквозь кусты и пропал. За ним выпрыгнули на тропинку два адъютанта.
– Где его величество? – крикнул один из них.
Жанно мотнул головой в ту сторону, куда убежал царь.
– А, чёрт возьми, что вы тут делаете? – пробасил один из адъютантов. – Убирайтесь прочь!
Оба бросились вслед за царём.
Но Жанно не ушёл. Он стоял один в тени аллеи до тех пор, пока за деревьями не хлопнули два выстрела. Тут только он очнулся.
«Это зверя застрелили», – сообразил он.
Жанно побежал в Лицей. Возле самых ворот он наткнулся на Сашу Пушкина. Пушкин был теперь застёгнут на все пуговицы и вид имел самый спокойный. Жанно рассказал ему обо всём.
– Послушай, – добавил он, – ты посмотрел бы на его глаза! Поверишь ли, он смертельно испугался! Сначала от медвежонка, потом от меня побежал! О, Саша, это… царь бессовестный!
Пушкин улыбнулся.
– Эх! – сказал он. – Нашёлся один добрый человек, да и тот медведь…
Выпуск Лицея прошёл тихо. Первую награду получил Вольховский, вторую Горчаков.
На церемонии были император и министр. Император явно скучал. Энгельгардт рассказал о жизни Лицея за шесть лет. Куницын прочёл «Постановление о выпуске». Потом всех окончивших по очереди представили императору с объяснением присуждённых им чинов и наград.
Александр I смотрел на лицеистов устало и принуждённо. Видно было, что думает он вовсе о другом. Когда представление окончилось, он встрепенулся и сказал монотонным голосом, что отечество ждёт от сынов своих службы верной. Он коротко поблагодарил директора и воспитателей. Потом помолчал и прибавил, что по-прежнему «не оставит Лицей своим вниманием». Потом поднялся с кресла, и все встали.
Император кивнул головой и решительно зашагал к выходу. Вслед ему быстро зазвенели шпоры адъютантов. Энгельгардт, поклонившись, растерянно посмотрел на министра. Думали, что царь останется до конца церемонии, но он ушёл, почти убежал.
– Прошу вас, продолжайте, Егор Антонович, – упавшим голосом сказал министр.
Лицейский хор спел песню, сочинённую Дельвигом. Пели дружно, но грустно:
Шесть лет промчалось, как мечтанье,
В объятьях сладкой тишины,
И уж отечества призванье
Гремит нам: «Шествуйте, сыны!»
Сам Дельвиг пел со слезами на глазах. Вильгельм не пел, а обводил глазами зал, профессоров, мальчиков в синих мундирах – одного за другим – и вдруг закрыл лицо руками. Пушкин низко опустил голову.
Простимся, братья! Руку в руку!
Обнимемся в последний раз!
Судьба на вечную разлуку,
Быть может, породнила нас!..

Кончили петь и сразу смешались. Кюхельбекер обнимал Малиновского, Яковлев – Матюшкина, Пушкин – Дельвига. Всей толпой лицеисты окружили Энгельгардта, и он стал раздавать окончившим чугунные кольца – знак вечной и доброй памяти о Лицее.
Пущина на церемонии не было. Он лежал больной в госпитале. Пушкин и Кюхля принесли ему чугунное кольцо и рассказали обо всём. Жанно надел чугунное кольцо на палец, посмотрел на него рассеянно и проговорил тихо:
– Что же, братцы… простимся?
Вильгельм вдруг бросился к нему.
– Жанно, мы не оставим друг друга! – взволнованно говорил он. – Неужто забудем? Ведь у нас дело… дело общее! Александр, скажи ему!
Пушкин сидел нахохлившись.
– На вечную разлуку? – проговорил он как в полусне. – Кто знает? Всё может быть… Прощай, Лицей! Теперь уж по-настоящему – прощай! Мы взрослые!
ОГОНЁК ВО ТЬМЕ

Велика Россия, и глубоки её снега! Без конца несётся кибитка между двух тёмных стен леса. Колокольчик мерно брякает, возок то взлетает на сугроб, то падает в провал и снова вверх. Кони храпят и ломают лёд копытами. Мелькают глухие деревеньки, утонувшие в снегах. Дым над соломенными крышами стоит в воздухе синими столбами. Иногда в густом бору раздаётся словно ружейный выстрел, лошади пугливо прядут ушами, – это треснул на морозе ствол ели.
На почтовой станции из кибитки вылезает среднего роста человек, плечистый, плотный, с обмёрзшими усами. Пока перепрягают лошадей, он сбрасывает медвежью накидку на лавку и разматывает шарф. У него круглое молодое лицо, густые брови и ясные, весёлые глаза. Он берёт перо и расписывается в книге для проезжающих:
«…Московский надворный судья… Пущин, Иван Иванович. Едет из Санкт-Петербурга в имение, по своей надобности…»
Не было сказано, в какое имение. Пущин ехал в Михайловское, где жил поэт Пушкин. Но поэт был ссыльный. Его несколько лет тому назад выслали из столицы за «возмутительные» стихи. Он находился под надзором полиции и духовенства. А книгу для проезжающих просматривали в полиции. Вот почему Пущин не указал, куда едет.
Это было в январе 1825 года. Восемь лет прошло с тех пор, как лицеисты разлетелись из Царского Села.
Итак, бывший Жанно, а теперь Иван Иванович Пущин был судьёй. Скажем прямо – пост невеликий.
Пущин был выпущен из Лицея вовсе не в судьи, а офицером в гвардию. Но прослужил он в гвардии недолго. На дворцовом выходе к нему однажды подошёл младший брат царя, великий князь Михаил Павлович.
– Это что же? – спросил он резко.
Пущин вытянулся. Он не понял, чего хочет великий князь.
– Темляк,[24]24
Темляк – тесёмка с кистью на конце, которую носили на рукоятке сабли.
[Закрыть] – отрывисто сказал Михаил Павлович, – темляк не по форме повязан! Как смеете являться в таком виде? Где учились? В Лицее? Я так и думал! Небось стишки сочиняете?
Пущин вздрогнул и побледнел. Возражать брату царя не полагалось. Но в тот же день Пущин подал в отставку и стал судьёй.
Для человека из знатной семьи быть обыкновенным судьёй и разбирать дела простых людей считалось презренным занятием.
– Пущин испортил себе карьер, – пожимая плечами, говорил Корф.
Но у Пущина другое было на уме. Он был членом тайного общества. Он отпустил на волю своих крестьян. Ему рисовались великие перемены – падение царей бессовестных, республика, вольность, слава народная…
Всё это было в тайне. Об этом даже во сне нельзя было проговориться.
– Лошади поданы, – доложил Пущину слуга Алексей.
Кибитка понеслась дальше, свернула с дороги в лес и заколыхалась на просёлочной дороге.
Дорога была плоха. Колокольчик уже не мерно брякал, а болтался без всякого толку. Кибитку бросало и валяло, как лодочку на бурном море. Наконец она накренилась так, что ямщик на всём ходу слетел в сугроб.
– Держись! – крикнул Пущин Алексею и схватил вожжи.
Лошади понеслись во весь опор, К счастью, свернуть им было некуда – кругом лес и глубокий снег. Лошади скакали по дороге в гору и наконец сами влетели в ворота усадьбы.
Усадьба была не из богатых – приземистый, небольшой, старый дом, утонувший в снегу. Дым из труб не шёл. Похоже было, что в доме никто не живёт.
Лошади проскакали мимо крыльца и завязли в сугробах посреди двора.
Колокольчик оборвался.

И тут оказалось, что в доме есть люди. На крыльцо выскочила небольшая фигурка, босая, в ночной рубашке:
– Жанно! Братец! Боже мой!
Это был Пушкин.
Жанно, весь облепленный снегом, облапил Пушкина, как медведь.
Несколько минут они молча любовались друг другом. Наконец Жанно приподнял Пушкина и потащил его в дом. Поэт был не тяжёл. В сенях к Пущину бросилась старуха в тёплом платке.
– Жанно, голубчик, – сказал Пушкин, вытирая слёзы, – это няня моя, Арина Родионовна… Ты ведь её знаешь?
– Как не знать, – рассмеялся Жанно, – я её в Петербурге ещё знал!
Пушкин жил уныло. Комнатёнка у него была маленькая, вся усыпанная листами исписанной бумаги и обожжёнными кусочками гусиных перьев.
– Узнаю тебя, Александр, – смеялся Жанно, – перья обкусаны и сожжены на свечке, совсем как в Лицее! Пишешь по ночам, поправляешь свечу и грызёшь перо!
– Да, – со вздохом признался Пушкин, – только в стенку-то постучать некому…
Подали кофе. Друзья уселись болтать. Разговору хватило бы и на трое суток.
– Ведь ты в тайном обществе? – спрашивал Пушкин. – Скажи, друг Жанно, не секретничай, ведь есть общество?
– Дорогой мой, – отвечал Жанно, – ты задал мне вопрос немыслимый…
– Ладно, не говори! Может быть, ты и прав, что мне не доверяешь. Верно, я этого доверия не стою – по моим глупостям… Давай лучше выпьем за всех!
Алексей хлопнул пробкой и разлил вино. Выпили за Россию, за Лицей, за друзей.
– А теперь, – сказал Пушкин, значительно посмотрев на Жанно, – выпьем, брат, за «неё»…
Оба встали. Они хорошо знали, кто такая «она» и как пили за «неё» офицеры в Царском Селе. Это была свобода. Помолчали и выпили. Жанно усмехнулся и поцеловал Пушкина.
– Ну вот и ладно! – закричал Пушкин. – Давай займёмся литературой! Какие новости в столицах? Не привёз ли чего-нибудь?
– Запрещённую комедию привёз.
– Молодец какой! Кто сочинил!
– Грибоедов. Название «Горе от ума».
– Да ты прелесть! Давай читать!
Читал Пушкин. Как всегда, начал он сквозь зубы, как бы про себя, а потом разошёлся. И тут к крыльцу подъехал возок.
– А… – сердито сказал Александр, поглядев в окно, – это мой сторож.
Он быстро спрятал «Горе от ума» под подушку и раскрыл на столе толстую церковную книгу.
Вошёл низенький монах с рыжей бородкой, благословил обоих и быстрым взглядом осмотрел комнату. Пушкин сделал постное лицо.
– Друг ваш, Александр Сергеевич? – спросил монах. – А по фамилии как, прошу прощенья, сударь? Пущин? Вижу, что вас друзья не забывают, Александр Сергеевич…
«Допрашивает», – подумал Жанно.
Монах, однако, больше никаких вопросов не задавал. Он не спеша выпил два стакана чаю с ромом, распрощался, ещё раз посмотрел внимательно на Пущина и уехал.
– Видишь, – сказал Александр, глядя в окно, – наблюдатели уже ему донесли, что ты здесь. Приехал проверить, чем мы тут занимаемся… Да ну его! Давай читать дальше!
Читали и спорили до ночи. После ужина Пущин стал собираться в путь. В сенях обнялись крепко. Пушкин опустил голову.
– Когда и где увидимся, брат Жанно?
– Да что ты грустишь? Может статься, и в Москве. Не век же тебе в ссылке сидеть!
– Ох, Жанно, ты не знаешь, что такое ссылка! Я как в клетке, один…
Пущин крепко ухватил его за плечи.
– Не падай духом, Саша… Ты не один, друзья тебя и в самом деле не забыли. Мужайся, служи музам… Увидимся!
Колокольчик брякнул у крыльца. Алексей молча подал шубу. Жанно оторвался от Пушкина, надел шубу, выбежал на крыльцо, полез в кибитку.
– До свиданья в Москве! – крикнул Жанно.
– Прощай, друг, – донеслось до него с крыльца.
Возок тронулся. Жанно смотрел назад, на маленький заброшенный дом. На крыльце Пушкин стоял со свечой в руке, и этот огонёк ещё долго был виден в морозной тьме.
– В Москве, – повторил Жанно.
В сердце у него была непонятная, тупая боль. Он словно чувствовал, что никакого свидания в Москве не будет и что он видит Пушкина в последний раз.
СЕНАТСКАЯ ПЛОЩАДЬ

Утром в понедельник, 14 декабря 1825 года погода была не очень холодная.
Мороз всего восемь градусов и небольшой ветер с Невы.
В этот день Панька ночевал в Петербурге у брата своей матери, дяди Ефрема, и встал поздно. Тётка пекла пироги, а дядя – ямщик рано ушёл на ямской двор кормить лошадей.
Панька ждал его, чтобы нынче же уехать в Царское Село. Панька теперь был младшим садовником.
Время было тревожное. Все знали, что царь Александр умер. Но никто не знал, кто из братьев царя будет царствовать – Константин или Николай.
Дядя Ефрем пришёл очень поздно – взволнованный и как будто оглушённый.
– Слышал, что на площади-то делается?
– Не знаю ничего…
– Восстание! Гвардейцы хотят царя скинуть!
– Царя? На площади?!
– Встали возле Петрова памятника стеной. У офицеров сабли в руках! Солдаты с примкнутыми штыками стоят, как в бою!
– Ох, батюшки! – в ужасе произнесла тётка. – А ехать-то как же?
– Какое там ехать! – досадливо отозвался ямщик. – Все заставы закрыли.
– Что же теперь будет?
– То ли царь будет, то ли нет, – сказал дядя Ефрем.
– Я не про то, – стонала тётка, – я про Николая!
– Про великого-то князя? – спросил Панька. – Ну и шут с ним! Знаю я его!
– Да не про этого! Про нашего Николая!
Дядя и племянник растерянно посмотрели друг на друга.
– Николай-то в гвардии! – спохватился дядя Ефрем.
– Думаешь, он там?
Дядя Ефрем сплюнул.
– Может статься, что и там. Почём я знаю?
– Вот что, дядя Ефрем, – озабоченно промолвил Панька, – надо идти.
– Куда?
– На площадь!
Дядя Ефрем нахмурил густые брови и долго гладил бороду.
– Да, племянник, – сказал он, – надо идти.
– Ахти, убьют вас! – закричала тётка.
– Авось не убьют, – сказал ямщик, – а я один могу троих свалить.
– Тётенька, не волнуйте себя, – прибавил Панька, – мы в самый бой не полезем, а будем сбоку.
И он решительно надел шинель.
На площадь пройти не удалось, потому что все соседние улицы были забиты густой толпой. Здесь были люди всех званий, и больше всего мастеровых. Говорили и про царских братьев, и про господ офицеров, и что теперь, стало быть, всем воля будет. И ещё говорили про то, что солдат на площади мало, а с другой стороны, от Адмиралтейства, сила валит и даже кавалерия прискакала.
– Послушай, Паня, – сказал дядя Ефрем, – никуда мы тут не пробьёмся. Пойдём в сенатское здание. У меня там сторож знакомый.
В сенатское здание пройти оказалось проще простого. Сторожа не было, и народ валом валил по чёрной лестнице, прямо на чердак, а с чердака на крышу.
С крыши открылось зрелище невиданное. На площади двумя чёрными квадратами стояли гвардейские солдаты. Видны были офицеры с обнажёнными саблями. Блестели штыки. С другой стороны, вдоль здания Адмиралтейства, и дальше, на Адмиралтейской площади, стояла кавалерия, а сбоку группа генералов на лошадях. Деревянные леса строящегося Исаакиевского собора были усеяны людьми.

Ветер дул с Невы, трепал знамёна и сдувал снег с крыш. Низкие, серые облака двигались над площадью и над бронзовым памятником Петру I, который сидел спиной к восставшим, словно его всё это не касалось.
Панька присмотрелся к стоявшим на площади. Брата Николая он не увидел, да и трудно было разглядеть солдат, стоявших строем в одинаковой зимней форме. Зато Панька ясно увидел две знакомые с детства фигуры: это были долговязый Кюхельбекер и плотный, широкий Пущин.
Кюхельбекер был во фраке и в круглой шляпе. В руке он держал огромный пистолет. В другой руке у него была сабля. Он метался между строем солдат и штатскими, которые стояли у ограды памятника. Среди них выделялся Пущин в меховой накидке и меховой же шапке.
Пущин стоял неподвижно, опустив руки. Голова его ушла в плечи. Он словно вглядывался в даль.
Тайное общество стало явным. И в этот день, 14 декабря, всё должно было решиться – придёт ли в Россию свобода или всё рухнет на долгие годы.
На площади стояло три тысячи восставших солдат и офицеров. Против них было собрано двенадцать тысяч.
Панька увидел, как от Адмиралтейства поскакали к рядам восставших несколько всадников. Один из них был в треугольной шляпе с чёрным султаном.
Панька знал этого всадника – это был младший брат покойного царя Михаил Павлович, тот самый, который в Царском Селе ломал хлыстом розовые кусты.
– А этого сюда ещё зачем принесло? – проворчал Панька сквозь зубы.
Сидевший рядом с ним на крыше дюжий мужчина в армяке усмехнулся и сказал:
– Уговаривать едет…
Но Михаилу Павловичу и слова сказать не пришлось. Кюхельбекер прицелился в него из пистолета. Царский брат повернул коня и поскакал обратно.

Кюхельбекер спустил курок, но выстрела не было. Вильгельм злобно поглядел на пистолет и хотел швырнуть его в снег, но какой-то усатый унтер-офицер схватил его за руку.
– Что делаете, ваше благородие? Снегом забьётся, стрелять не будет. Осечка у вас случилась, поберегите заряд!
Панька этого не слышал, но понял, что пистолет не выстрелил.
– Эх, и тут у него всё не как у людей! – проговорил он в сердцах.
– Ты его знаешь? – спросил дядя Ефрем.
– Как не знать! Из наших, лицейских!
Хрипло заиграла труба, кавалерия построилась.
Послышалась команда, засверкали сабли, и всадники поскакали на чёрный квадрат.
Солдаты взяли «к плечу». Громыхнул залп, взметнулся белый дым, две лошади упали, другие вздыбились.
Кавалерия рассеялась и помчалась обратно.
– Вот так лихо! – сказал мужчина в армяке. – Раньше уговаривали, а теперь, видишь, за сабли взялись!
– А раньше что было?
– Поначалу важный генерал солдат уговаривал, да в него из пистолета попали. Потом сам митрополит приходил с крестом, да назад ушёл. А они всё стеной стоят.
– И долго ли так будет?
Мужчина в армяке призадумался.
– Нам бы ружья, мы бы весь Петербург переворотили, – сказал он тихо.
– А ты бревном, – посоветовал дядя Ефрем.
– Ан нет, не дадут, – серьёзно отвечал мужчина в армяке. Сгущались ранние декабрьские сумерки. Становилось всё холоднее, и ветер крепчал. Революционеры ждали подкреплений, но никто не приходил.
Паньке с крыши было видно, как на Адмиралтейскую площадь выезжают пушки.
Ездовые отпрягли лошадей и отъехали в сторону. Пушки стояли нацеленные на солдат. Возле них вытянулись артиллеристы, одни с пальником,[25]25
Пальник – железные щипцы с деревянной ручкой; ими держали фитиль, когда поджигали запал пушки.
[Закрыть] от которого тянулась тонкая струйка дыма.
Офицер скомандовал, но артиллерист с пальником не двинулся с места. Тогда офицер сам схватил пальник и поднёс его к пушке.
Полыхнул рыжий огонь, в воздухе раздался пронзительный визг.
Снег на крыше взметнулся вихрем, загрохотало железо.
Паньку словно хлопнули дубиной по ноге. Его потащило с крыши, и он ухватился руками за трубу. Мужчина в армяке упал лицом в снег.
– Почтенные, уходите, по крыше бьют! – крикнул кто-то рядом.
Дядя Ефрем подхватил Паньку под руку и поволок его на чердак. Панька слышал ещё один пушечный выстрел, но потом в глазах у него потемнело, и он потерял сознание.
Всю ночь Пущин провёл без сна. Он разбирал бумаги тайного общества и жёг их в печи.
Восстание было проиграно. Пушки уничтожили на площади строй солдат. Несколько десятков людей было убито. Всюду на снегу валялись трупы. Николай I вступил на престол.
А там, на крыше Сената, на лесах возле собора, погибали простые люди… Сколько их там осталось?
Пущин не мог сейчас думать о том, почему это случилось и кто виноват. Не мог он и бежать, да бежать было некуда. Он тщательно всё уничтожил и теперь сидел один у горящей печки.
Не надо было стоять на месте. Надо было атаковать. Время было потеряно даром. Всё рухнуло!
Теперь надо было с поднятой головой встретить судьбу.
И она пришла скоро. В дверь сначала громко постучали кулаком. Потом дверь затрещала и распахнулась настежь. На пороге стояли жандармы.