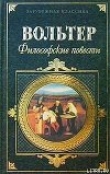Текст книги "Повести"
Автор книги: Лев Рубинштейн
Жанры:
Детская проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц)
МОСКОВСКИЙ ПЕЧАТНЫЙ ДВОР
Петухи пропели на Москве-реке. Ударил колокол в Кремле, и отозвались колокола по всему городу.
На кремлёвских стенах в последний раз прозвучала перекличка часовых:
– Славен город Москва!
– Славен город Орёл!
– Славен город Новгород!
– Славен город Тула!
– Славен город Казань!
И, наконец, от Боровицкой башни долетел отдалённый голос:
– Славен город Санкт-Питербурх!
Караул сменился.
На Красной площади загудели торговые ряды, лавки и ларьки. Заголосили разносчики горячего сбитня и пирогов подовых. Солнце осветило Кремль, и, как пламя на конце свечи, вспыхнула на голубом небе золотая маковка «Ивана Великого».
Москва – город большой и удивительный. То деревянные домишки, прижавшиеся друг к другу, расступаются, чтобы дать место каменным хоромам с затейливыми крышами; то вовсе исчезают дома, и долго тянутся сады, луга, рыбалки и огороды; то снова появляется город, но теперь уже состоящий из отдельных домов, окружённых рощами. И всё это усыпано бесчисленными соборами, церквами, церквушками и просто часовнями, где в солнечный день мрачно и таинственно теплятся в полутьме огоньки свечей и лампад. Стаи галок перелетают с криком с одних крестов на другие.
Колокольный звон тяжко плывёт по городу. Его иногда перебивает барабанная дробь и посвистывание военной флейты. Громко топая сапогами, шагают солдаты в зелёных мундирах. Пузатые лабазники высовываются из полутёмных лавок и, крестясь, шепчут молитвы. Как бы бог не наказал за новомодные платья, кафтаны, чулки и треуголки! Два года тому назад царь приказал всем бороды брить, верхнее платье носить «саксонское», а летом «французскую» одежду.
А ведь борода-то нужна человеку для спасения души… По крайней мере, так говорили в старину.
Бурлит торговая улица у Никольских ворот. В середине этой улицы возвышается величественное здание с башней и огромными воротами. Над воротами изображены лев и единорог.
Это государев Печатный двор.

Маленький, толстый, живой человечек прыгал между лужами и кучами мусора, помогая себе палкой и придерживая рукой на голове треуголку. Он постучал рукояткой палки в наглухо запертые ворота Печатного двора.
– Кто там? – спросил низкий голос.
– Киприанов Василий, библиотекарь.
Открылась прорезанная в воротах дверца. Маленького человечка на Печатном дворе знали. Сторож поклонился ему низко.
– С чем пожаловать изволили?
– Як Ефремову, словолитцу, по делу типографскому, – важно проговорил Киприанов.
– Пожалуйте, сударь, в литейную. Они там с утра с мальчишкой.
– С каким мальчишкой?
– С новым. Не иначе, как в справщики его обучают…
Это была шутка. Справщиками на московском Печатном дворе были люди учёные, знающие не только российскую словесность, но и греческую и латинскую. Они проверяли тексты книг перед печатанием и отвечали за их содержание.
У Михаила Ефремова в литейной и в самом деле находился мальчик лет двенадцати, с вихрастой светлой головой и ясными голубыми глазами. На нём была холщовая рубаха, кое-как подпоясанная верёвкой. На ногах были громадные, поношенные сапоги с загнутыми вверх носками. Он забился в угол и оттуда насторожённо разглядывал мастерскую.
Здесь всё было ему ново: и большая печь, в которой горел яркий огонь; и набор ковшей; и множество инструментов, больших и маленьких; и верстаки, возле которых суетились помощники Ефремова; и сам мастер Ефремов, в кожаном фартуке, с волосами, подвязанными ремешком, с седоватой бородой, расчёсанной «лопатой», большой, рыхлый, с угловатым смуглым лицом, на котором проницательные глаза светились, как угольки.
Киприанов снял с головы треуголку и долго, церемонно раскланивался с хозяином. Ефремов отвечал коротко и устало поклонился один раз и молча вперил в гостя свои светлые глаза.
– Нынче бороду на Москве не скоро сыщешь, – заметил Киприанов.
Ефремов махнул рукой.
– Заплатил, – сказал он, – медною монетою. Ярлык выдали. Хожу в бороде. А о том, что в казну за бороду заплачено, ношу ярлык на шее. Нынче вот как! А?
– Изрядно, – усмехнулся Киприанов, – обрить, оно вроде дешевле…
– Куды мне, старику, бороду брить? Я от молодых лет у верстака, при печатных станах. И штыховал (гравировал), и печатал, и буквы делал. Наше дело важное на Руси – книги делаем. Как же мне без бороды?
– Честь и слава, – сказал Киприанов, проводя рукой по своему гладко выбритому подбородку, – однако и мы ландкарты и таблицы неплохо делаем в нашей новой типографии, и притом бороды не носим – мешает… Вспомни, как его царское величество повелел: Ефремова, словолитца, перевесть в новую гражданскую типографию, что под смотрением господина генерала Брюса… А ты где? Что тебе возле попов-то на старом Печатном дворе околачиваться?
Ефремов с отчаянием замахал теперь уже обеими руками.
– Поликарпов не отпустит! Об этом ему и слова не молвить! Затопчет ногами и прогонит. Он с норовом…
– Вот и выходит не по царской воле, – заметил Киприанов.
– Я человек мастеровой. Поликарпов – мой начальник. Велено мне оставаться на Печатном дворе, а к вам с Брюсом под начало не идти. Да и дело у меня нынче великое. Не время место менять.
– Азбука?
– Она.
– Покажи!
– Не велено показывать.
– Нашёл кого бояться! Я всё и так знаю. Я сам типографщик да ещё и библиотекарь. Сии литеры сочинял сам его величество. А привёз их из военного походу племянник твой поручик Павел Ефремов в сумке под царскою печатью.
– Верно, так, – смущённо сказал словолитец, – и мальчишку заодно… – Он кивнул головой в сторону Алеся. – Племянник мой хотел было определить его в навигацкую школу…
– Взяли?
– Не взяли. Поликарпов говорит: «Навигацкая школа не есть для детей крестьянских». Да и в грамоте малый плох, хотя четыре буквы и выучил.
– Эй, послушай, – сказал Киприанов, как бы осенённый внезапной мыслью, – отдай парнишку монахам!
– Зачем? – сердито спросил Ефремов.
– Ты стар и вдов. Куда тебе с детьми возиться?
– Не пойду в монахи, – неожиданно сказал мальчик.
Оба собеседника посмотрели на него с удивлением.
– Кто тебя спрашивает? – сказал Киприанов. – Ты кто?
– Государева Преображенского полка поручика Павла Ефремова слуга.
– Не по годам боек, – проговорил озадаченный Киприанов.
Словолитец улыбнулся.
– И разумом горазд, – добавил он. – Что бы из него печатника сделать?
Киприанов захохотал.
Алесь вздрогнул. Так точно смеялся Тимоха, подручный поручика Ефремова, когда Алесь попросился в Москву.
– Печатника! Ты у Поликарпова спроси. Он ногами затопает!
– И спрошу, – сердито отвечал Ефремов.
– Да грамоте его обучи. Ещё как сказать, научится ли…
– Может статься, и научится, – сказал Ефремов, – я уже давно учеников ищу.
Киприанов достал из-за обшлага своего кафтана клетчатый платок и тщательно вытер лицо.
– Развеселил ты меня, Михаила Ефремыч, – проговорил он, – но не во гнев тебе будь сказано: грамота есть наука, она не для крестьянских сынов сотворена.
– И мы с тобой не боярские сыны, – отвечал Ефремов, – я из московских посадских, а ты из тяглых людей Кадашевской сотни. Однако книги строим и азбуки льём.
Аицо Киприанова сразу стало серьёзным.
– Так что же, покажешь новую азбуку-то?
Ефремов направился к бочке и тщательно вымыл руки. Потом подошёл к шкафчику, отпер его, перекрестился и обеими руками вынул лист.
На этом листе столбиком были изображены буквы – чёрные, жирные, узорные, с завитушками, похожие на вышивку.
– Уставные буквы знаешь, – сказал Ефремов, – а гляди рядом. Рядом были изображены другие буквы – тонкие, ясные, стройные.
– Новая российская азбука, – торжественно произнёс словолитец. Киприанов просиял. Как-никак, а был он типографщик, и книжник, и великий знаток своего дела.
Он вытащил из внутреннего кармана увеличительное стекло в роговой оправе и стал изучать буквы.
– «Аз» хорош, – бормотал он, – «буки» хорош… «Покой» толстоват… «Рцы» недовольно хорош, узок…
– Ты без стекла смотри, – сказал Ефремов. – Они для того и сделаны, чтоб разом видно было всякому зрячему человеку.
– Хороши! – вздохнул Киприанов. – Что бы ко мне, в типографию…
– Тебе зачем? Ты таблицы делаешь.
– Ох нет, – тихо сказал Киприанов, – не таблицы… Календарь!
– Какой календарь?
– «Календарь повсемественный, под смотрением его превосходительства господина генерал-лейтенанта Якова Вилимовича Брюса… – проговорил Киприанов, произнося слова нараспев, – изобретением от библиотекаря Василья Киприанова…» Первый календарь российский для всех грамотных людей!
– Да что в нём?
– Всё! На каждый месяц таблица: таблица стояний луны, таблица затмений, а под нею вирши…
– Какие такие вирши?
Егда бо луна под солнце подходяше.
Тогда же убо свет весь помрачаше,
А солнце же бо затмение творяше…
– Мудрено, – сказал Ефремов.
– Подумай и поймёшь! А про весну красную, лето любезное и осень блаженную и всякая девка поймёт.
Киприанов даже раскраснелся от волнения. На его лысоватом лбу выступили капли пота.
– А ты не хочешь ко мне в типографию идти, – прибавил он и снова полез за платком.
– Да разве моя воля? – отозвался Ефремов.
– Ежели меня к царю позовут, я скажу на Фёдора Поликарпова, – прорвался Киприанов, – что царского указа не исполнил и словолитца Ефремова не отдал. На том прости. Мне пора в типографию… – Он посмотрел на мальчика. – Небось беглый? От помещика?
– Беглый, – отвечал Ефремов.
– Я-то не скажу, а кто другой на него скажет – и заберут у тебя мальчишку. В монастырь! Попомни!
Киприанов решительно надел треуголку.
– И ещё я тебе скажу, друг любезный: дошло до меня, что азбука сия послана была в голландский город Амстердам…
– Зачем?
– Затем, чтоб сделать по ней буквы. И по первопутку зимой в Москву привезть. А приедут с азбукой голландские мастера первостатейные. И будут тою азбукой печатать книги и ведомости.
Ефремов пожал плечами.
– Мы бы и сами обошлись, – сказал он.
– Они латынщики и грамотеи. На всяком языке печатают. Теперь по-русски будут, на вашем Печатном дворе. То ли дело моя, гражданская типография – кого хочу, того беру! Сам себе хозяин! Ну, будь здоров!
Киприанов вышел на двор и глубоко вдохнул в себя воздух.
– Календарь, – бурчал он под нос, – он же месяцеслов… Изрядно! Да ещё и лавку завести бы, продавать бы книги… Ефремова всё же переманим, а мальчишку бродячего – в монастырь. Отменно хорошо!
И он запрыгал по лужам, помогая себе палкой.
БУКВЫ И ЛЮДИ
– Смотри хорошенько! Сие какая буква? В букваре было пропечатано:

– «Буки», – отвечал Алесь.
– А сия?
В букваре стояло:

– «Аз».
– А вместе?
– «Буки, аз» – ба!
Уже второй месяц Ефремов учил Алеся грамоте. Старые, жёлтые страницы букваря переворачивались одна за другой. Алесь привык к букварю. На каждую букву в нём была нарисована картинка. Например, на букву «Б» была изображена избушка, из двери которой валил дым. Внизу было подписано: «Баня».
На букву «П» рисунок изображал двух танцующих мужиков в высоких шапках. Подпись была: «Пляс сельской».
Буквы были узорные, с завитушками и украшениями. Над строчками, словно птички, летели чёрные значки.
– Что это, Михаила Ефремыч?
– Это титлы, чтоб слова покороче писать. В старину, братец Алесь, бумага дорога была. Писцы старались поменьше места занимать. Вот гляди – что это?
Ефремов изобразил на бумаге:

– Не знаю.
– «День»!
– Больно мудрено, – сказал Алесь.
Ефремов засмеялся. Его и без того широкий рот расплылся до ушей.
– Так ведь сие, друг Алесь, не для всякого прохожего сочинено, а для книжных людей. Погляди вот и скажи – красиво?

– Красиво, – отвечал Алесь, – на мамкин рушник похоже.
– А что значит?
– Ой, не знаю…
– Значит: «От Иоанна святое благовествование»…
Алесь долго смотрел и вздохнул.
– Я этого век не выучу, – сказал он горько.
– И не надобно, дружок, – сказал Ефремов, – повезло тебе в новый век родиться. Теперь другая азбука будет – простая. Вот такая!
Ефремов бережно развернул перед мальчиком лист, на котором выстроились новые буквы:

– Сию азбуку будем лить в словолитне. А потом новыми буквами книги печатать будем – новый букварь. И ежели мне жизни на это не хватит, будешь печатать ты.
Алесь посмотрел на смуглое суровое лицо Ефремова – лицо, словно прокопчённое вечным дымом и жаром словолитни.
– Дедушка Ефремов, не помирай!
– Я и не собираюсь, – сердито сказал Ефремов, – а ты, ежели хочешь стать печатником, учи буквы! К троицыну дню чтоб всю азбуку знал!
– И тогда стану печатником?
– Нет, друг любезный, тому ещё учиться надо. После троицы пойду к нашему управителю Поликарпову. Буду просить, чтоб тебя взяли на Печатный двор.
– А ежели не возьмёт?
– Пойдёшь к монахам, – угрюмо отвечал Ефремов.
С утра до сумерек сидел Алесь над букварём и водил пальцем по страницам.
– «Зело», «иже», «како», «люди», «мыслете»… «3», «И», «К», «Л», «М».
Старинная азбука была трудна. Каждой букве соответствовало слово, начинающееся на эту букву. И все эти слова надо было знать наизусть.
– «Наш», «он», «покой»… «Н», «О», «П»… «Рцы», «слово», «твердо»… «Р», «С», «Т»…
Далеко остались белорусские пущи. Рыжие высокие сосны поскрипывают под ветром. Тишина, безлюдье. Вечером над болотом туман. Коровы мычат, просят, чтоб их подоили. Стучат друг о друга деревянные вёдра. Бабы босые бегут с подойниками.
Там, в глуши, как будто на дне озера, ничто не движется годами. Всё та же изба с соломенной крышей, всё тот же двор и та же собака на цепи. И забор из жердей, и луговина зелёная, и пение птиц.
Брат Ярмола в лаптях копает яму лопатой. Туда, в яму, попрячут хлеб. Сами мужики будут жить в лесу, в землянках. Говорят, война идёт…
Потом красно-жёлтый огонь над избами и столб дыма. Пришёл Алесь со стадом в деревню, и никто не прибежал доить коров. Война пришла.
«Глаголь», «добро», «есть»… «Г», «Д», «Е»…
Алесь заснул над букварём. Светлая копна его волос рассыпалась по столу. Ему казалось во сне, что он слышит не то звук белорусской дудочки-жалейки, не то перезвон московских колоколов.
На троицын день Алесь с Ефремовым пошли в церковь.
Эта была не простая церковь, а великий храм. Храм узорный, со множеством витых куполов, яркий, пёстрый, меньше всего похожий на церковь, а больше всего – на торт, украшенный башенками из разноцветных леденцов.

Это был храм «Покрова Пресвятыя богородицы, что на Рву». В народе его просто называли «Василий Блаженный».
Снаружи он весёлый, чудаковатый и лёгкий. Внутри он тёмный, угрюмый и подавляющий.
В полутьме волчьими глазами горели огни многочисленных лампад. Словно в глубокой пещере или на дне колодца чувствовал себя Алесь в этом храме. Огни свечей бросали слабые отсветы на жёлтые лица певцов.
Молодые монахи пели стройно и уныло. Народа в церкви было много, и у многих был такой же испуганный вид, как у Алеся. В этом торжественном сумраке было страшно – казалось, по храму тяжёлой поступью ходит тень царя Ивана Грозного, любителя казней, – при нём и была построена эта пышная церковь. Когда Алесь с Ефремовым выбрались из тьмы на залитую солнцем Красную площадь, мальчик вздохнул с облегчением.
– Помолился? – спросил Ефремов.
Алесь не отвечал.
– Гляди, а то Поликарпов не возьмёт тебя в ученики. Что с тобой тогда делать?
– Да я молился, Михаила Ефремыч! Как вы приказывали!
Ефремов долго молчал.
– Да хорошо ли быть печатником? – сказал он. – Какова судьба печатников? Знаешь ли ты?
– Плохая?
Ефремов провёл пятернёй по волосам.
– Жил здесь, в Кремле, дьякон Иван Фёдоров. Давно это было, при царе Иване. Надумал российские книги печатать. А до него не было на Руси печатных книг.
Ефремов посмотрел на золотые кремлёвские маковки.
– Его сказнили? – догадался Алесь.
– Нет, не сказнили. А только разбили его стан и всю типографию сожгли. А про него слух пустили, будто он чернокнижник и колдун. И спас свою жизнь только тем, что убежал в Литву.
– Пьяные? – поинтересовался Алесь.
– Нет, – сказал Ефремов, – не пьяные! Попы!
Алесь испуганно на него посмотрел.
– И Поликарпов – поп?
– Какой же он поп! – кисло отозвался Ефремов. – Он жмот. Но дело знает. Книжник и мудрец, слава ему!
Вот какова она, Москва! Ничего не поймёшь в ней! Первопечатника прогнали, а книги печатают. Управитель типографии учёный человек, но жадный. Киприанов умница, но думает больше о своей выгоде. Ефремов не любит попов, но служит им всю жизнь. Да сам царь Пётр, бают, человек толковый, но немилостивый.
«Москва слезам не верит» – вот как говорят в народе. Истинно так!
ПОЛИКАРПОВ
Фёдора Поликарпова раздражал стук. По его разумению, в правильне Печатного двора должно быть тихо и благолепно. Так и было с тех пор, как построили это здание.
На потолке правильни изображён был свод небесный: на голубом поле золотые солнце и месяц, кругом серебряные облака, а под ними звёзды.
Вдоль стен стояли дубовые столы. Каждый справщик сидел в кресле. Перед ним была наклонная доска, на которой лежали листы с оттисками текста. Перед справщиками стояли каменные чаши с чернилами и киноварью, лежали десятки гусиных перьев разных размеров. К работе приступали торжественно, после молебна. Рабочим и подмастерьям раздавали медные деньги на калачи.
Сам Поликарпов был из простых людей. Десяти лет от роду, сиротой безвестным, поступил он учеником в греческую типографскую школу. Питался квасом, мочёным хлебом и луком, учился девять лет грамматике, диалектике, логике, физике, ораторскому искусству, знал греческий и латинский языки да ещё и по-немецки почитывал. На Печатном дворе служил вначале писцом, потом справщиком, а теперь был уже и управляющим.
Жизнь его прошла возле книг. Вначале он их благоговейно раскрывал и читал, медленно водя деревянной указкой по строчкам. Теперь он их сам сочинял и изготовлял.
В правильной палате, как и в палате книгохранительной, царствовала величавая тишина. Мастера, входя в палату, кланялись в пояс. Разговор происходил шёпотом.
Но сейчас эта тишина была нарушена. Внизу, под окнами правильной палаты, за Китайгородской стеной, чинили на Неглинной реке мост.
Весёлый стук топоров и молотков раздавался с утра. Поликарпов то и дело раздражённо поворачивался к окну.
– Беспокойный царь, – шептал он в бороду.
Перед ним лежал лист московской газеты «Ведомости». Жирными старинными буквами было напечатано:
«Из новыя крепости Питербурха пишут, что нынешнего июня в третий день господин генерал Чемберс с четырьмя полками конных да с двумя пеших ходили на генерала Крониорта… Наше войско мост и переправу овладели, наша конница прогнала его в лес, и порубили неприятеля с тысячу человек…»
– Беспокойный царь, – шептал Поликарпов.
– Дозвольте, сударь, войтить, – раздался голос с порога.
Поликарпов нахмурился. Его ястребиные глаза и нос повернулись к двери и в тени сразу определили, кто на пороге стоит.
– Входи, Ефремов, – сказал он.
Ефремов поклонился в пояс иконам, перед которыми теплилось много лампадок. Потом поклонился Поликарпову – не так низко, как иконам, но с почтением.
– Здравствуй, – рассеянно сказал Поликарпов, – просить пришёл?
Его острая бородка уставилась на Ефремова, как указка.
– Ежели дозволите, сударь, я о мальчишке…
– Знаю. Зачем он тебе?
– Мне ученики нужны, – сказал Ефремов.
– У тебя есть ученики – Александров и Петров.
– Мало, сударь мой. Александров и Петров женатые, к делу пришли поздно. Надобно с малых лет учить.
Поликарпов задвигал бородкой.
– Ты, Ефремов, ровно князь какой – подбираешь наследника своему княжеству. Помирать собрался?
– Никак нет, на бога надеюсь. Однако…
– Мастер ты отличный, но хозяин плохой, Ефремов! Добра не скопил, а наследника ищешь.
– Я ищу наследника уменью своему, – тихо отвечал словолитец.
– Покажи мальчишку!
Ефремов открыл дверь пошире. На пороге появился Алесь, золотоволосый, голубоглазый, вымытый, в праздничной рубахе до колен.
– Кланяйся, – приказал Поликарпов, – не так, не так… Сначала богу, потом начальству!
Алесь поклонился и богу и начальству.
– Буквы знаешь? Говори!
– «Аз», «буки», «веди», «глаголь», «добро», «есть»…
– Довольно! С конца читай!
– «Ижица», «фита», «пси», «кси», «я», «о», «ю», «ять»…
– Довольно! Падь сюда! Читай сие!
Алесь покраснел как кумач. Текст, на который указывал сухой палец Поликарпова, был витиеватый и сложный. Над узорными строчками, как птицы, летели чёрные значки.
– Не знаешь?
Сего ради молю вас, читателей,
Паче же искусных книжных писателей,
Аще кто сю имать переписывати,
Потщися прилежно присматривати…
Алесь молчал.
– До разумения книжного тебе далеко, – сказал Поликарпов.
– Дозвольте, сударь, ныне азбука иная будет… – начал было Ефремов.
Но Поликарпов его оборвал:
– Иная? Видел я! В старину таковыми буквами купцы отписывали про женитьбу сыновей…
– Однако государь повелел…
– Государь многое повелел: всем бороды брить, однако мы с тобой в бородах.
За окном, на мосту, дружно грянули молотки.
– Закрой окно! – приказал Поликарпов.
Ефремов закрыл. Поликарпов заходил по палате, позванивая связкой ключей, которую он постоянно носил на поясе.
– Молоты бьют, барабаны стучат! Нет более словесной науки, а одно дело прикладное. Всюду чемберсы, брюсы – иноземные еретики. Слова заморские пошли: были «чертежи» – стали «ландкарты». Были «слуги» – стали «лакеи». Были «воеводства» – стали «губернии». Было «войско» – стала «армия». Ныне генералы науки творят!
– Слова иноземные, сударь мой, и ранее были…
– Были? Новые надобно измышлять, а не чужие на скаку хватать! Царь скачет – там врага побил, тут мост построил. Там корабль сколотил, тут азбуку нарисовал… Скок-поскок! Топ-топ-топ…
Поликарпов остановился и стал глядеть в окно. Ключи перестали звякать.
Он молчал долго.
– Было время, – сказал он наконец, – в тиши науки цвели. Книги о высоком повествовали – о тайнах души, о промыслах священных. Ныне грек-учитель стареет, а ученики шалеют. Киприанов ландкарты и таблицы печатает, а причислен к артиллерии. Зачем тебе ученик? Отдай его в артиллерию!
– Дозвольте, дозвольте, Фёдор Поликарпович, – возбуждённо заговорил Ефремов, – раньше-то наука была за семью печатями, для священства…
– Что орёшь? – грозно сказал Поликарпов. – Ты не на торговой площади! И правильно было! Не для беглых крестьянов книги! Поди с мальчишкой своим! Покуда государева приказа не будет – не возьму его! Я учеников беру учёных, из Академии словено-греко-латинской. Сказано у латинян: «сапиенти сат», что значит «учёному довольно»… Итак, ступай!
– Куда же отдать его, Фёдор Поликарпович?
Поликарпов звякнул ключами.
– В монастырь! Пусть святой братии дрова колет.
– Дать надо было, – спокойно промолвил Киприанов.
Он снова сидел у Ефремова в литейной, повернув своё круглое, толстое, лукавое личико к верстаку, возле которого Ефремов стоял с иглой, держа в левой руке металлический брусок-пунсон, с которого отливают букву.
– Мне Поликарпову подарок дать? – недоуменно переспросил старик.
– А что? Он за определение в чины берёт по пять рублей, а то и по десять. С каждого наборщика по десять копеек в год. Сорока лет ему нет, а дом на берегу реки Москвы построил, дворня у него, две лавки, библиотека в семьсот книг. А жалуется на бедность. Сквалыга!
Ефремов задумался и покачал головой.
– Не дам, – сказал он решительно.
– Куда же пастушка своего денешь?
– У меня будет жить. При книгах.
Дело, однако, оказалось не так просто, как думал простодушный словолитец.
Через неделю к нему на двор пожаловало духовное лицо. Это был человек ещё не старый, с русой бородкой и остро очерченным носом. Он топал сапогами резко и энергично, совсем не так, как положено священникам. За ним шагали два усатых солдата в зелёных мундирах. В руках у них были алебарды.
– Ефремова Михаилу, словолитца, мне надобно! – прогремел гость на весь двор.
– Я, батюшка, – поклонился Ефремов.
Гость вытащил из-за пазухи бумагу, развернул её и прочитал:
– «Ефремову Михаиле, словолитцу государева Печатного двора, приказываю его мальчишку, беглого из крестьянов, доставить немедля в Донской Богородицкий монастырь, отцу эконому Савватию, ради призрения духовного паки телесного. А ежели того не учинит, то платить ему в казну пять рублей, а мальчишку приблудного доставить в монастырь со стражею, дабы не было другим пагубного примера в укрытии беглых на Москве. Подписал начальник Монастырского приказа боярин Мусин-Пушкин». Уразумел?
Ефремов не испугался. Он запустил ладонь в бороду и проговорил почти неслышно:
– Поликарпов донёс…
– Что Поликарпов? – грозно спросил гость.
Ефремов глубоко вздохнул.
– Прав Киприанов, – сказал он, – пожалуй, батюшка, сделай милость в дом войтить.
Гость помедлил с минуту.
– Войду, пожалуй, – сказал он величественно, – а вы, служивые, подождите на дворе.
Алесь слышал этот разговор из открытого окошка. Пот выступил у него на лбу. Он вспомнил полутьму «Василия Блаженного», огоньки свечей и жёлтые, печальные лица монахов. Его туда хотели отдать на всю жизнь.
«Скорей бежать!» – пронеслось у него в голове.
Но как бежать? Солдаты расхаживали по двору и щупали рукоятками алебард то дверь амбара, то оконце бани. С другой стороны двора, вплотную к дому, стоял высокий забор из кольев.
Алесь спрятался на чердаке.
«Ежели начнут меня искать, – думал он лихорадочно, – то вылезу на крышу, а оттуда прыгну поверх забора. Авось проскочу! Я в деревне с сосен скакал…»
Дедушка Ефремов с гостем говорил долго. Когда гость вышел на крыльцо, нос у него был красный, а глаза соловые.
– Стало быть, мальчишка приблудный от тебя сбежал, – проговорил он, с трудом шевеля языком, – о чём истинно жалею… Ежели где найдём его, то к святой братии отвезём немедля. С тем будь здоров!
Он торжественно благословил Ефремова и, покачиваясь, поплыл к воротам. Солдаты переглянулись и последовали за ним. Алесь подождал ещё несколько минут и слез с чердака.
– Не возьмут меня, дедушка Ефремов? – спросил он слабо.
– Пока я жив, авось не возьмут, – отвечал старик, – но смотри со двора никуда не выходи да попам на глаза не попадайся. Прав был Киприанов… Ах, Поликарпов, ах, жмот! Изо всего деньги вышибает!