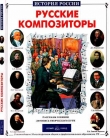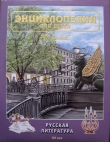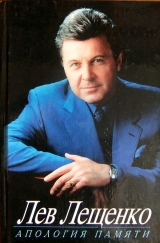
Текст книги "Апология памяти"
Автор книги: Лев Лещенко
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 22 страниц)
Он улыбается:
– Конечно помню.
– Так, может быть, тряхнем сейчас стариной? Только теперь уже немножко по-другому – ты куплет, и я куплет…
На мой взгляд, получилось очень даже неплохо.
Но этот наш с Иосифом «баритональный дуэт» символизировал на самом деле нечто гораздо большее, чем демонстрацию дружеских чувств. Осмелюсь предположить, что мы тогда с ним, возможно, даже заложили фундамент одной весьма популярной нынче концертно-исполнительской традиции. Ведь что такое дуэт в его привычном, классическом понимании? Это когда двое певцов, как говорится, делятся на два голоса – первый и второй, исполняя каждый свою партию, свою вокальную строчку. То же самое происходит в классическом трио, квартете, квинтете и так далее. Цель этого разделения по голосам и партиям – добиться эффекта голосового аккорда, гармонического созвучия, которое, к примеру, производит такое необыкновенное впечатление при пении а капелла. Гораздо реже практикуется пение в унисон, когда практически одинаковые по характеру звучания голоса исполняют одну и ту же тему. Во всяком случае, на профессиональном уровне такое встречалось не часто. Однако, скажем, в народном искусстве такого рода унисон – обычное явление…
Не случайно, наверное, на мировой сцене появилось поразившее всех вокальное трио, состоящее из одних лишь теноров. Имена их говорят сами за себя – Лучано Паваротти, Пласидо Доминго, Хосе Каррерас. Поют они по-всякому: и по куплету одной и той же песни каждый, и в унисон, и каждый свой отдельный номер, но сути это не меняет – перед нами трио однотипных теноров. Результат же от такого не совсем обычного «голосового союза» – сногсшибательный. Что лишний раз доказывает, что в искусстве возможно все, лишь бы это делалось на высочайшем профессиональном уровне…
К слову, когда к нам с Иосифом все на том же моем юбилейном концерте присоединился еще один баритон – Володя Винокур, мы образовали уже самое что ни на есть профессиональное вокальное трио, которое под громовые аплодисменты публики исполнило несколько хитов подряд – и «Лапти мои», и «Во кузнице»… Таким образом, мы не только попали в струю новой общемировой тенденции, но и в определенном смысле даже предвосхитили ее появление!
Впрочем, все, что связано с неустанным творческим поиском Иосифа Кобзона, удивляет и радует своей новизной. Достаточно вспомнить то ошеломляющее впечатление, которое произвели на всех нас в середине 1970-х годов песни из телесериала «Семнадцать мгновений весны». Немыслимо себе даже представить эти знаменитые произведения композитора Микаэла Таривердиева и поэта Роберта Рождественского в чьем-либо другом исполнении, кроме Кобзона. Помню, с каким нетерпением все мы дожидались окончания очередной серии, чтобы на идущих в финале титрах вновь услышать бесконечно волнующие слова: «Не думай о секундах свысока…» На мой взгляд, это было высшее достижение певца Иосифа Кобзона, на которого, и без того уже пользовавшегося в стране поистине беспрецедентной популярностью, нахлынула, образно говоря, волна новой славы.
Так что по части творчества у Иосифа всегда все было в порядке. Чего никак нельзя было сказать о его личной, семейной жизни. В первый раз он был женат на эстрадной певице Веронике Кругловой, во второй – на актрисе Людмиле Гурченко, союз с которой также закончился разводом. Что было тому причиной, судить не мне. Я считаю, что в таких делах решают только двое. Что же касается новой женитьбы Иосифа на юной обворожительной ленинградке Неле, то мне, увы, даже не довелось побывать на их свадьбе. Знаю только, что Неля тогда училась не то в каком-то техникуме, не то в училище, но, по признанию самого Иосифа, когда их друг другу представили, между ними сразу же вспыхнуло взаимное чувство. Хотя, конечно, что означает понятие «быть представленным» по отношению к знаменитому артисту, которого знает вся страна? Не скрою, поначалу меня, как и многих друзей Иосифа, поразил его выбор. Мы рассуждали примерно так: «Чем, интересно, взяла нашего друга эта незнакомая, неизвестная нам девушка? Что может стоять за ней, кроме молодости и красоты? А посему этот его новый бурный роман наверняка продлится не долго…» Но, как известно, в итоге победила именно Неля, доказавшая всем, что лучшей подруги жизни у Иосифа, видимо, быть просто не может. При здравом размышлении я пришел к выводу, что и сам когда-то поступил примерно так же, как и Кобзон, – выбрал себе в жены женщину не из нашего пресловутого «мира искусства». История знает массу примеров того, чем обычно заканчиваются союзы двух, так сказать, «муз». Хотя известны и весьма удачные и стойкие альянсы, достаточно назвать такие творческие семьи, как Ирина Скобцева и Сергей Бондарчук, Тамара Синявская и Муслим Магомаев, Светлана Немоляева и Александр Лазарев, Инна Чурикова и Глеб Панфилов, Наталия Белохвостикова и Владимир Наумов, Елена Санаева и Ролан Быков… Но это, на мой взгляд, блистательные исключения, лишь подтверждающие общее правило: «Актерская семья – недолговечна». Я, во всяком случае, в свое время зарекся на всю оставшуюся жизнь связывать себя брачными узами с представительницей артистической, а если конкретно – певческой профессии. Артист в семье может быть лишь один – или он, или она, – это мое твердое убеждение. Кто-то один должен ждать другого из бесконечных, изматывающих гастрольных поездок, с лаской и заботой встречать его в уютном, ухоженном доме. Только в таком случае артист сможет отдаваться своей работе полностью. Так что с Иосифом в данном вопросе я был солидарен полностью… А спустя какое-то время у него родился первенец Андрей, который впоследствии пробовал себя в музыке, но теперь занимается предпринимательством, и, как мне известно, вполне успешно. Таким образом, теперь и на этом фронте у моего старшего друга, тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, абсолютный порядок.
А слово «порядок» – едва ли не главное в лексиконе Кобзона. Он – в высшей степени принципиальный человек. Я, скажем, верю в его искренний патриотизм, когда он выражает свое мнение по этому вопросу, в чем сильно сомневаюсь порой, слушая других. Иосиф – один из тех очень немногих отечественных звезд эстрады, а точнее – суперзвезд, который раз шесть-семь бывал в Афганистане в период афганской войны. И если там он, к примеру, подружился с генералом Борисом Громовым, то этой фронтовой дружбе остается верен до сих пор. На нынешнего президента Ингушетии генерала Руслана Аушева Иосиф тоже обратил внимание в Афганистане, когда тот был еще майором. И очень, на мой взгляд, помог тогда этому боевому офицеру в смысле его дальнейшей карьеры… Я сам три раза был в Афгане во время военных действий и знаю, что такое война, не с чужих слов. Доводилось летать на «МиГ-29», ездить на танке, бронетранспортере… Что же заставляло Иосифа, который, как никто другой, мог спокойно почивать на лаврах, в прямом смысле слова рисковать жизнью? Думаю, его увлекал неистребимый, жадный интерес ко всему, что происходит вокруг, стремление все увидеть своими глазами, во всем разобраться самому. А потом, соответственно, всеми доступными ему средствами сфокусировать на этой проблеме общественное мнение. Хотя с ходу разобраться в сложившейся ситуации было далеко не просто. Слова «интернациональный долг» были для нас не пустым звуком, как и понятие патриотизма, долга перед Родиной. И потому мы делали, что могли, – выступали во фронтовых госпиталях, в военных лагерях, объехали почти весь Афганистан – и Фарах, и Джелалабад, и даже Кандагар – в самый разгар боев…
Так вот, что касается Иосифа, он совершенно удивительный парень в смысле «первооткрывательства». Из всех нас, советских артистов, он приехал в Афганистан первым. Там, правда, была еще Эдита Пьеха, но она там оказалась по приглашению какой-то международной организации… Не кто иной, как Иосиф, открыл в свое время для нас сверхдальние гастрольные маршруты, такие, как Сахалин и Камчатка. Конечно, эти его бесчисленные поездки в не освоенную еще никем глубинку были прежде всего связаны с финансовыми интересами, так как в центральных регионах СССР мы могли иметь лишь строго ограниченное количество концертов. Но в то же время все это говорит еще об одной важной черте характера Кобзона – его безусловной самостоятельности.
На моей памяти Иосиф Кобзон никогда ни под кого не прогибался и не прогибается по сей день. Это ему часто здорово вредило, но он непоколебимо стоял на своем и поступал так, как считал нужным. Меня очень радует и то, что мы с ним абсолютно сходимся в оценке нашего не столь далекого советского прошлого, особенно в области решения социальных проблем. Мы убеждены, что, несмотря на многие серьезные недостатки, присущие социализму, тогда все это делалось намного точнее и правильнее. При этом мы конечно же не ностальгируем по тому времени. Но и не отрицаем огульно все то ценное, что в нем было.
Иосиф – беспокойный, живой, увлекающийся, невероятно энергичный человек с таким запасом жизненных сил, которых, кажется, хватило бы на добрую дюжину других людей. И именно эта его вечная увлеченность своим любимым делом вкупе с неистощимостью его творческих потенций создавали для него, пожалуй, единственную проблему в общении с нами, коллегами по сцене. Для исполнителей, выступавших в программе сборного концерта после Кобзона, всегда было сущей бедой как раз то, что Иосиф, как правило, очень много поет (если только это благородное явление можно назвать «бедой»). Ведь что такое «сборная солянка», как мы на своем сленге называем концерт с участием многих исполнителей? Это значит, что артист, отработавший уже где-то два-три подобных концерта, прилетает сюда весь в мыле, часто опаздывая, и сучит от нетерпения ногами, стремясь как можно скорее «отстреляться», дабы успеть куда-нибудь еще. Я несколько утрирую ситуацию, но, в общем, так оно и есть. И что же прикажете делать означенному артисту, выходящему следом за Иосифом, когда тот под несмолкающие аплодисменты любящей его публики вместо заявленных в программе двух песен исполняет подряд три, четыре, пять, шесть, семь, восемь? Иосиф, как высочайший профессионал, понимает, естественно, что он делает, но пересилить себя в данном случае просто не может. Что уж тогда говорить о его сольных выступлениях, где он, по-моему, побил все мыслимые рекорды? Помню, лет десять назад на своем творческом вечере в ЦДРИ Иосиф простоял на сцене пять часов как вкопанный, а один из сидевших рядом со мной зрителей ради интереса подсчитал, что он за это время спел шестьдесят четыре песни! И как спел! Что же касается его знаменитого «прощального вечера» в Концертном зале «Россия», го, начав его своими песнями в семь вечера, Иосиф закончил его где-то в четыре часа утра следующего дня, что характерно, не присев при этом ни на миг. И хотя пел он на этот раз не в режиме «нон-стоп» (то есть подряд, без остановки, так как в паузах ему нужно было принимать подарки от бесконечной череды поздравляющих), его поистине сверхъестественная выносливость потрясла всех. Самое поразительное, что, отпев за это время совершенно фантастическое количество песен, Иосиф был к четырем утра свеж и бодр.
Такой вот человек. Недаром же Валентин Гафт адресовал ему одну из самых своих блистательных эпиграмм:
Как не остановить бегущего бизона,
Так не остановить поющего Кобзона!
Иосиф – фантастически независимый человек, не приемлющий роли ведомого. Он – прирожденный лидер, о чем свидетельствуют и числа в его «квадрате судьбы». «Квадрат судьбы» ведет свое происхождение от пифагорейской школы, придающей магическое значение числам. Это – своего рода гороскоп, где по датам рождения и всему прочему определяется назначение личности. Единица здесь, скажем, отображает характер, двойка – связь с космосом, тройка – здоровье и так далее, за точность не ручаюсь. Так вот, у Иосифа значение характера определяется сразу пятью единицами, что свидетельствует о невероятной твердости его характера и поистине нечеловеческой силе воли…
Есть у него и такие «ноу-хау», в которых его не догнать никогда. Взять хотя бы его уникальную систему под названием «Кобзон-обзвон». Это не просто записи в еженедельнике, которые ведет каждый из нас. Это такая особая «бумага», на которой очень мелким почерком записана вся «телефонная программа» действий Иосифа Кобзона на текущий день. Причем эта привычка идет у него еще со студенческих лет. Однажды я ради интереса заглянул в одну из таких бумаг и насчитал там не менее сорока телефонных номеров! И так – буквально каждый день. Где Иосиф при столь невероятной коммуникативной активности находит время для того, чтобы еще и выступать на сцене, репетировать и разучивать новые песни, для меня остается загадкой. Сидим мы с ним недавно, к примеру, на совещании у министра культуры Михаила Швыдкого. В числе присутствующих – Геннадий Хазанов, Георгий Гаранян, Игорь Крутой, Михаил Жванецкий, Александр Достман, Эмиль Кио, Александр Петров, Петр Шаболтай… Все, естественно, предельно сосредоточенны и озабоченны, так как решается важный вопрос о возобновлении Всероссийского конкурса артистов эстрады. Обсуждается в первую очередь сама необходимость подобного конкурса. Нужно ли это в эпоху расцвета телерейтингов и прочего интерактива, по которым определяется уровень популярности того или иного исполнителя? Я беру слово: «Думаю, что такой конкурс необходим жизненно. Ибо с эстетической стороны наши эстрада на сегодняшний день находится просто-таки в плачевном состоянии. Нужны хоть какие-то эстетические ориентиры! Какой к черту может быть интерактив, если согласно ему (то есть мнению зрителей!) не так давно лучшим артистом года был признан Дмитрий Харатьян, в то время как великий русский актер Олег Борисов занял лишь «почетное» сороковое место? Решать, кто у нас сегодня на эстраде первый, а кто второй, должен не безграмотный анонимный интерактив, а представительное жюри, состоящее из профессионалов. Только тогда «путевка в жизнь», данная этим жюри победителю конкурса, сможет помочь истинно талантливому человеку пробиться, выжить в жуткой современной ситуации, когда все решают деньги…» Ну, словом, начинается дискуссия. Иосиф, как и следовало ожидать, принимает в ней самое активное участие. Но при этом, как я замечаю, не забывает все время вносить какие-то пометки и заметки в свой разложенный на коленях легендарный «Кобзон-обзвон»! Ну что тут еще скажешь?
Так что завершить этот весьма конечно же несовершенный портрет Иосифа Кобзона мне, как одному из его «сынков», хотелось бы таким пожеланием: «Папа, никогда не старей и продолжай в том же духе!»
Песни и судьбы
Роберт Рождественский * Давид Тухманов * Леонид Дербенев * Юрий Антонов * Андрей Никольский * Филипп Киркоров * Лайма Вайкуле * Надежда Бабкина * Ирина Аллегрова * Евгений Болдин * Игорь Крутой
В свое время я записал на радио свыше четырехсот песен. Все они для меня по-своему дороги, все одинаково хороши, хотя не всем из них, что вполне естественно, была суждена долгая жизнь. У каждой из них есть свои авторы, отразившие в ней свое время, свои взгляды и настроения. Но чтобы воплотить песню в жизнь, чтобы она зазвучала, недостаточно одних лишь авторов и исполнителя. Сначала это – встреча с композитором, знакомство с новой песней. Затем – «впевание» в нее, работа в студии, где в процесс ее создания включается порой очень большое число людей, среди которых и музыканты-оркестранты, и аранжировщики, и музыкальные редакторы, с помощью которых происходил отбор каждой из моих песен, и звукорежиссеры на радио и на концертах, отвечающие за качество звучания… Словом, огромное количество самых разных человеческих характеров и судеб, образующих вокруг каждой песни как бы некий особый пространственно-временной континуум, целую «галактику», живущую по своим собственным законам. Все это, естественно, в той или иной степени осталось запечатлено в моей памяти. Данная книга и есть, по сути, попытка зафиксировать все то, что сохранила намять, чтобы в дальнейшем воспроизвести минувшие события в гораздо более подробном виде. То есть я не исключаю возможности создания и следующей книги, где основное мое внимание будет уделено уже не биографической канве событий, как это делается здесь, а их внимательному рассмотрению и осмыслению. Что же касается той «галактики» людей, профессионалов, принимавших наряду со мной участие в создании песен, влияние их на меня было велико и огромно. Многих из них я вспоминаю теперь с благоговением, даже тех, с кем не был особенно близок в жизненном плане. И первым среди них, человеком, перед которым и сегодня я преклоняюсь, был Роберт Рождественский.
Это была уникальная личность, поэт, ставший для нас, тогдашней молодежи, негласным духовным лидером, по сути, определившим для нас высокие жизненные идеалы. Его поэзия была образцом искреннего гуманизма и столь же искреннего патриотизма, что было тогда очень ко времени. Страна вставала из руин войны, духовный тонус людей был очень высок, и это позволяло творить истинные чудеса уже на мирном фронте. Тысячи молодых людей с азартом устремились на освоение целины, затем на строительство Норильска в непроходимой тайге, шло освоение космических дорог. Все это и заряжало созидательной энергией поэзию Рождественского. Представить себе стихи, несущие столь мощный позитивный заряд, сегодня – просто невозможно. Причем пафос Рождественского вовсе не был громогласным, оглушительным. В том-то и дело, что его жизненный позитивизм воплощался всегда в достаточно сдержанной поэтической форме. Поэтому каждый раз, произнося строки его стихов, я воспринимал их как свои собственные, идущие из глубины моей души. Так было, когда в начале 1970-х годов я записывал фонограммы с песнями на стихи Рождественского для спектакля Центрального детского театра «Молодая гвардия». В моем репертуаре появились три его замечательные песни-баллады – «Огромное небо», «Баллада о красках» и «Баллада о знамени» на музыку Оскара Фельдмана.
Мы тогда еще не были знакомы, но, «общаясь» с его стихами, я остро ощущал воздействие его таланта и его вдохновения. Забавно, но до нашей с ним встречи он представлялся мне человеком огромного роста, могучим гигантом, чуть ли не достающим головой до небес. Когда же я увидел его воочию, то не был в этом смысле разочарован, хотя Роберт Иванович ничем не напоминал гиганта. О масштабе его личности говорило другое – огромные проницательные глаза, высокий лоб… Было в его облике нечто, напоминающее мне Маяковского, моего любимого поэта. Впечатление масштабности, монументальности, исходившее от Рождественского, не портил даже небольшой дефект речи – он немного заикался. Именно такой большой человек, глобально ощущающий жизнь и одновременно оценивающий ее с феноменальной тонкостью, мог дать ответы на многие вопросы мне, молодому парию, только-только пришедшему в мир искусства. А проще говоря, мне крайне нужно было тогда в этом необъятном мире за что-то зацепиться, ощутить под ногами опору. И в этом смысле поэт Рождественский стал для меня своего рода нравственным поводырем.
Скажу сразу, что после нашей встречи никаких дружеских отношений у нас не возникло. Во-первых, он был значительно старше меня, а во-вторых, он все же был Робертом Рождественским, одним из самых крупных и почитаемых поэтов того времени. Естественно, ему не мог быть ровней молодой начинающий певец, способный только восхищаться его поэзией и личностью, что с моей стороны могло бы выглядеть несколько не по-мужски. И только значительно повзрослев и как бы тем самым немного сравнявшись по возрасту, мы вновь встретились на фестивале «Красная гвоздика» в Сочи в компании известных всей стране поэтов и музыкантов. И тогда я сделал вот что. Я попросил разрешения произнести тост и воздал должное каждому из собравшихся, в том числе, естественно, и Роберту Ивановичу, которого данная ситуация уже позволяла мне без особого стеснения называть дорогим для меня поэтом современности и моим песенным кумиром… За это Рождественский выразил мне благодарность в своей обычной сдержанной манере – улыбкой и наклоном головы. С этого момента и возникла, как я надеюсь, его ответная ко мне симпатия…
А потом я переживал вместе со своими друзьями, когда с Робертом случилась беда и он должен был лечь на операцию за рубежом. Но, слава Богу, тогда все обошлось, и он смог после этого прожить еще несколько лет, хотя его последняя книжка явилась как бы предчувствием ухода…
На конкурсе артистов эстрады я впервые победил, выступая с песнями-балладами на стихи Роберта Рождественского. Судьбоносной встречей с песней на его стихи стало для меня исполнение «За того парня» на Международном фестивале эстрадной песни в Сопоте. И еще одной, поистине великой песней, которую мне довелось исполнять, я считаю созданную им в соавторстве с композитором Давидом Тухмановым песню «Притяжение земли», где рефреном звучат слова:
Мы – дети Галактики,
Но, самое главное,
Мы – дети твои,
Дорогая Земля!
Именно в этой песне я смог практически полностью использовать широкое, распевное, кантиленное звучание своего голоса. Дело в том, что обычно, когда я исполняю эстрадную песню, то не «включаю» весь голосовой диапазон – песня вообще требует более «открытого», естественного звука, более «разговорной», доверительной интонации, в отличие, скажем, от оперного исполнения, где звук «прикрытый». В «Притяжении земли» поэтом был создан настолько удобный фонетический ряд, что это давало мне возможность петь полным голосом. Вообще когда певец говорит, что такие-то стихи не годятся для песни, он зачастую прав – он, как никто другой, знает, что, например, «ударная» строчка должна заканчиваться не на согласную, а на гласную букву, так как согласная не тянется, и так далее и тому подобное. Все это блистательно учитывал в своих песенных текстах Роберт Рождественский, демонстрируя потрясающее мастерство поэта-песенника. Словом, я бесконечно благодарен судьбе за то, что она подарила мне эту встречу.
А мое творческое сотрудничество с Давидом Тухмановым, которого я считаю одним из самых выдающихся песенных композиторов XX столетия, началось, увы, отнюдь не с песни на стихи Рождественского. На встречу с Тухмановым я рвался долгие годы, надеясь, что когда-нибудь он все же даст мне что-нибудь для исполнения. Дело в том, что, когда я еще только-только появился на эстраде, он уже был автором многих очень популярных в то время песен, которые исполняли самые известные певцы – Эдита Пьеха, Нина Бродская, Владимир Макаров, Валерий Ободзинский… На всю страну гремели «Эти глаза напротив», «Последняя электричка» и еще многое, многое другое. Поэтому, получив в один прекрасный день от Тухманова песню «Двадцать три часа полета», я был, конечно, рад, да и песня мне нравилась. В то же время я понимал и то, что Давид Федорович, так сказать, с барского плеча, особо не задумываясь, дал мне, молодому исполнителю, песню, которая по каким-то причинам осталась у него невостребованной. И хотя я тогда был вовсе не таким уж и «молодым», как-никак за моими плечами были победы на международных фестивалях, с Тухмановым у меня контакта почему-то долгое время не происходило. Так или иначе, я сделал запись этой песни, которая, впрочем, не принесла особых лавров ни мне, ни ее автору. Но вот настал наконец момент, когда Тухманов позвонил мне сам:
– Лева, мне кажется, для тебя есть подходящая песня. По-моему, получилось. Ты ведь просил написать песню специально для тебя? Так что давай, приезжай…
Я тут же приехал к нему на дачу в Переделкино, где он жил со своей женой, поэтессой Татьяной Сашко. Вид его усадьбы с железными воротами меня просто-таки потряс. Меня провели в дом с огромным камином, огромным обеденным столом и высокими креслами в готическом стиле. Когда я пришел в себя и немного освоился с обстановкой, Давид сел за рояль и исполнил мне (а поет он очень даже неплохо) песню на слова Анатолия Поперечного, в которой был такой лихой рефрен: «Из полей уносится печаль, из души уходит прочь тревога…» Чувствовалось, что этой своей вещью он чрезвычайно доволен. Но, честно признаюсь, я с ним этих чувств не разделял. Опять, думаю, прокол. Какой-то полуцыганский припев, да и все остальное – не очень. Словом, «Соловьиная роща» не произвела на меня ровно никакого впечатления.
Уехал я в подавленном состоянии, больше уже не надеясь на удачу. Но песню, правда, добросовестно выучил, а через день началась ее запись в пятой студии Дома радиовещания и звукозаписи, там, где обычно пишутся большие симфонические оркестры. Адику (так мы между собой называем Давида), по причине его сверхпопулярности, всегда давались лучшая студия, лучшее время и лучшие звукорежиссеры, такие, как Аркадий Мелитонян, который в этот день сидел за пультом. И все бы ничего, но тут к нам на запись явилась Татьяна Сашко и начала буквально, что называется, вытягивать из меня душу, а проще говоря, привязываться к каждому моему слову. То, по ее мнению, я не так спел фразу, то это слово надо петь «открыто», а вот это – «закрыто»… Здесь надо учесть, что я все-таки был в то время уже достаточно зрелым и опытным артистом, прекрасно знающим свои певческие и актерские возможности. И потому к концу записи я находился в предыстерическом состоянии, еще бы немного – сорвался бы, послал всех подальше и хлопнул дверью. Тем более, что писали мы эту песню, по моим меркам, чудовищно долго – три или четыре часа, «колдуя» буквально над каждым ее словом! Я же привык записываться «с лету», делая обычно один или два дубля, так как пел всегда интонационно очень чисто и актерски точно, что авторов устраивало полностью. А тут – настоящий кошмар… Но с другой стороны, я помнил, что когда-то, в самом начале своего пути, я записал песню Шаинского «Не плачь, девчонка» со второго же дубля и был собой очень доволен. А потом, прослушивая запись, обратил внимание на то, что в одном месте не совсем чисто пою такую-то ноту. Ну, песня и в таком виде пошла, конечно, в жизнь, но я-то этим мучаюсь и по сей день…
А что касается записи «Соловьиной рощи», то Таня не позволила мне здесь ни одной неверной интонации, не говоря уже о «нечистой» ноте. Но тем не менее я вышел тогда из студии совершенно измочаленным и с одной-единственной мыслью в голове: «Стоило ли так долго мучиться, чтобы записать еще одну никому не нужную песню?»
И вдруг спустя какое-то время до меня стали доходить слухи, что «Роща», прозвучавшая в радиоэфире, начала пользоваться все возрастающим успехом у слушателей. Я, грешным делом, в это не поверил. Но тут одна из наших девочек-гримерш, обычно очень иронично относившаяся к солистам из вокальной группы Гостелерадио, делает неожиданное заявление: «Знаешь, Лещенко, у тебя наконец-то появилась довольно приличная песня. Она очень современная, модная, в стиле диско, и в то же время в ней есть настоящая русская удаль, размах…» Ну, я чуть не упал от удивления.
Дальше – больше. И вот, наконец, становится ясно, что «Соловьиная роща» в исполнении Льва Лещенко – одна из самых любимых песен нынешней молодежи. А сам Лев Лещенко занимает в одном из журнальных рейтингов того времени верхнюю строчку как лучший исполнитель (но не исполнитель какой-то конкретной песни, а «исполнитель» в общем смысле). Вот тебе, думаю! Недаром мы тогда, оказывается, так мучились! Надо ли говорить, насколько с этих пор возросло мое доверие к Тухманову. И тут в 1975 году, то есть в юбилейный год тридцатилетия Победы, подходит ко мне Адик:
– Лева, ты знаешь, есть тут у меня одна неплохая песня. Но ее почему-то не берут на радио…
А рядом с ним стоит редактор радиостанции «Юность» Женя Широков, который пытается втолковать Давиду, что нельзя эту песню про День Победы давать для исполнения девушке. Оказывается, этой «девушкой» была не кто иная, как Таня Сашко. Но худсовет радиостанции «Юность» все это категорически «зарубил», объявив, что ни сама песня, ни ее исполнительница никуда не годятся. И тут же Женя посоветовал Адику:
– Пусть эту песню попробует спеть Лева Лещенко. Он ведь у нас – певец как раз гражданственно-лирического плана, обладает мягкой выразительностью…
Давид соглашается:
– Ладно, давай попробуем.
И вот где-то уже в апреле я разучиваю песню «День Победы», после чего уезжаю на гастроли в Алма-Ату и исполняю ее впервые на публике. И вижу, что в зале творится что-то невероятное – люди встают, скандируют «Бис!», «Браво!», какой-то пожилой мужчина расплакался как ребенок и выбежал из зала… Я понимаю, что «День Победы» произвел на них ошеломляющее впечатление. Вывод один: «День Победы» Давида Тухманова на слова Владимира Харитонова – не просто песня, это великая песня. В тот же вечер звоню Давиду в Москву:
– Адик, если бы ты видел, как народ сегодня принимал «День Победы»! Это было что-то потрясающее, в жизни еще такого не видел! Как только вернусь, немедленно надо ее записать! Так что ты придержи ее пока для меня…
А Давид отвечает:
– Лев, да я-то в принципе не против. Но дело в том, что эту песню уже вроде как отобрали для праздничного «Голубого огонька», где ее будет петь Сметанников.
Я говорю:
– Ну что поделаешь… Но все равно, когда приеду, я ее тут же запишу.
Одним словом, приезжаю я, записываю «День Победы», ее один раз прокручивают на какой-то волне, но в центральный эфир не дают якобы по той причине, что премьера ее должна состояться в «Голубом огоньке». Я, правда, эту передачу не смотрел, но узнал, что после исполнения «Дня Победы» Леонидом Сметанниковым эту песню «прикрыли» наглухо. Якобы в ней слишком много пафоса, дурного тона, и вообще все это – «ряд примитивных строчек, положенных на какой-то современный фокстрот», то есть здесь происходит явная дискредитация такой святой для нас темы, как Победа в Великой Отечественной войне…
Ну, прикрыли так прикрыли, думаю. Петь ее в концертах это мне не помешает. И исполняю ее каждый раз с сумасшедшим успехом. Тут наступает концерт по случаю Дня милиции, который, как правило, транслируется на всю страну. И я контрабандой «протаскиваю» «День Победы» в прямой эфир на этом самом концерте. На следующий день все телевидение буквально завалено письмами телезрителей с просьбой еще раз повторить эту песню в исполнении Лещенко. А через два месяца я исполняю «День Победы» на «Песне года-75»…
После этого проходит года два, в течение которых мы записываем с Адиком еще две его песни – «Женщины» и «Свадебные кони». И наконец, появляется в моем исполнении третья прекрасная песня Тухманова – «Притяжение земли». Я считаю, что Тухманов и Рождественский создали здесь не что иное, как гимн Космоса, гимн Галактики и гимн планеты Земля одновременно. Думаю, что эта удивительная песня актуальна и сегодня, спустя двадцать с лишним лет, и останется актуальной до тех пор, пока будет существовать Земля. И если ее сейчас порой не слышно, то это не ее вина, а наша. Что делать, если на Земле царят хаос, разброд, междоусобицы, если люди забыли, что они – дети своей планеты?