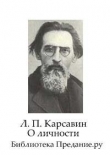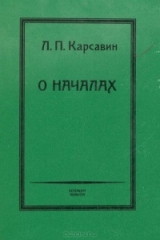
Текст книги "О Началах"
Автор книги: Лев Карсавин
Жанр:
Религия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 28 страниц)
22. Выдвигая значение практического или жизнедеятельного обоснования истины и оправдываемого им «пути авторитета», не следует забывать, что практическое обоснование, взятое само по себе, столь же неполно и односторонне, как и теоретическое. Основа нашего бытия, нашей жизнедеятельности и нашего знания дана в вере, как всецелом причастии к Истине (§18 ел.). Только верою можно окончательно обосновать знание, в частности – «знание научное»; и знание уже находится в вере – как богословие. Когда наука (философия) пытается обойтись без веры и найти свои основания, она обнаруживает в глубине своей религиозную веру. Часто, неполно опознавая эту веру, она подменяет ее ложною и противоречивою религией – религией Канта, Спенсера, Геккеля или Маркса – и стремится ею заменить христианство. Иногда она старается отгородиться от религии и разграничить соответственные сферы знания и бытия, но она делает это без ведома религии, которая на такое взаиморазграничение согласиться не может, и всегда неудачно (ср. § 2). На смену неудачным попыткам разграничить науку и религию, разделить неразделимое, или заменить вторую первой необходимо возобновить средневековое требование: наука должна быть служанкою веры, «philosophia ancilla theologiae est».
Возобновить не то же самое, что повторить; и, возобновляя выставленное сейчас положение, надо устранить неправильное, обусловленное духом католичества понимание его.
«Philosophia est ancilla theologiae». – Это прежде всего вопрос факта. Хочет она того или не хочет, но наука, особенно же на вершине своей – в качестве философии, исходит из некоторых основоначал, которые, притязая на абсолютную значимость, являются высказываниями об Абсолютном. Отказываясь от веры, которая одна только и может дать абсолютное обоснование, философия превращается в знание гипотетическое и, если остается последовательною, должна погибнуть и погубить вместе с собою все частные науки. Но, само собой разумеется, науке и особенно философии не приличествует быть знанием «бессознательным», наивно принимающим за истину предположительное, не осознающим своего смысла и значения. Поэтому факт становится должным. Желая оставаться философским («научным»), философское знание обязано сказать: «Философия должна быть служанкою богословия».
Теология – по точному смыслу слова, учение о Боге, который есть начало всего, – обосновывает себя верою, в частности же – знанием. И для философии стать служанкою богословия значит – 1) опознать свои основоположения, религиозные и, следовательно не удостоверяемые только познавательно или теоретически, и 2) не только «вывести» из них конкретное, т. е. усмотреть их в конкретном, но и все конкретное ориентировать к ним и его в них усмотреть, раскрыв знание, как истину всеединого бытия.
«Если философия станет служанкою богословия, она должна будет отказаться от свободы своих исканий и сомнений».
– Нисколько. Это – смешение понятий «служанка» и «рабыня». Если философия захочет стать «служанкою», богословие милостиво сделает ее своею любимою дочерью. Поскольку богословие пользуется умом и разумом (а лишь в меру этого оно и есть знание), постольку оно не отличается от философии ни по методу ни по степени своей свободы, разве только в том отношении, что оно свободнее философии. Богослов вовсе не должен признавать доказанным не доказанного или лишь символизируемого познавательно. Он обязан во всем сомневаться, все испытывать, считать достоверным лишь удостоверенное. Будучи верующим христианином, он конечно, не станет отвергать того, что теоретически не доказано, – он знает еще и другой род доказательства. Он не станет поспешно признавать ложью то, что для разума еще сомнительно, но будет преодолевать свои сомнения усилиями всего своего существа, не отказываясь от сомнения и вместе с тем не превращая его в отрицание. Он возьмет на себя крест сомнения и честно, не обманывая ни себя ни других, донесет его до конца. Конечно, сомнение его будет выражаться несколько иначе, чем сомнение философа. Богослов не станет впадать в отчаяние – ибо он не горд, а смиренен, философское же отчаяние чаще всего происходит от безмерной гордыни. И не станет богослов штурмовать непостижимое, вопить и требовать от Истины немедленного появления – он останется терпеливым и чинным.
Современному человеку сомнительны многие догмы христианства. Но он одинаково не выполняет своего религиозного долга, им самим ощутимого, и тогда, когда во имя сомнительности (на самом же деле – из желания освободиться от мук сомнения) сомнительное отвергает, и тогда, когда старается забыть свои сомнения и «верить, как дети». Это не вера детей, а вера одного еретика, который, возгоревшись желанием воспроизвести жизнь Спасителя, велел себя запеленать, положить в ясли и стал сосать грудь какой–то бабы. Детская вера внутри нас, там же, где Царство Божие. Дети без усилия приемлют самые непонятные для нас истины христианства. Их не смущает, что Бог стал человеком, был распят и воскрес, что Бог един и троичен в Лицах. Они знают, что в Боге и для Бога все возможно. И в каждом из нас еще живо это дитя. Оно смотрит на каждого из нас из глубины нашей – из детства нашего – своими чистыми глазами (замечаете ли вы, какие у маленьких детей чистые и мудрые, нездешние глаза? – точно они видят лицо Отца нашего Небесного) и плачет о нашей скверне. Или это мы сами плачем и стыдимся взглянуть в наши собственные детские глаза? Дитя живет в каждом из нас в нашем сомнении. Мы настойчиво твердим себе самим: «Это недоказано, невероятно, нелепо!», твердим и все же не в силах совсем отвергнуть.., потому что наше дитя смотрит на нас своими чистыми глазами и неслышным голосом шепчет нам: «И все–же это так. Посмотри, как это хорошо, истинно и прекрасно!» Ученый немец–богослов самым убедительным образом – и с помощью Канта и с помощью разума, и с помощью «исторической науки» – доказал себе, что Иисус родился не от Девы, что у Него были братья и сестры, что Он не Бог, а человек. Но его дитя посмотрело на него своими светлыми глазами, и смутился старый ученый немец и, как дитя, начал лепетать что–то невнятное: – Иисус Христос не Бог, но и не человек, относиться же к Нему надо, как к Богу. Зачем же так старался ученый профессор? Или он хотел обмануть свое дитя? Или забыл слова Человека, к которому сам не может отнестись, как к человеку: «Будьте, как дети»?
Богословие – стихия свободного познавательного искания. Исходя из него, философия не может стать несвободной. Разве она будет свободнее, если, вопреки истине, признает свои предпосылки нерелигиозными и тем ограничит и предмет свой и свои методы? Конечно, нет. Именно в этом случае она и ниспадет до положения рабыни – начнет рабствовать, но не богословию (богословие не рабовладелица, а госпожа и мать), а абсолютированной ею, философиею, ограниченности, мнимой и злой богине мира сего. Она неожиданно увидит себя в рабстве у наивной и необоснованной «веры» в «науку», в «формы созерцания» и «категории мышления», в «относительность», в «материю».
В идеале никакого противоречия между богословием (религией) и философией (наукой) быть не может. Практически между ними неизбежимы противоречия, разногласия и борьба. Естественно, что богословы, твердые своею верою, часто не доводят до конца теоретического обоснования догмы и склонны считать доказанным теоретически доказанное лишь жизнедеятельно и притом еще не формулированное безупречно в терминах знания. Они недооценивают философского сомнения, высокомерно требуют от других без размышлений принимать открываемое ими и вместо того, чтобы искать согласия, вожделеют о рабской покорности. Пока существует этот дух деспотизма, неизбежен и необходим пафос свободы. Носителем его является философия. Но тот же самый деспотизм обуревает и философов. Они, столь же высокомерные в своей уединенной ограниченности, не хотят признавать ничего, кроме доказанного ими, Эмпирически вражда религии с философией неизбежна. И так ли надо стремиться к ее устранению? Подлинный богослов и подлинный философ сумеют подняться над нею. Для истинного богословия философское сомнение не страшно, а желанно. Не должна и философия пугаться, когда богословие устанавливает свое первенство. Если ей мало высказанных уже общих соображений, пусть вспомнит о том, что как раз те богословы, которые наиболее резко выдвигали значение веры и авторитета, встречали наибольшее сопротивление в среде самих же богословов и часто слышали упреки в еретичности. Они то и оказывались самыми свободными.
23. Система христианского миросозерцания может быть оправдана только целостным религиозным опытом, который осуществляется никак не в писании книг и не в словопрениях. Кроме того истинный религиозный опыт не может быть индивидуальным, а должен быть – всеединым, т. е. эмпирически: симфоническим, соборным или церковным (ср. § 22). Здесь на земле мы не можем мечтать о полноте всеединства, но – только О гармонической согласованности нашего индивидуального опыта и нашей индивидуальной системы с опытом и системою всякого другого члена Соборной Церкви и всех ее членов. И даже такая согласованность – лишь идеал наших стремлений, ибо многие только еще придут на землю, многие покинули ее, не оставив плодов своего земного труда нам, многие не довершили своего дела и ждут нас и томятся, чтобы завершить его не без нас.
Невозможна, да и не нужна общая, одинаковая и обязательная для всех система христианского миросозерцания, В единственно–важной стороне своей – в основных, исходных положениях – она уже дана сжатыми догматическими определениями Соборной Вселенской Церкви (§ 21). Возможно лишь неопределенно большое число индивидуальных систем, воздвигаемых на этих основоположениях. И только так система христианского миросозерцания может быть всеедино–истинной. Каждая индивидуальная система должна дать и дает свой особый и единственный аспект христианской Истины. И без нее эта Истина не явит себя в качестве всеединой. Но всякая индивидуальная система должна, преодолевая по мере сил свою ограниченность, претворить в себя и другие, познать и выразить их по–своему, себя ими восполнить. Эмпирически это невозможно; и в этом эмпирическое несовершенство всякой индивидуальной системы, несовершенство неизбежное, до конца не ясное самому строителю ее. Следует ли отсюда, что надо от построения индивидуальных систем отказаться? – Не следует. Отвлеченно– и одинаково–общая система все равно невозможна и не нужна, а во всякой индивидуальной есть своя абсолютно–ценная истина, без которой нет Истины Всеединой.
По учению наставников наших, четыре человека вошли в Пардес; и вот имена их: Бен Аза, Бен Зома, Элиша бен Авуя, потом названный Ахером, что значит «другой», и рабби Акиба. Бен Аза воззрел любопытствующим взором и потерял свет очей. К нему можно отнести слово Писания: «Драгоценна пред очами Господа смерть святых Его». Бен Зома также воззрел, но потерял разум; и судьба его оправдывает слово мудрого: «Обрели вы мед? Вкушайте, сколько довлеет вам, дабы, восприяв в излишестве, не извергнуть его». Ахер произвел опустошение в насаждениях. Наконец, Акиба вошел с миром и вышел с миром. (Талмуд, Хагига, 14).
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
ГДЕ ЧРЕЗ АНАЛИЗ КРИТЕРИЯ ДОСТОВЕРНОСТИ НАШЕ СОЗНАЮЩЕЕ СЕБЯ БЫТИЕ РАСКРЫВАЕТСЯ. КАК ТВАРНОЕ ТРИЕДИНСТВО, ВСЕЕДИНОЕ В СВОИХ КАЧЕСТВОВАНИЯХ, ВРЕМЕНИ И ПРОСТРАНСТВЕ И ЯВЛЯЮЩЕЕ В ЕДИНСТВЕ СВОЕЙ ДУ. ХОВНО–ТЕЛЕСНОСТИ ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ ТВАРНОГО МИРА
24. Критерий достоверности или истинности нашего знания заключается в двуединстве субъекта и объекта его, единство которых не менее тожества, а двойство более «координации» (§ 18 ел.).
Вслед за упростившим Плотина Августином Декарт указал на осуществленность этого двуединства в нашем сознающем себя бытии. Оно сознает себя существующим и несомненно существует. Мое существование и мое самосознание – одно и то же; и тем не менее мое существование – нечто иное, чем мое самосознание. Мое самосознание неоспоримо, незабвенно, истинно потому, что оно есть само–сознание. И столь же истинно познаваемое мною мое бытие, потому, что оно само себя познает. «Cogito ergo sum» – поскольку «cogito» и есть «sum», поскольку одно и то же («я», «единство бытия и знания», «нечто») и «мыслит» и «существует». Но «cogito» (cogitatio) не есть «sum» (esse). Оно, будучи «sum», и противостоит ему, и отлично от него. Оно – либо частично есть «sum», а частично «иное» (но ведь оно – «sum», существует и существует целиком), либо – есть часть «sum», a «sum» лишь частично есть оно, частично же – иное (но ведь «cogito» притязает на «sum» лишь в пределах себя самого), либо – и есть «sum» и не есть «sum». И мы не усумнимся в «cogito ergo sum». Мы выразим его еще решительнее: «cogito – sum», но – для того, чтобы прибавить и поставить рядом еще и столь же несомненное: «cogito non» sum» или «cogito ergo поп sum». Сознание (знание) есть бытие, себя самого сознающее или – в качестве сознающего и сознаваемого, причем сознание не есть бытие, хотя все бытие сознает и все бытие сознаваемо.
Легко проглядеть апоретику Декартовского основоположения, как [в] том случае, когда оно осознается поверхностно, так и в том, когда оно осознается с особенною интенсивностью. Можно, далее, опознав «cogito ergo sum», как апорию, исходить из нее, как из первой данности и не делать никаких попыток к ее преодолению. Но мне кажется, что вся после–Декартовская философская мысль легко истолковывается, как ряд попыток преодолеть различные обнаружения усмотренной, (хотя и недостаточно) в его тезисе апории, которая сама лишь одно из обнаружений основной религиозной апории (§ 4). Этою природою ее и объясняется: почему наибольшего ее преодоления приходится искать не после Декарта, а до него, лучше всего – у Плотина. В родстве «cogito ergo sum» с основною религиозною апориею находит себе объяснение и параллелизм философских концепций религиозным: первые не что иное, как плод релативизации или «секуляризации» вторых, и не случайно основные мотивы новой западно–европейской философии и даже смена их «предвосхищены» схоластикой.
«Мое сознание есть мое сознающее себя бытие». Это суждение дает моему сознанию (или бытию) нечто новое, его обогащает. Что же? сознание (или бытие) мое ранее не существовало? – Отнюдь нет. Оно только не сознавало себя в качестве существующего. Оно обогатилось тем, что, непреодолимо раздвоившись, сознает себя сразу двумя своими моментами: бытием и знанием. Не ошибаюсь ли я, не поддаюсь ли коварному обману памяти? – Ни в коем случае. Ведь я сознаю себя существующим не в том смысле, что самосознание существует, как некая неизменность бытия. Я становлюсь в самосознание; и, как ни мгновенен процесс этого становления, он все–таки процесс, сразу содержащий в себе и бытие без самосознания и сознающее себя бытие, сразу, но в порядке последовательности. Я расту в сознании себя сущим. В начале я просто существую и не сознаю. Потом я сознаю себя все больше и больше, сознаю себя существующим. И «переход» этот от первого момента ко второму и последнему столь непрерывен, что я еще могу сознавать себя сущим и тогда, когда я только существовал, «в начале». Сознавая же себя все больше и больше, я сознаю непрерывное мое обогащение: мое самосознание непрерывно ширится и обнаруживает себя сущим все в новых и новых качествованиях.
Описываемое сейчас не менее, а более неоспоримо, чем «cogito ergo sum», так как тезис Декарта является или менее конкретным и полным описанием или рационалистическим истолкованием описываемого нами. Мы не вносим в описание гипотез, исходим не из всевременности нашего сознания, а из непосредственно наблюдаемого. И не наша вина, если сознание на самом деле умалённо–всевременно.
Итак сознание в качестве сознания себя сущим есть процесс его самостановления из «бытия», которое существует, но существующим себя не сознает, в бытие–сознание, которое сознает себя существующим в саморазъединении на сознающее и сознаваемое и в самовоссоединении. И самовоссоединение здесь не устранимо, так как отличительная черта акта самосознания в том, что он соединяет уже предлежащее ему разъединенным. Вое соединением же, а не простым соединением акт сознания является потому, что в соединении разъединенного обнаруживается перво–единство, без которого соединение не было бы и возможным. В самовосстановлении своем бытие мое сознает себя растущим в новизну, обогащающимся в новобытие, сознает; как оно, еще себя не сознающее, себе, сознающему уже себя, «предшествует» и себя, самому себе «предшествующего», сознает. Бытие наше становится в сознающее себя бытие, раздваиваясь на субъект и объект и воссоединяя их в себе, и в становлении этом обогащается. В чем же его самообогащение? – В том, что появляется новое качествование, которое можно назвать истинствованием (ср. §§ 19, 11). Появление истинствования связано с разъединением–воссоединением. Но легко усмотреть, что в эмпирическом нашем самосознании воссоединение меньше разъединения и не в силах восполнить всю разъединенность (§ 18 ел.): даже «cogito ergo sum» надо рассматривать как некоторую координацию «cogito» и «sum», ибо справедливо также – «cogito ergo non sum». Недостаточность воссоединения сказывается в том, что разъединенность не восполнена единством до конца, и апория непреодолима. Поэтому обогащение бытия является и обеднением его, богатство – ущербностью. Но, так как обогащение все–таки существует, – самосознание не есть «падение» бытия, а в худшем случае – падение и усовершение.
«Бытие», в котором нет самосознания и которое поэтому нельзя назвать ни бытием ни небытием (ибо что–либо «есть» только чрез «истинствование»), является первым моментом описываемого процесса. Разъединение–разъединенность «бытия» на субъект (сознающее себя) и объект (сознаваемое собою) есть второй момент; (неполное) воссоединение–воссоединенность субъекта с объектом – третий. И если теперь мы всмотримся в различенные нами моменты еще глубже, получатся несколько неожиданные выводы. —
Казалось бы, во втором и третьем моментах субъект и объект и есть то самое, что мы в первом моменте не совсем точно назвали «бытием», или сам первый момент. Оказывается, что нет «Субъект» второго и третьего моментов, есть «сознающее себя бытие», «объект» – «сознаваемое собою бытие»; оба вместе – «истинствующее бытие». «Сознание» же или «истинствование» вовсе не внешняя прибавка нового качества к первому мо* менту (ср. § 5), к «бытию», но – качественно иное бытие. И хуже всего, что мы не можем совсем отбросить первый момент за ненадобностью, ибо тогда не будет существовать и процесса разъединения, потому что нечему будет разъединяться. Не объяснимою тогда окажется и разъединенность:
она предполагает единство, в котором нет инаковости. Таким образом для того, чтобы существовал другой момент, как процесс
разъединения и разъединенность первого на субъект и объект, необходимо существование первого, как иного, чем второй, и как находящегося вне второго. Поскольку второй момент есть «второй», он – иной, чем первый: себя самого разъединяет, в себе и собою есть субъект и объект. Но второй момент есть только в том случае, если разъединяемое им (в себе и в качестве себя самого) существует и вне его, как единое, и ему «предшествует». Второй момент разъединяет первый; но в самом начальном миге своем разъединяемое вторым моментом становится им самим, отличным от первого, который остается единым и пребывает в качестве «упора» или «начала» второго. Так первый и второй моменты суть и одно и то же, и разное. И мы вовсе не строим теорию, но просто и не мудрствуя описываем; даже не описываем, а новыми словами повторяем уже сказанное О р и -геном и Плотином, который дал блестящее различение между «энергией сущности» и «энергией от сущности».
Установив двуединство первых двух моментов, мы точно также можем установить и двуединство второго с третьим и третьего с первым. В самом деле, определив третий момент, как вое соединение – в о с соединенность «субъекта» с «объектом», не трудно усмотреть, что третий момент возможен только после разъединения – разъединенное™ и только в н е и, т. е. – только после второго и во втором, но что он исходит не из второго, а из первого: не из разъединенное™, а из первоединства. Третий момент не первый, ибо он не первоединство, а единение–в о с соединение, т. е. может быть лишь там, где есть разъединенность, разъединенность же есть второй момент вне первого. Третий момент берет начало из первого, как вое соединение–единение из единения–единства, но существует только во втором, воссоединяя разъединенное. В начальности и в существе своем он, как и второй, – то же самое, что первый, но все же он в н е первого и не первый. Но нельзя ли отожествить его со вторым, признать второй – сразу и разъединением и воссоединением, действительным двуединством бытия–знания, субъекта–объекта? Плотин считал достаточным признать два момента: Hen и Nus, так как третье «Божественное» занимает в концепции Плотина совсем иное положение, чем в христианской догматике и у нас (Nus = Logos + Pneuma Hagion, a Psyche соответствует Адаму или Софии). Однако более простое предположение не является здесь более истинным. – Отношение третьего момента к первому отлично от отношения его ко второму. Третий момент берет начало из первого после второго и чрез второй, осуществляет же себя во втором. Если бы мы отожествили его со вторым, второй бы сразу и разъединял и воссоединял первый. Тогда бы каждый миг разъединения был воссоединением, т. е. не было ни того ни другого и во втором моменте нужно было, вслед за Плотином,
видеть лишь умаление первого. Тогда, далее, нам бы необходимо было отказаться и от двуединства первых двух моментов. Ведь различность их мы признали реальною. А ее реальность можно обосновать только вторым моментом, как разъединяющим. Если второй момент разъединяет и воссоединяет, д в у единство его с первым оказывается невозможным. И раз третий момент берет начало из первого, те же самые основания, которые вынудили нас различать первый и второй, вынуждают нас различить второй и третий.
Так мы приходим к признанию некоторого нашего триединства, на котором покоится несомненность Декартовского тезиса. Апория триединства обосновывает апорию двуединства сознания–бытия, субъекта–объекта. – Утверждая триединство, мы утверждаем и различность и единство трех моментов, И единство их не нечто четвертое, а их единство. Второй отличен от первого, но разъединяет он первый, хотя разъединяемое уже не есть первый. Одно и то же и неразъединимо в первом, и разъединяемо вторым и во втором, и воссоединяемо третьим. Откуда, спросим себя, новое во втором, т. е. сам второй? – Из первого. Но ведь в первом нет разъединенное™, нет субъекта и объекта; ведь второй, несомненно, нечто прибавляет к первому? – И да и нет. То самое, что во втором и в качестве второго разъединяется–разъединено, – в первом едино, а третьим воссоединяется – воссоединено. Нет надобности предполагать, что в первом есть нечто, чего в нем нет. Инаковость каждого момента только в нем и только он, но он – то же самое, что и два других момента. Поэтому: второй обогащает и обедняет первого, а третий восполняет обедненное вторым, и все–таки нет ни обогащения, ни обеднения, ни восполнения в единстве всех трех – обогащение, обеднение и восполнение соотносительны тройству, а не единству.
Очень легко смешать триединство с первым моментом или счесть единство тройства за четвертое (первое заметно отчасти у Плотина и в так называемом субо рдинацианстве). Но это будет ничего не объясняющим упрощением триединства. С другой стороны, если описанное нами триединство – реальность, а не наше измышление, оно должно лежать в глубине основной религиозной апории (§ 4) и эта апория должна быть двуединством Бога и Человека на основе триединства. Вместе с тем встает вопрос об отношении раскрытого сейчас триединства к триединству «poss–e–st» (§ 5). – Уже теперь ясно, что «становление» (е) в «possest» на самом деле есть двойство разъединения–воссоединения. А так как разъединение является реально иным, чем воссоединение, триединство «possest» оказывается четверицею, в которой первый момент – «небытие», а четвертый – «бытие». Бог выше бытия и небытия: в Нем небытие и есть Его бытие;
напротив тварь «есть», если она «не есть» или если она небытие.
Поэтому Бог есть Троица, а учетверение триединства есть творение; тварь сама в себе – двоица, в созданное™ и обоженности ее – двуединство тварной троицы с Богом или четверица. Само же единство совершенной твари с совершенным Богом может быть выражено числом семь.
Если мы откажемся от триединства, описанное нами становление бытия в знание (ср. § 5) окажется необъяснимым. – Мы не сможем указать, откуда появляется во «втором» новое, раз оно становится из «первого», в котором нового нет. Не сможем мы объяснить и того, во что становится или расширяется «второе», раз в первом не было всей полноты. Если же в первом была вся полнота, непонятна сама возможность расширения во втором, которое вовсе не умаление только, а и обогащение. Триединство же объясняет нам, как возможно единство разъединения и разъ–единенности, процесса и факта знания, искания и нахождения (§ 19): при попытке во всех этих случаях остановиться на низшей, производной апории двуединства удовлетворительных выводов не получается. И только триединство преодолевает противоречивое бытие несовершенства в совершенстве (§§ 5,10,13). Триединство непостижимо. – Конечно, но оно – последнее из непостижимого, к чему мы можем приблизиться рациональным путем. И сверх того, триединство легче и скорее приемлется нами, чем двуединство. Оно обоснованнее, хотя и не познавательно, не теоретически обоснованнее (§20 ел.). Обоснованнее же оно потому, что предполагает Триединство Божье, а Божье Триединство – основа христианской веры.
Теперь именно выясняется, что для объяснения несовершенства нашего знания (в частности – для объяснения того, что в самосознании мы становимся в новое и обогащаемся) недостаточно развитых в первой главе соображений о причастии твари к Богу (§§ 10–14). Но из описанного выше процесса самосознания вытекает, как легко показать, их необходимость.
Полученные нами выводы не самоочевидны, а приобретаются путем довольно долгого и сложного анализа. И они требуют от нас некоторого усилия для того, чтобы их опять не «упустить» и не низвести их на степень абстрактных схем. Они воспринимаются нами в общих чертах – не во всей своей конкретности, нами только постулируемой и постигаемой нами лишь «стяженно» (§ 25). Это – несомненное несовершенство нашего знания, объяснимое, как умаленность нашего тварного триединства. Знание же наше несовершенно (что уже указано выше) и в том, что в нем воссоединенность меньше разъединенности. Полное преодоление различности «cogito» и «sum» лишь постулируется и предчувствуется, но конкретно нами не созерцается, как и должно быть при неполноте нашего тварного Богопричастия. В самом росте нашего самосознания наблюдается неопределенность нашего бытия, и процесс самосознания приобретает признаки дурной бесконечности, каковой не должно быть в Абсолютном. А в связи со всем этим вовсе уже не так очевидно–несомненно признанное нами неоспоримым основоположение Декарта. Было ли оно до конца неоспоримым и для него самого? Зачем тогда он не удовольствовался первою формулировкою своей мысли – «sum», – а заменил ее новою – «cogito ergo sum»? Где несомненность, там никаких «ergo» не нужно. И не говорил ли он сам о «метафизическом сомнении»?
25. «Я все–таки сомневаюсь. Может быть, я не существую и себя не сознаю. Мне кажется, что мое бытие и самосознание – нечто не настоящее, какое–то сонное мечтание».
– Это и есть та самая ограниченность «cogito» в своем бытии пределами своей «cogitatio», о которой мы говорили (§ 24). Твое сомнение может быть выражено вопросом: «ограничивается ли мое бытие пределами моего самосознания?» И ставя такой вопрос, ты, конечно, уже обладаешь каким–то высшим бытием, т. е. уже им самим и являешься. Тебе в твоем сомнении раскрывается само высшее бытие. И за это открытие мы тебе благодарны. —
«Но, может быть, и его не существует».
– Тогда бы не было и твоего сомнения. Недостаточность, своего рода иллюзорность твоего бытия ты в состоянии определить только из высшего и высшим. И оно не менее действительно, чем твое, так как иначе его бы и не определяло. Правда, можно бесконечно продолжать сомнение, отрицая узреваемое высшее бытие с помощью все более и более высшего. Но, если сомнение наше не будет словесным и бессодержательным, мы сейчас же обнаружим, что отрицаниями своими только утверждаем совершенство бытия, высшего, чем наше, и вовсе не встречаем надобности в превращении его в дурную бесконечность. И оно предстанет нам, как действительно неоспоримое и несомненное, а потому обуславливающее или делающее сомнительным всякое иное. У порога его умирает всякое сомнение. В своем бытии мы сомневаться можем, в нем сомневаться бессильны. Может быть, его не следует называть бытием (§ 24). Но, если наше, меньшее и несовершенное, себя сознает, – некое совершенное самосознание должно существовать и в бытии совершенном. Иными словами – и оно триедино. —
«Таким образом сомнительность моего бытия все же остается?»
– Ты предлагаешь мне усумниться в том, что я семь это высшее бытие. – Я могу им быть и не быть. Но раз существует сомнение, несомненно существует некоторый «разрыв» междумною и высшим бытием. Несомненно, что в каком–то смысле я не семь высшее бытие. Но тогда в каком–то ином смысле я и есмь оно. —
«Каким образом?»
– Допустим, что наше бытие совсем, абсолютно не есть высшее. Такое допущение невозможно (§ 1). Откуда тогда у нас мысль о высшем бытии и некое постижение его? —
«Мысль о нем и постижение его – мы сами, собственное наше сознающее себя бытие».
– Но почему же, существуя в себе самих ограниченно и замкнуто, мы мыслим, существенно мыслим еще и высшее, сознаем свою ограниченность, т. е. ее и превозмогаем? В качестве постигаемого или, вернее, приемлемого мною высшее бытие есть и я. Но оно и не я, ибо оно выходит за мои грани и меня за них выводит. Оно превышает меня, и я ему противостою. Противостояние же мое ему не такое, как противостояние во мне самом меня–субъекта мне–объекту, а несравнимо большее, неоспоримо реальное (ср. § 9). Высшее бытие содержит в себе все мое сознающее себя и свою ограниченность им мое бытие; но оно содержит в себе и еще что–то. Я постигаю его, как иное, которому присуща всякая мысль моя о нем и вообще всякая моя мысль. Оно богаче меня и меня определяет. Только, определяя меня и вообще низшее, себя оно не определяет. Ибо тогда бы оно не определяло иное, а отделяло его от себя. Определение низшего высшим – определение из высшего и как бы внутри высшего. Если ты поймешь это, тебе до некоторой степени станет ясным и то, каким образом высшее, превышая тебя, может быть и тобою. —