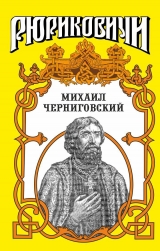
Текст книги "Михаил Черниговский"
Автор книги: Лев Демин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 27 страниц)
Перед отплытием у Михаила состоялся разговор с боярином Кореницей. Речь шла о пополнении военной дружины, которую черниговский князь намеревался взять с собой в Новгород. Михаил боялся этого разговора. После потерь под Калкой он не мог выставить большую дружину и теперь опасался, что это может вызвать недовольство новгородцев. Необходимо было оставить вооруженные силы и Олегу для защиты черниговской земли. Новгородцы выслушали Михаила, и их предводитель бесстрастно произнес:
– Ну и что? Сколько сможешь выставить дружинников?
– Не более сотни. А ваш Ярослав привел небось тысячу.
– Поболее тысячи.
– Вот видишь. А у меня…
– Не горюй. Твоя сотня стоит многого. Поможем тебе пополнить свою дружину за счет новгородцев.
На том и договорились. Михаил убедился из беседы с гостями, что, располагая значительными собственными силами, нынешний новгородский князь Ярослав, проявивший своеволие и непокорность, нарушал новгородские вековые традиции. Такой князь не мог устраивать новгородское общество. Михаила легче было приручить и держать в узде.
Ранним утром дощаники тронулись в путь по Десне. Князь Михаил с семьей и с новгородским боярином Спиридоном Кореницей расположились на головном судне. Княгиня с детьми могла устроиться под полотняным тентом, укрывавшим от дождя. Княжеская дружина во главе с сотником Ермолаем Кичигиным выступила своей дорогой, более короткой, чтобы достичь берега Днепра у впадения в него реки Сож.
Плавание по Десне вниз по течению оказалось непродолжительным. От устья этой реки пришлось плыть против днепровского течения, и гребцы были вынуждены с усилиями налегать на весла. Когда достигли левого днепровского притока, реки Сож, то на левом берегу дощаники уже поджидал конный отряд сотника Кичигина. Он отыскал брод через Сож, переправился с отрядом на северный берег этой реки и вышел к Днепру, поджидая там дощаники. Дальнейший путь дружинники продолжали по днепровскому берегу, часто опережая плывших по реке.
На днепровских берегах часто встречались селения, хутора и городки с окрестными землями, возделанными местными жителями. Кое-где, особенно на правом берегу, лес придвинулся к самой воде. При приближении каравана судов взлетали стаи диких гусей и уток. А в одном месте по лесной тропе вышли к воде крупный, темной расцветки, самец-тур с большими рогами и с ним три коровы поменьше. Заметив приближающиеся суда, самец мотнул головой и взревел низко, трубно. Подойти к воде он раздумал и удалился по тропе в глубь леса, уведя за собой и самок.
– Охота на туров – любимое занятие здешних князей, – пояснил Спиридон. – Идет быстрая убыль этого зверя. Теперь совсем мало осталось туров в здешних лесах, как и зубров.
– Никогда не доводилось встречать таких зверюг. Помолчали. Чтобы поддержать разговор, Михаил спросил собеседника.
– Проезжаем полоцкой землей?
– Полоцкая ли она, одному лукавому ведомо… – неопределенно ответил новгородец.
– Пошто сомневаешься, боярин?
– Как не сомневаться? С запада сию землю теснят литовцы и немчура. С востока смоленский князь наседает. Уже прихватил часть земли восточных уделов, коими владеют полоцкие князья. А если в Витебске и остался удельный князь местного рода, держит его Смоленск под своим сапогом и сделал покорным слугой. Вот так-то.
– А вы, новгородцы, со Смоленском ладите?
– Пытаемся. Смоленская земля нам хлеб поставляет. Смолянам от нас прямая выгода. Позволили нам в Рше на Днепре стоянку дощаников держать.
В те времена одно из приднепровских селений называлось Рша, ставшее будущей Оршей. Здесь в Днепр впадала небольшая речка, носившая то же самое название Рша. Отсюда Днепр круто, почти под прямым углом поворачивал на восток, к своим истокам, минуя Смоленск. Теперь новгородский боярин не мог с полной определенностью сказать, кто сегодня подлинный хозяин этого приднепровского поселения – наместник смоленского князя либо зависимый от Смоленска Удельный князь полоцкого рода. Новгородцам приходилось платить смоленскому князю немалую мзду за право содержать здесь стоянку днепровских дощаников и лошадей с повозками.
– Пока со смолянами ладим, – сказал Кореница и пояснил, что повозки с конями приходится иметь в Рше, чтобы от нее сухопутным путем преодолевать не ахти какое заметное пространство между излучиной Днепра и рекой Ловатью, впадающей в озеро Ильмень, – это уже исконная новгородская земля. Правда, в междуречье еще надо осиливать на плотах или переходить вброд Западную Двину, коли вода в реках к осени спадет. Она преграждает путь от Днепра к Ловати посреди этого междуречья. На берегу Двины находится Витебск, один из уделов полоцкой земли, то ли подчиненный Смоленску, то ли поставленный в зависимость от смоленского князя. – Река Ловать в верхнем и среднем течении непригодна для плавания даже на малых дощаниках, – заключил Кореница. – Там река породиста, часты отмели, глубина малая.
– Как же мы продолжим путь? – спросил князь Михаил.
– Бережком. На лошадках. Доберемся таким путем до нижнего, судоходного участка.
Кореница снова пустился в рассуждения о Ловати, ее неудобствах для плавания, особенно с начала осенней погоды, когда реки мелеют. А Ловать-река очень капризная и изменчивая. Плавание по ней осложняет множество порогов и стремнин. При малой воде они трудно преодолимы даже для небольших дощаников и рыбацких лодок. Течение реки довольно быстрое, а дно каменистое. Покончив со своими рассуждениями о причудах Ловати, Спиридон Кореница произнес:
– Начинается низовье. Здесь река пошире и поглубже. Можем воспользоваться и дощаниками. Это уже новгородская земля.
В одном прибрежном селении свита боярина Кореницы и князь Михаил с семейством погрузились на дощаники, а княжеская дружина продолжала путь берегом. В своем устье Ловать образовывала ветвистую дельту, растекаясь на рукава. Вошли в озеро Ильмень. Его голубая поверхность была волнистой. Ветер создавал легкую рябь. Плыли озером, придерживаясь западного берега. Миновали устье реки Мать, а вскоре вошли в Волхов. Показался и Новгород, его многочисленные храмы, кремлевские стены, остроконечные кровли палат.
Прибытие каравана судов вызвало неподдельное любопытство горожан. У причала собрались толпы новгородцев, преимущественно простолюдинов, судя по их скудной одежде. Бояр в богатой одежде не было заметно в народе. Новгородцы подходили к прибывшим, высаживавшимся с дощаников, приставали с расспросами.
– Откуда пожаловали, люди добрые?
– Чьих будете?
– Кто ваш князь? Приехавшие отвечали односложно.
Михаил решил ждать свой задержавшийся в пути отряд, чтобы вступить в город во всеоружии. Он ожидал, что его со свитой встретит сам новгородский посадник Анастас Гусельников, один из богатейших новгородских бояр и торговцев. Но прибывших встретил не Гусельников, а его советник, представившийся князю Михаилу:
– Приветствую тебя, княже. Перед тобой Стефан Заболотный.
– Пошто самого Гусельникова не зрю?
– Уразумей наши традиции, княже. Посадник суть верховная власть над Новгородом, избранная боярством и купечеством. А князь поставлен во главе вооруженных сил и как военачальник пребывает под властью посадника. Ты второе лицо у нас, но, заметь, не первое. Ты забываешь сию непреложную истину, и нам приходится напоминать тебе о сем.
– Понятно, – с расстановкой произнес Михаил. Разговор на этом застопорился. Чтобы возобновить его, князь обратился к Стефану:
– Пошто твое прозвание такое неблагозвучное – Заболотный?
– Верно уловил, княже. Вокруг моей усадьбы невдалеке от града раскинулись болота – вот еще и деда моего прозвали Заболотным.
Разговор с новгородским боярином оживился. Михаил поинтересовался, что послужило причиной удаления из Новгорода предыдущего князя. Заболотный охотно пояснил:
– С Ярославом Всеволодовичем, сынком великого князя владимирского Всеволода, по прозванию Большое Гнездо, мы, новгородцы, не поладили.
– Почему не поладили?
– Крутого и властолюбивого характера был человек, нарушал наши вековые новгородские традиции, пытался навязывать нам свою волю. Вот и пришлось нам указать Ярославу путь.
– И легко расстался он с вами? По-хорошему удалился из новгородской земли?
– Не скажу, что по-хорошему ушел. Грозился оружием. С войском-то явился к нам немалым, да пришлось ему послушаться совета великого князя владимирского, старшего брата своего, Юрия. Он и внушил Ярославу: мол, не ссорься, братец, с новгородцами, коль не ужился с ними, ступай восвояси.
– Выходит, все-таки по-хорошему ушел?
– Я бы этого не сказал. Ярослав покинул Новгород, обобрав нас.
– Что значит "обобрав"?
– А вот что это значит. Присвоил нашу новгородскую казну и увез ее с собой в свой удел. А часть своей дружины оставил в Торжке, угрожая Новгороду.
Подъехал конный отряд черниговцев. Михаил дал возможность конникам передохнуть, критически оглядел их и велел двигаться в Новгород. Сам ехал во главе отряда в сопровождении боярина Заболотного.
Кремлевские палаты, предоставленные Михаилу с семьей, разочаровали его. Небольшая приемная зала со старой мебелью и несколько жилых комнат, не рассчитанных на большую семью, казалось, подчеркивали, что князь не считался ведущей политической фигурой в Новгороде. По соседству с княжескими палатами располагалось помещение для княжеской дружины.
Михаил распорядился, чтобы семье и дружине выделили место для отдыха, а сам пожелал в сопровождении словообильного Заболотного ознакомиться с городом. Прихватив с собой нескольких стражников, они вышли на прогулку по Новгороду.
Заболотный повел свой рассказ с истории города.
– Мы древнейший город на Руси. Когда он появился на земле, никто в точности не скажет, как не скажет наверняка, кто были древнейшие родовые князья в этом городе. Были же какие-то новгородские властители еще до Рюрика. А древнейшим населением на новгородской земле были племена водь, ижоры, карелы, весь. У этих народов схожие языки и обычаи, далекие от того, чем мы, русичи, располагаем. А мы, русичи, появились на новгородской земле еще задолго до Рюрика, заселили сперва берега озера Ильмень и реки Волхов.
Новгород разделился рекой на две части, соединявшиеся наплавным мостом на баржах. Основной была восточная часть города, где сосредоточились кремль с резиденцией посадника, палатами боярской верхушки, архиепископа, гарнизонные избы. Среди храмов выделялся Софийский собор, где обычно служил сам архиепископ. Заболотный пустился в объяснения об этом знаменитом храме:
– Собор возведен князем Владимиром, сыном Ярослава Мудрого. Видишь, князь, его венчает пятиглавие с остроконечными куполами. У стен Софии нередко собиралось новгородское вече. В стенах собора принимали иностранных гостей. В храме захоранивали останки князей, которые изволили почить в нашем городе. Князь Владимир Ярославич в бозе почил еще при жизни отца и похоронен здесь в основанном им соборе.
Зашли в храм. Михаил поклонился ликам святых угодников, поставил свечу перед образом Богородицы. Заболотный промолвил:
– В Великом Новгороде не сложилась своя княжеская ветвь Рюриковичей. Мы, новгородцы, всегда старались избегать участия в княжеских усобицах. Нередко и князьям указывали путь, коли они оказывались непокладисты и старались впутать нас, новгородцев, в свои распри.
– Это ты говоришь мне в назидание?
– Понимай мои слова, как знаешь. Твоему предшественнику Ярославу указали путь. Надеемся, что принимаем князя разумного, понимающего наши традиции вольного града. Учти это, княже. Одна из новгородских традиций – власть веча. Оно призывает угодного князя и изгоняет неугодного, как мы избавились от Ярослава.
– Поясни, боярин, в чем же моя власть, мои права.
– Ты главный военачальник вооруженных сил Новгорода, ведешь переговоры с другими князьями, коли сие потребно. Ты не можешь приобретать в новгородской земле недвижимое имущество. Твои доходы определяет посадник вместе с вечем. Не забывай, что над тобой и над всеми нами стоит вече. Оно определяет и выборы архиепископа.
– Даже архиепископа? Бывали ли на твоей памяти случаи смещения неугодного владыки?
– Бывали. Один из них оказался слишком безволен и пошел на поводу у князя.
– Вижу, у вас велика власть веча.
– Ты прав, князь. Вече – великая власть. Вече призывает и изгоняет князей, решает вопросы войны и мира, в случае надобности берет на себя и судебную власть. Вече должно принимать решения единогласно.
Познакомившись впоследствии с новгородскими порядками и традициями, князь Михаил, человек наблюдательный и проницательный, убедился в следующем. Новгородское вече было своеобразной и далеко не однородной массой людей. Фактически в нем заправляли богатейшие люди, владельцы обширных земельных угодий и активные оптовые торговцы. Всего таких набиралось десятка три семейств. Некоторые из них вели торговлю со скандинавскими и германскими странами, с поляками. Вывозили туда драгоценные камни. А из заморских стран поступали сукна, вина, хлеб, изделия тамошних умельцев. Торговля с зарубежными странами была сосредоточена преимущественно в самом Новгороде. В другие города новгородской земли торговые гости наведывались не часто.
Верхушка богатых купцов и землевладельцев, как мог заметить князь Михаил, цепко держала в своих руках всю политическую жизнь Новгорода и определяла ее направленность. Второстепенные участники веча всегда прислушивались к голосу богатой верхушки и присоединялись к ней, подкармливаемые ею.
На следующий день утром рассыльный наведался к князю Михаилу и сообщил:
– Посадник с именитыми людьми Новгорода будут ждать тебя в гостевой палате.
– Когда я должен явиться в гостевую палату?
– В твоем распоряжении час.
Собралось малое вече в доме административной палаты. Когда была нужда в большом вече, то его собирали на городской площади. Как узнал Михаил Всеволодович от Заболотного, большое вече созывалось, чтобы принять решение об удаление из Новгорода предыдущего князя Ярослава Всеволодовича. Тогда толпы новгородцев заполнили площадь и встретили князя недружелюбными выкриками. Посадник еле утихомирил людей и произнес, обращаясь к князю:
– Зришь, Ярослав Всеволодович, не угодил ты новгородцам. Не жалуем тебя и указываем тебе путь. Иди, откуда пришел.
Человек редкого, упрямого и властолюбивого характера, Ярослав насилу сдержал гнев, пробормотав про себя отборнейшие ругательства в адрес новгородцев, и покинул вече.
Теперь в зале собралось немногим более сотни человек – боярская и купеческая верхушка и чиновный люд, управлявшие Новгородом и близкие к посаднику. Михаил вежливо поклонился им и подошел к посаднику из богатого купеческого рода, обряженному в роскошный кафтан из заморской ткани, отороченный собольим мехом.
– Приветствую тебя, батюшка посадник, – учтиво произнес Михаил и крепко пожал протянутую ему руку, а потом обратился ко всему собранию: – Приветствую вас, люди добрые.
– Поведай нам, княже, с какими намерениями пожаловал к нам? – испытующе спросил Михаила посадник.
– Служить Великому Новгороду, отражать его недругов, защищать великий град от всякой вражьей силы, – ответил князь.
– Похвальное намерение у тебя, князь Михаил. Уразумел задачи новгородского князя. А вот твой предшественник этого не уразумел, вмешивался в наши внутренние дела, смотрел на новгородскую землю как на свой собственный удел, потому и случались меж нами частые тяжбы и всякие недоразумения.
– Постараюсь не повторить деяния князя Ярослава, который не пришелся вам по душе.
– Похвальное намерение, – повторил посадник. – Рассказал бы, княже, о себе.
– Отец мой – Всеволод Святославич, а матушка – Мария Казимировна, королевна польских кровей. Батюшку моего прозвали Чермным из-за цвета волос. Княжил в Чернигове, а одно время занимал и киевский стол. Он умер в пятнадцатом году.
– Царство ему небесное.
Эти слова произнес нараспев архиепископ, участник малого веча.
– Есть ли у тебя, князь Михаил, какое-нибудь намерение сделать что-либо для блага новгородской земли?
– Есть, – ответил Михаил. – Хотелось бы побывать на границе со шведами и под Псковом, который нередко беспокоят воинственные тевтоны. Да и что у них на уме – пока неведомо.
– Откуда тебе известно про шведов и про тевтонов?
– За долгую дорогу от Чернигова до вашего града ваш достойный человек Спиридон Кореница вел со мной долгие беседы. О многом потолковали мы с ним в пути. Теперь я лучше представляю жизнь и заботы Новгорода.
– Шведы пока нас не беспокоят, ведут себя тихо-мирно.
– Вероятно, присматриваются к нам не из простого любопытства. Выжидают момент, чтоб напасть исподтишка и урвать кусок Новгородчины, лишить нас выхода к морю.
– Откуда тебе сие известно?
– Здравое предположение. Коли Русь-матушка испытает новые беды, нашествие великих ворогов с востока, этим незамедлительно воспользуются и шведы, и тевтоны. Чует мое сердце.
– Дай-то Бог, чтоб ты, княже, ошибся в своих предположениях. Пошто ты ничего не сказал нам, Михаил Всеволодович, как ты смотришь на племя ростово-суздальских князей?
– Присмотреться должен к ним. С ростовским князем Васильком Константиновичем собираюсь породниться, выдать за него дочь Марию. Великая книжница моя доченька, увлеклась чтением летописей. У нее достойные наставники. Хочу нанести князю Васильку визит на правах будущего родственника.
– Разумно поступаешь. Учти, великий князь владимирский человек покладистый, не то что его братья. С ним можно поладить.
Беседа в вечевой палате продолжалась еще долго. Новгородцы в целом встретили своего нового князя доброжелательно. Да и Михаил, считаясь с их традициями, старался говорить спокойно, дружелюбно, подчеркивая, что сознает свою ограниченную роль военного наместника. Поэтому и вече настроилось к князю миролюбиво, терпимо. Обошлось без резких вопросов и злых реплик. Посадник Анастас Гусельников подвел итоги вечевого собрания:
– Принимаем князя Михаила? Возражений не слышу – значит, принимаем. Князь правильно понял свои обязанности. В его руках вооруженные силы Новгорода и забота о том, чтобы внешние враги не тревожили нашу землю. Правильно я тебя понял, княже?
– Истину глаголешь, Анастас Гусельников. Дозволь спросить тебя.
– Дозволяю, спрашивай.
– Я пришел в Новгород с малой дружиной. Многие мои черниговцы полегли на поле брани под Калкой или умерли на обратном пути в Чернигов от тяжелых ранений.
– Сочувствуем тебе.
– Поможет ли Новгород пополнить мою дружину?
– Подумаем. А надо ли? У тебя свои черниговцы. Если возникнет военная схватка с немчурой или с кем-нибудь еще, новгородцы придут тебе на помощь.
– Значит, на пополнение моей дружины не могу рассчитывать?
– Я этого не сказал. Подумаем. Уклончивый ответ Гусельникова никак не удовлетворил Михаила.
В один из ближайших дней, не откладывая дела в долгий ящик, князь Михаил отправил дюжину своих дружинников во главе с десятником Трифоном на невские берега. Стояла холодная, ветреная осень, но первые признаки льда на Волхове и озерах еще не показывались. Дружинники спускались вниз по Волхову на большом дощанике, подняв парус. Подхваченное течением и подгоняемое попутным ветром, судно устремилось в плавание. Вблизи Новгорода по берегам реки мелькали постройки боярских усадеб, монастыри. Потом отошли леса, подступавшие к самой воде. У гостинопольских порогов высадились на левый берег, обошли пороги по суше, перетаскивая дощаник по бревенчатому настилу, и, минуя их, вновь спустили судно на воду.
Сделали остановку в селении Ладога, обнесенном недавно сооруженными каменными стенами, над которыми возвышались церковные купола. Селение располагалось на левом берегу Волхова в верстах двенадцати от впадения его в Ладожское озеро. Место было оживленное, часто посещаемое новгородскими и иноземными торговыми людьми. Внутри ограды тесно сгрудились лавки и амбары с товарами, а также избы ремесленников. Здесь же в одном из помещений размещался небольшой гарнизон.
Гарнизонный начальник встретил прибывших дружинников приветливо, пригласил всех к столу. Гостям подали уху и пироги с рыбой. Начались оживленные расспросы. Десятник Трифон полюбопытствовал, появляются ли на западном берегу Ладожского озера и на реке Неве северные соседи, шведы и другие народы. Гарнизонный начальник поведал, что соседи, шведы и финны, ведут себя мирно, но к русским землям проявляют настырный интерес. Чаще всего они появляются небольшими группами на невских берегах, расспрашивают местных жителей, часто ли можно увидеть в тамошних местах новгородцев, какими силами они располагают, вооружены ли, проявляют ли желание закрепиться в этом крае, создать свои поселения.
Из Волхова отряд вышел в Ладожское озеро, слегка штормившее, а из озера – в реку Неву. Ее берега были лесисты, деревушки попадались редко. Поблизости от устья река растекалась на большие и малые рукава, берега становились низменными и нередко страдали от наводнений. Поэтому деревни возникали на некотором удалении от реки, достигавшей здесь значительной ширины и глубины. Поднявшись версты на две вверх по невскому притоку, дружинники достигли небольшой убогой деревушки. Как выяснилось, ее населяли жители из местного племени, называвшиеся ижорами. Среди них нашелся человек, сносно говоривший по-русски. Он показал, что пришельцы с севера часто наведываются к невским берегам. Они избегают встреч с караванами новгородских судов, уклоняются от нежелательных встреч, прячутся в прибрежных зарослях. А когда караван скрывается за горизонтом, пришельцы выходят из убежищ и донимают местных жителей расспросами, часто ли сюда наведываются русские, держат ли они военную силу. Когда местные жители сами спрашивают пришельцев, зачем они пожаловали на берега Невы, те обычно отвечают, что в этой реке, которую русичи называют Невой, водится отменная рыба. Но по облику пришельцев заметно, что они вооружены и скорее всего принадлежат к военному сословию. Однажды среди них встретился человек в кольчужной рубахе.
Князь Михаил внимательно выслушал доклад десятника Трифона о плавании его отряда к Неве, а выслушав, немедленно посетил посадника и сообщил ему все то, что узнал от десятника.
– И что ты на это скажешь? – пытливо спросил его посадник.
– Скажу, что здравый смысл подсказывает. Шведы исподтишка наблюдают за нами, стараются разузнать о наших силах на Неве, о наших слабых местах. А если мы окажемся в затруднительном положении, Новгород столкнется с новым ворогом на невских берегах. Цель шведов будет состоять в том, чтобы потеснить новгородцев и утвердиться в этом районе. И тогда Великий Новгород будет отрезан от своих западных торговых партнеров.
– Ты в этом уверен?
– Это подсказывает нам здравый смысл, – повторил князь Михаил.
– Пожалуй, мы распорядимся усилить ладожский гарнизон. И пусть тамошний военачальник регулярно посылает зорких наблюдателей на Неву. Пусть следят за непрошеными гостями.
– Разумная мера.
Псков посетил с небольшим конным отрядом сам Михаил Всеволодович. Отряд вышел по берегу Ильменя к реке Шелонь, впадавшей в то же озеро, а потом двигался по ее берегу до прибрежного поселения, ставшего впоследствии городком Порховом. Отсюда отряд круто свернул на запад и вскоре достиг Пскова.
Это был один из крупнейших городов северо-западной Руси. Центральную часть города составлял кремль с величественным и тяжеловесным собором. Псковичи встретили Михаила и его спутников дружелюбно, не скупились на угощения. Жаловались, что воинственные соседи, ливонские рыцари, доставляют им немало беспокойства. Не объявляя никакой войны, ливонцы постоянно тревожат приграничные псковские земли набегами, грабежами селений. Они подходят к стенам Изборска, одного из близлежащих к Пскову укрепленных городов. Иногда ладьи с вооруженными ливонцами появляются на Чудском озере.
Михаил рассказал новгородскому посаднику и его приближенным о своих псковских впечатлениях.
– Псковичи вынуждены содержать большой гарнизон, опасаясь, что ворог появится у его стен, – произнес Анастас Гусельников. – Надо ли нам увеличивать гарнизон в Пскове?
– В Пскове достаточный гарнизон. И система управления напоминает вашу новгородскую: посадник, вече, выбирающее посадника. Один из именитых псковичей проговорился… – запнулся князь.
– О чем же проговорился тебе именитый пскович?
– Сказал: "Зависимость от Великого Новгорода нам ни к чему. Новгород вечевой вольный город, и нам бы следовало быть таким же вольным городом. А с соседями ливонцами сами как-нибудь поладим".
– Так и сказал охальник?
– Точно так и сказал.
– Будем приглядывать за псковским посадником. Посмотрим, держат ли псковичи камень за пазухой и намерены ли они отделиться от Новгорода. А ты прислушивайся к толкам псковичей, коли Бог сведет тебя с ними. Теперь же потолкуем о другом. Дело к тебе есть.
– Слушаю тебя, батюшка Анастас.
– Какой я тебе батюшка! В Божьем храме не служу.
– Для новгородцев ты батюшка, отец земли новгородской. И для меня, новгородского князя, тоже.
– Как тебе будет угодно. Вот о чем хочу с тобой потолковать. Надлежит новгородцам избрать нового святителя земли нашей, то бишь архиепископа новгородского, на место одряхлевшего и болезненного старца Антония. Сей старец по хворям былым стал неспособен управлять епархией.
– И я о том прослышал. Почему бы не избрать нового владыку? Есть ли на сие место достойные персоны?
– Называют трех. Среди них епископ волынский Иоасаф, иеродиакон Спиридоний и еще один грек.
– Почему волынский епископ заинтересовался новгородской кафедрой?
– Разве непонятно? В Новгороде дважды княжил Мстислав Мстиславич по прозванию Удалой, из рода князей смоленских. Сейчас он княжит в Галиче на Волыни. Хочет, чтобы главным пастырем новгородским стал близкий ему человек.
– Логичное предположение.
– Решим отдать предпочтение одному из трех путем жеребьевки. Проведем ее в храме Святой Софии. А кому достанется счастливый жребий – пусть вытаскивает его из сосуда невинный младенец. Выберем для такой цели твоего младшенького.
– Велика честь для моего малого.
Так и порешили. Жеребьевка проходила в главном городском соборе. Младший сын Михаила вытаскивал из сосуда один за другим листки пергамента с именами участников выборов. По условиям жеребьевки последний листок содержал имя персоны, избранной новгородским архиепископом. Им оказался Спиридоний, ставший таким образом главой новгородской епархии.
Посадник произнес краткое слово, обращенное ко вновь избранному архиепископу.
– Отче Спиридоний, ты теперь духовный владыка нашей земли. Гордись тем, что мы все сделали тебя ее попечителем. Цени наш выбор и доверие к тебе. А твоего предшественника Антония провожай с почетом на покой. Его место отныне в монастыре.
Два дюжих монаха подхватили немощного Антония под руки и повели к коляске, в которую была запряжена пара коней.
На исходе осени скоропостижно скончался посадник Анастас Гусельников. К удивлению Михаила, новым посадником новгородцы избрали боярина Водовика. Уход из жизни прежнего посадника оживил притаившихся было сторонников князя Ярослава, заявивших о себе открытыми вылазками. Водовик сразу же показал свой буйный, невыдержанный нрав и стал жестоко расправляться со своими политическими противниками. В городе вспыхнула междоусобная борьба, которая велась с переменным успехом. Враждующие стороны убивали друг друга, топили тела в Волхове, жгли дома. Свирепый Водовик собственноручно убил нескольких наиболее непримиримых противников. Некоторые из именитых новгородцев не выдержали такой обстановки в городе и бежали в другие княжества. Воспользовавшись новгородскими усобицами, Ярослав подбирал себе сторонников и подстрекал их к выступлению в свою пользу.
Тревожная обстановка в городе усугубилась жестокими морозами, обрушившимися на новгородскую землю. Мороз побил все озимые. Цены на хлеб резко подскочили. Четверть ржи теперь обходилась в Новгороде в пять гривен. По тем временам это была весьма высокая цена. Стоимость пшеницы и крупы возросла вдвое. Вздорожали и другие продукты. Продовольственные рынки опустели. Новгородцы столкнулись с голодом. Дошло до того, что на улицах валялись трупы умерших от голода людей.
Видя такое положение, Михаил Всеволодович хотел замирения с воинственным Ярославом, продолжавшим считать себя князем новгородским. Этого же желал и великий князь владимирский Юрий, старший брат Ярослава. Последний отвергал все мирные предложения и бряцал оружием у новгородской земли. Ярослав оставался удельным князем переславским. В его владения входила и значительная часть тверской земли, выделившейся впоследствии во владения своей княжеской линии. Этот властолюбивый князь встал с войском в городке Торжке, через который пролегала дорога на Новгород, и задерживал всех новгородцев, направлявшихся в Ростов или во Владимир, а также в обратном направлении с продовольственными товарами. Так Ярослав Всеволодович старался оказать давление на горожан и добиться своего возвращения на новгородский стол.
В этой непростой для Новгорода обстановке совместно с новым посадником Водовиком Михаил Всеволодович снарядил обоз, который отправился за хлебом в южные земли, проходя через Смоленщину.
Тем временем осложнялись взаимоотношения между братьями Всеволодовичами – великим князем владимирским Юрием и Ярославом. Великий князь не одобрял поведение младшего брата, его задиристость, властолюбие, стремление подстрекать и ссорить своих соседей, раздувать вражду между своими сторонниками и противниками в Новгороде. Возникла необходимость осадить его и обсудить обстановку на северо-востоке Руси, дабы прекратить усобицы. Ярослав в свою очередь всячески старался перетянуть на свою сторону других родичей, в частности двоюродных братьев Константиновичей – Василька, Всеволода и Владимира. Он прилагал все силы к тому, чтобы убедить их встать на его сторону, суля им земельные приращения к их владениям.
Юрий был встревожен возможностью сближения братьев Константиновичей с воинственным Ярославом и решил собрать во Владимире всех родичей. Был приглашен на совет и Михаил Всеволодович, княживший в Новгороде. Он принял приглашение и отправился во Владимир, намереваясь по дороге встретиться в Торжке с Ярославом Всеволодовичем.
Михаил отправился по зимнему пути с небольшой свитой. Кроме десятка вооруженных людей, в ней были два именитых новгородца из купцов. При въезде в Торжок их остановили вооруженные люди Ярослава.
– Куда путь держите? – недобрым тоном произнес старший из стражников.
– А это мы скажем твоему князю, – резко ответил Михаил. – Проводи меня к нему.
– Кто таков будешь, что тебе понадобился сам князь Ярослав?
– Это он сам узнает.
Стражник все же провел Михаила к Ярославу в княжескую избу.








