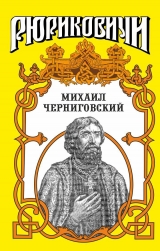
Текст книги "Михаил Черниговский"
Автор книги: Лев Демин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 27 страниц)
– Останки князя Михаила и его ближнего боярина Феодора доставлены в Ростов.
– Почему в Ростов, а не в другой город?
– Вдовая княгиня Мария приходится родной дочерью князю Михаилу. Она предлагала захоронить обоих убиенных в главном храме города.
– Вот еще… Разве не надо правильно оценить отношение великого хана к людям, не уважающим его волю?
– Вот и мы так рассуждаем. Ростов не место для погребения убиенных, лишь временное пристанище на пути к родине князя Михаила, городу Чернигову на берегу Десны. От этого города мало что осталось.
– Правильно рассуждаешь, князь. Пусть останки доставят в Чернигов. Как это говорят у вас – скатертью дорога. А зачем убиенных выставили в главном храме?
– Обычай у нас такой.
– Пусть так. Только не злоупотребляйте временем. Воспользуйтесь храмом в течение трех-четырех дней, и хватит. И пусть усопшие отправляются в дальнейший путь.
– Мудро рассуждаешь, любезнейший Амраган. Так и поступим, как ты советуешь.
Глава 20. ПУТЬ К ПОСЛЕДНЕМУ УСПОКОЕНИЮ
Движение по льду Клязьмы не было оживленным. Изредка встречались сани с заготовщиками дров либо с небольшой группой охотников. Основное передвижение шло по льду Волги. Так двигались караваны из Ярославля, Твери, тверских уделов, Великого Новгорода. Караваны сосредотачивались в Нижнем Новгороде, там дожидались открытия навигации и по весенней воде пускались вниз по Волге. Шли купеческие караваны в надежде завязать торговлю с ханской Ордой, плыли князья со свитами по вызову хана.
Достигнув впадения Клязьмы в Оку, караван молодого ростовского князя Бориса повернул вверх по Оке, вернее, по ледяному покрытию этой реки. Завершали караван две подводы с гробами князя Михаила и его боярина Феодора. Караван достиг города Мурома на левом берегу Оки. Когда показались городские строения, к князю Борису приблизился всадник на пегом коне.
– Кто такие? Куда путь держите? – зычно вопросил он.
– Разве не видишь? – резко ответил князь Борис. – Везем убиенных ордынцами великомучеников.
– Кто такие?
– Киевский князь Михаил и его боярин Феодор. Хану не угодили: не пожелали исполнять языческие обряды.
– Наш князь хотел бы с тобой потолковать. Поделился бы с ним несчастьем.
Этим князем оказался галицко-волынский князь Даниил Романович, уже немолодой, тронутый сединой рослый человек с окладистой бородой. Он с пышной свитой направлялся к золотоордынскому хану по его вызову. Молодой князь Борис никогда не встречался с князем Даниилом, хотя и был наслышан о нем.
– Куда путь держишь, добрый человек? – приветливо спросил Бориса Даниил Романович.
– Как видишь, везу останки убиенных. Дед мой Михаил в последние годы жизни княжил в Киеве.
– Знавал такого. Как князь Михаил не уберегся?
– Не уберегся, потому что был верный христианин. Не пожелал соблюдать языческие обряды, какие требовал от него золотоордынский хан.
– А я думаю, сыграло свою роль не только это. Когда ханская орда подступала к Киеву, хан послал в город своих людей с требованием отворить ворота и сдаться на милость победителя. Михаил, находившийся тогда в городе, не пожелал выслушать ханских людей и приказал всех их умертвить. Батый мог это припомнить.
– Мог, конечно. Хан человек злопамятный.
– А кто второй покойный?
– Ближний боярин князя Михаила. Разделил с ним его горькую участь.
– Неужели и мое возвращение из Орды на Волынь будет таким же, в гробу? – с горечью произнес князь Даниил.
Он не верил в благополучный исход поездки в Орду и всячески оттягивал эту поездку. В конце концов он стал владеть всем Галицким княжеством. Его резиденцией сделался построенный им новый город Холм. Но перед настоятельными требованиями хана Даниил не мог устоять и был вынужден выехать в Орду. Во время этой поездки и произошла встреча галицко-волынского князя Даниила с молодым ростовским князем Борисом, сопровождавшим тела своего деда, князя Михаила, и его боярина Феодора. Эта встреча привела князя Даниила в тяжелое, подавленное состояние. Неужели и его в Орде ждет та же горькая участь?
Надо сказать, что хан Батый принял князя Даниила милостиво, хотя и пришлось ему перенести всяческие унижения и оскорбления со стороны влиятельных ханских сановников. Все это заставило Даниила воскликнуть: "О, злее зла честь татарская!" Однако хорошие отношения с татаро-монголами помогли Даниилу укрепить связи с соседями. Король венгерский Бела дал свое согласие на брак своей младшей дочери с сыном Даниила Львом.
Тем временем князь Даниил вел переговоры с ханскими представителями. Он склонялся к унии с папистами, в чем его даже поддерживала часть духовенства. В его владениях появились ханские баскаки, занимавшиеся сбором дани. Даниил намеревался избавиться от них с помощью католической церкви. Папа объявил крестовый поход против татаро-монголов, однако на его призыв никто не откликнулся. Даниил сохранил королевский титул, предоставленный ему папой, всякие дальнейшие сношения с католиками прекратил.
Размышляя о своем пребывании в ханской ставке, Даниил ожидал для себя не лучшей участи. Расставание с ростовским князем Борисом получилось грустным.
Борис Василькович продолжал свой путь вверх по Оке, миновал город Рязань, где останавливался на непродолжительное время. Рязанское княжество еще до татаро-монгольского нашествия отделилось от Черниговского княжества. Его политическая жизнь была наполнена острой междоусобной борьбой и столкновениями с соседями. В 1217 году рязанский князь Глеб Владимирович задался целью устранить всех своих братьев, в которых видел нежелательных соперников. Все они были перебиты. Однако и сам этот князь не смог долго удержаться на рязанском столе. Он был вынужден бежать к степнякам, а на его место выдвинулся Ингварь Игоревич.
Рязанская земля подверглась страшному опустошению в результате татаро-монгольского нашествия. Были частично разрушены и разграблены все здешние города. Но все же Рязанское княжество смогло постепенно оправиться и продолжало существовать, хотя впоследствии ему пришлось выдержать междоусобную борьбу с усиливающейся Москвой.
Борис Василькович не хотел втягиваться в запутанные рязанские дела и постарался избежать встречи с тамошним князем, называвшим себя великим, поскольку ему подчинялось несколько удельных князей. Ростовский князь не задержался долго в Рязани и продолжил свой путь вверх по Оке.
Река Ока в нижнем и среднем течении была петляющей. Ее русло образовывало замысловатые извилины, иногда она растекалась на рукава, окружавшие острова. Сейчас, в зимнее время, все это было покрыто толщей льда. Миновали устье реки Москвы, одного из окских притоков. Потом пришлось проделать значительный переход с ночевкой, пока не достигли небольшого прибрежного городка Тарусы. Здесь был удел самого младшего из сыновей князя Михаила Всеволодовича, Юрия Михайловича.
Тарусский князь встретил трагичное событие прочувствованно, не скрывая слез, которые перешли в откровенные рыдания. Юрий обхватил руками отцовский гроб и прижался щекой к его крышке.
Прибежали маленькие княжичи Всеволод и Константин. Они тоже не скрывали слез.
Князь Юрий вызвался сопровождать прах отца и его сподвижника до места их погребения в семейной усыпальнице в городе Чернигове.
– Передам тебе, князь Юрий, грустное назначение сопровождающего, – произнес князь Борис. – А я, к своему великому сожалению, вынужден покинуть тебя и возвратиться в свой удел.
– Пошто так? Разве ты не хотел бы проводить деда в последний путь?
– Конечно, хотел бы, да предписано мне весной отправиться с визитом в ханские покои. Сам знаешь, чем грозит неповиновение хану. Не хочу повторять судьбу деда-великомученика.
– Ты прав, Борисушка. Буду сопровождать прах убиенных и по пути навещу всех своих братьев. Надеюсь, они присоединятся ко мне. В каждом удельном граде отслужим панихиду.
Так и порешили. Борис переночевал у родича, а ранним утром, отслужили панихиду по умершим. В главную церковь города набилось множество богомольцев. Потом Борис в сопровождении двух всадников пустился в обратный путь. А тарусский князь, сопровождаемый остатками дружины покойного князя Михаила, отправился в дальнейшую дорогу.
Траурный караван двигался вверх по льду реки Оки, потом свернул влево по окскому притоку, реке Зуше, скованной льдом. Здесь на берегу этого окского притока стоял небольшой городок Новосиль, уже успевший залечить основные раны, нанесенные татаро-монгольскими завоевателями. Здесь караван встречал брат Юрия Семен, ставший вдовцом до недавнего посещения удела отцом, князем Михаилом Всеволодовичем. Супруга князя Семена Михайловича неудачно разродилась и скоропостижно умерла. Он не перенес горького одиночества и вступил в греховную связь с половчанкой Варварой, крещеной сестрой княжеского дружинника. Когда это стало известно князю Михаилу, он вынудил сына сочетаться церковным браком с полюбовницей. Семен не стал перечить отцу и обвенчался с Варварой.
Теперь Варвара ходила с большим животом и, как видно, должна была скоро родить. Юрий поздравил брата с ожидаемым прибавлением семейства и рассказал о своей горестной миссии. Семен выразил горькое сожаление в связи с гибелью отца и готовность присоединиться к брату и сопровождать останки усопших к месту погребения.
Пребывание Юрия в Новосиле было непродолжительным. В местном храме отслужили поминальную службу над останками великомучеников. Вдвоем с Семеном Юрий направился к следующему брату, Мстиславу, княжившему в Карачеве. Городок Карачев находился на реке Снежети, принадлежавшей бассейну днепровского притока Десны. Здесь также отслужили в городском храме поминальный молебен. Карачев-ский князь Мстислав присоединился к братьям.
Наконец достигли города Брянска, расположенного на днепровском притоке Десне. От Карачева до Брянска расстояние совсем невелико. Его преодолели за несколько часов санного пути. В Брянске княжил один из братьев Михайловичей, Роман. Среди братьев он был за старшего, как превосходивший каждого из них возрастом. Он встретил грустный караван со слезами и, обхватив руками отцовский гроб, произнес:
– Братья мои, большое горе постигло нас. Мы лишились отца, а наши внуки – деда. А могло бы этого не случиться, если бы…
Роман запнулся, не сразу подобрав дальнейшие слова.
– Впрочем, не мне судить родителя, – продолжал он. – Отец поступил как праведник и жестоко поплатился за это. Бог ему судья. Наш долг устроить батюшке и его ближнему боярину достойные похороны.
– Где будут похороны? – спросил один из братьев.
– Конечно, в Чернигове, в его главном соборе.
– К сожалению, собор запущен и служба в нем не ведется, – возразил карачевский князь Мстислав.
– Общими силами приведем в порядок черниговский собор. Очистим его от скверны. Надеюсь на вашу помощь, братья мои, – высокопарно произнес князь Роман.
Оба гроба с останками великомучеников были выставлены в главной церкви Брянска, открытой для всеобщего посещения. А тем временем князь Роман собрал всех своих родственников и отправился с ними в Чернигов. Призвали и немногочисленных местных жителей и все вместе принялись приводить в порядок кафедральный собор, в подвале которого находилась усыпальница местных князей. Особенно был захламлен подвал храма, где скопились горы неубранного мусора. Понадобилось немало усилий, чтобы удалить весь мусор, очистить и основное помещение храма. В окна храма, зияющие пустыми глазницами, были вставлены кусочки слюды. Нашлось и скромное церковное убранство, иконы и утварь, с помощью которого удалось оживить храм, создать видимость обитаемого.
Братья заговорили об исторической судьбе города, бывшего до татаро-монгольского вторжения крупным политическим центром значительного княжества, дробившегося на уделы. Нашествие татаро-монгольских завоевателей привело в итоге штурма к разрушению города. Значительная часть его защитников была перебита или пленена. Последний князь Чернигова Мстислав Глебович сумел выбраться из осажденного города и бежал к венграм. Его дальнейшая судьба неизвестна. Высказывалось предположение, что при осаде Чернигова он был тяжело ранен и поэтому его последующая жизнь оказалась недолгой.
Теперь Черниговом управлял княжеский наместник, подчиненный брянскому князю Роману Михайловичу. Город подвергся серьезным разрушениям, и его восстановление шло медленно. Также медленно возвращалось и его население.
Когда удалось с большими усилиями восстановить кафедральный собор Чернигова, очистить его от захламленности и всякой скверны и сделать его пригодным для отправления службы, останки князя Михаила и его боярина Феодора были доставлены сюда из Брянска и помещены в относительно чистом храме. Князь Роман постарался, чтобы его наместник собрал всех немногих уцелевших жителей города. Их набралось всего несколько десятков человек, не считая малолетних детей и дряхлых стариков. Прослышав о траурной церемонии, в собор прибыли жители окрестных селений. Поминальную службу отправлял местный епископ Иоанн. Он официально считался епископом черниговским и брянским, но не покидал временный епархиальный центр в Брянске, хотя и продолжал носить прежний титул епископа черниговского и брянского. Теперь же он прибыл в Чернигов, вернее, в то, что осталось от прежнего оживленного города, и приступил к погребальной службе в восстановленном главном соборе города. Ему прислуживали несколько священников, среди которых был и отец Иоанн, сопровождавший покойного князя Михаила.
Когда закончилось надгробное богослужение, самый младший из братьев Михайловичей обратился к Роману:
– Послушай, братец, не следует ли тебе перенести стольный город из Брянска в Чернигов? Здесь покоится прах наших близких. Недалек отсюда и Киев, отец городов русских. Когда-нибудь и он восстанет из пепла и возродится.
– Не знаю, что и сказать тебе, – сдержанно ответил Роман. – Сколько сил я потратил, чтобы восстановить Брянск, ликвидировать разрушения, вернуть его разбежавшихся жителей! Город возрождается. А что такое современный Чернигов? Жалкие остатки прежнего города.
– И тем не менее на Чернигов засматриваются воинственные соседи, князь смоленский, князь литовский. Овладеешь Черниговом – овладеешь ближайшими подступами к Киеву – так рассуждают они, – возразил младший брат брянского князя. – А защитников у города на Десне маловато – это верно, – добавил он.
Роман все же убедил младшего брата в его неправоте, не поддержав предложение о переносе стольного города из Брянска в Чернигов. Брянск, благодаря усилиям Романа восстанавливался и оживлялся, а Чернигов не мог свести на нет свои многочисленные разрушения, пребывая в запустении и развалинах.
Наконец настал торжественный день, когда останки усопших были перевезены в Чернигов и водворены в очищенный от всякого хлама и приведенный в относительный порядок кафедральный собор. Супруга Михаила и мать его сыновей тяжело переживала отъезд мужа в Орду, ожидая худшего исхода. Горькие ожидания подтвердились, когда проезжие купцы привезли весть о гибели князя Михаила и его боярина Феодора. Для княгини эта весть оказалась тяжким потрясением и привела к ее скоропостижной кончине. Это случилось еще до прибытия останков убиенных в Брянск, где в последнее время проживала княгиня при дворе сына. Когда привезли останки великомучеников князя Михаила и его боярина Феодора, князь Роман завел разговор с владыкой, не пристало ли похоронить умершую княгиню вместе с мужем в княжеской усыпальнице черниговского собора. Епископ не одобрил такое намерение и назидательно произнес:
– Учти, княже, великомученик Михаил будет покоиться рядом с матерью, первой супругой отца, польской королевной Марией Казимировной, а супруга Михаила из заурядного боярского рода неровня Марии. Пусть ее прах останется в соборе Брянска. Будем выказывать ей наше уважение, и этого достаточно. Всевышний подсказывает мне, что мы должны так поступить.
Роман не стал спорить с владыкой, хотя в глубине души был недоволен его отношением к делу. Ему хотелось бы захоронить матушку, хотя и не королевского происхождения, рядом с отцом.
Когда траурные церемонии закончились, Роман Михайлович организовал поминки, пригласив ближайшую и дальнюю родню, бояр, приближенных и духовенство. Произносились прочувствованные поминальные речи. А потом родственники разъехались по домам. Остался один князь Роман Михайлович, считавший, что опустошенный город входит в состав его владений и нуждается в оживлении духовной жизни. Он занялся переговорами с духовником покойного отца, священником Иоанном, сопровождавшим князя Михаила до последних минут его жизни. Прежде отец Иоанн служил в небольшом храме по соседству с княжеской резиденцией, на днепровском острове вблизи Киева. Этот священник не принадлежал к черному духовенству, имел семью, которая оставалась под Киевом.
Роман начал разговор со священником, предварительно имея беседу с епископом:
– Можно сказать, батюшка, тебя связывали крепкие нити с покойным князем Михаилом. Я прав?
– Вестимо, – односложно ответил Иоанн.
– Владыка не возражал бы, если бы ты взялся принять настоятельство в черниговском соборе.
– Но у меня семья под Киевом – матушка, дети.
– Дам тебе пару подвод и охрану, чтобы ты смог посетить Киев и забрать семью. Что ты на это скажешь?
Отец Иоанн после некоторого раздумья согласился перебраться в Чернигов. А князь Роман распорядился, чтобы в подвале собора установили небольшой иконостас из нескольких образов с лампадами.
Дальнейшая жизнь Романа Михайловича оказалась бурной и противоречивой, насыщенной тревожными событиями. В 1260-е годы он успешно ходил против литовцев и одержал над ними победу. Столкновения с литовцами продолжались и в следующем десятилетии. В середине 1280-х годов Роман напал на Смоленск, с которым у него сложились недружелюбные отношения, и пожег его пригороды. Но противником Романа выступил литовский князь Гедимин, сумевший на некоторое время завладеть Брянском. Роман смог сохранить независимость и отразить нападение литовцев на свое княжество. Умер князь Роман в Орде во время посещения ханской ставки. В дальнейшем Брянску не удалось сохранить самостоятельность. В середине XIV века этот удел был заметно ослаблен и стал добычей литовцев.
Во второй половине XIV века Чернигов и окрестные территории вошли в состав Великого княжества Литовского. В итоге победы московских войск над вооруженными силами Литвы Чернигов вместе с черни-гово-северской землей вернулся через некоторое время в состав Руси. Это случилось в 1503 году. Во времена Ивана Васильевича Грозного с переменным успехом велась длительная война с западными соседями. Главная цель, которую ставил царь Иван IV, состояла в том, чтобы пробить выход к Балтийскому морю. Цель эта в конечном итоге так и не была осуществлена. Тем не менее черниговская земля с городом Черниговом была присоединена к Русскому государству. Прах князя Михаила и его боярина в 1572 году был доставлен в Москву. Сперва их останки были погребены в соборной церкви черниговских чудотворцев в Кремле близ Тайницких ворот. Когда же этот храм был снесен, то оба захоронения по повелению Екатерины II были торжественно перенесены в Сретенский собор, а через некоторое время – в Архангельский собор, один из главных кремлевских храмов. Это произошло 21 ноября 1774 года. В знак уважения к обоим великомученикам останки каждого из них были заключены в великолепные серебряные раки. В 1812 году, в пору занятия Москвы войском Наполеона, французы воспользовались обеими раками, ставшими объектами грабежа. Впоследствии каждая серебряная рака была заменена металлической, посеребренной.
Современная церковь чтит князя Михаила Всеволодовича Черниговского и его приближенного Феодора. Черниговский князь оставил заметный след в истории русской православной церкви, став жертвой ханского деспотизма и коварства.
Глава 21. КРАТКОЕ СЛОВО О ПОТОМКАХ
Князь Михаил Всеволодович Черниговский, а на склоне лет князь киевский оставил многочисленное потомство. Старшей из его детей была княгиня Мария, в замужестве супруга ростовского князя Василька Константиновича. Этот князь с группой князей Северо-Восточной Руси во главе с великим князем владимирским Юрием Всеволодовичем пытались противостоять нашествию ордынцев. Тяжело раненный Василько был захвачен в плен и приведен в ханскую ставку. Отказ ростовского князя поступить на службу к завоевателям и участвовать в их грабительских походах вызвал гнев хана Батыя. По его распоряжению несговорчивый и свободолюбивый Василько был умерщвлен.
Княгиня Мария, рано овдовевшая, занялась летописанием и после гибели мужа приняла монашеский сан. Она была матерью двух сыновей, Васильковичей. Старший, Борис, по достижении совершеннолетия был провозглашен князем ростовским. Его брат, Глеб, достигнув зрелого возраста, стал князем белозерским. От этих двух княжеских домов пошли многочисленные ответвления, которые, с ликвидацией на Руси удельной системы под властью московского государя, сохранились как известные княжеские фамилии. Некоторые из них дали России в недавнем прошлом знаменитых людей, а некоторые сохранились и до наших дней.
Старшим из сыновей князя Михаила Всеволодовича был Ростислав, человек сложной судьбы. В молодости он был князем новгородским, потом вмешался в междоусобные дела в Галиции и какое-то время владел княжествами в Галиче и Луцке. Вступив в противоборство с князем Даниилом, при приближении татаро-монгольской орды Ростислав бежал в Венгрию, где поступил на службу к венгерскому королю Беле IV. В 1243 году Ростислав вступил в брак с дочерью короля Анной и получил от ее отца под свое управление феодальные владения Мачву и Родну. Король рассматривал русского князя, связанного с его семьей брачными узами, как противовес венгерским феодалам, строптивым и своенравным, далеко не всегда покорным королевской власти.
У Ростислава от дочери Белы IV было два сына: Михаил, названный так в честь отца, и Бела, названный в честь тестя, – носивших феодальные титулы банов, и две дочери – Кунгута (Кунгуда) и Аграфена (Агриппина). Слово "бан" праславянского происхождения, видоизмененное слово "пан", то есть господин, владетель, владелец. Так называли людей, управлявших крупными областями страны. Среди них выделялся по своему значению и объему власти бан Хорватский, назначенный королем.
Михаил Ростиславич, старший сын Ростислава Михайловича (родился после 1243 года, умер в 1269 году), бан сербской Мачвы и Бознанской области, состоял в браке с Марией, дочерью царя болгарского Ивана Асеня. Их сын также занимал болгарский престол. Младший сын Ростислава Михайловича Бела родился около 1250 года и умер в 1272 году. Успел ли он обзавестись потомством, неведомо. Возможно, что он, уйдя из жизни молодым, не успел завести семью. О дочерях Ростислава известно следующее. Кунгута Ростиславовна была замужем за чешским королем Оттокаром II. Аграфена Ростиславовна, родившаяся около 1250 года, состояла в первом браке с царем болгарским Михаилом Асенем, а во втором браке – с Лешко II Черным, герцогом польским. Имела ли она детей от обоих браков, неизвестно.
О других сыновьях Михаила Всеволодовича, обосновавшихся в бассейне Верхней Оки и в Брянске на реке Десне, днепровском притоке, точных сведений нет. Можно только догадываться, что старшим среди Михайловичей здесь был брянский князь Роман. Он оставил троих детей: Олега, Ольгу и Михаила. Об Олеге источники упоминают как о князе черниговском, но не сообщают, осталось ли после него какое-либо потомство. Ольга Романовна была замужем за князем владимиро-волынским Владимиром Васильковичем, умерла бездетной. О потомстве Михаила Романовича источники дают неопределенные, смутные сведения, они не проливают свет на то, занимал ли он когда-нибудь отцовский стол в Брянске или нет.
Известно, что брянский князь вел упорную борьбу с литовцами, которые создавали постоянную угрозу для княжества. Враждебные действия литовцев не прекратились и со смертью Романа Михайловича. В результате Брянское княжество пришло в крайнее запустение и в 1356 году было легко занято войсками литовского князя Ольгерда. В течение полутора веков продолжался период литовского господства в брянской земле. Здесь княжили потомки Ольгерда, потом их сменили княжеские воеводы, управлявшие областью. С середины XV века брянская земля вновь испытала давление со стороны литовских князей, которые к концу XV века смогли овладеть ею. Позже этот район вошел в состав Московского государства, хотя в дальнейшем не раз подвергался нашествиям литовцев и поляков.
Мелкие уделы, расположенные в верховьях Оки и ее притоков, составляли владения потомков князя Михаила Всеволодовича, и довольно длительное время продолжали свое существование. Они дробились на все более и более мелкие уделы, и князья превращались, по сути, в средней руки землевладельцев.
Одним из таких ответвлений стало Новосильское княжество. Его центром был город Новосиль, впоследствии один из уездных центров Тульской губернии. Его первым князем стал Семен Михайлович, предположительно третий сын князя Михаила. Его владения лежали по притоку Оки, реке Зуше, затем выходили на Оку и охватывали ее верхнее течение с притоками.
У Семена было два сына – Роман и Иван. Роман наследовал новосильскую часть удела, Иван – северную часть удела с городом Одоевом. Иван умер бездетным, и его владения наследовали племянники, которые стали князьями новосильскими, белевскими и Одоевскими.
Во второй половине XIV века Новосиль подвергся разгрому со стороны татаро-монгольских войск. После этого местный удельный князь Роман Семенович и его брат Иван, в ту пору еще живой, перебрались на жительство в Одоев, менее пострадавший от захватчиков. Историки высказывают предположение, что с этого времени новосильский удел был ликвидирован, прекратив самостоятельное существование, и оказался под властью Литвы.
Роман Семенович после разгрома Новосиля, переселившись с братом Иваном в Одоев, стал его первым удельным правителем. В первые годы XV века Одоев захватили литовские войска и присоединили его к территории своего государства. Однако литовцы оставили местных князей в качестве своих вассалов. В середине XV века потомки князя Романа "отложились" от Литвы и признали власть Ивана III, великого князя московского. При его преемнике Одоевский удел был упразднен и включен в состав московских владений.
В XV веке на политической арене появляются князья Воротынские как ответвление князей новосиль-ских. Подобная фамилия произошла от городка или населенного пункта Воротынска, расположенного на небольшом отдалении от левого берега реки Оки, невдалеке от современного города Калуги. В книге В.М. Когана "История дома Рюриковичей" (СПб., 1993) об этом говорится так: "Князь Феодор, второй сын одоевского удельного князя Юрия Михайловича, находившегося в подданстве Литвы, получил в управление г. Воротынск и стал его первым удельным князем. Его сын Михаил Федорович в 1484 г. "отложился" от Литвы и принял подданство Москвы. В 1493 г. примеру Михаила последовали и стали служить Ивану III его братья Семен и Дмитрий, все трое стали боярами при Московском дворе".
В дальнейшем Воротынские находились на царской службе, иногда подвергались со стороны Ивана IV Грозного жестоким репрессиям и даже физическим расправам. При первых Романовых Воротынские заняли видное место в российской чиновной иерархии. Этому способствовало родство Ивана Алексеевича Воротынского с царем Алексеем Михайловичем: Воротынский приходился по матери двоюродным братом царю. Род князей Воротынских пресекся в 1679 году со смертью Ивана Алексеевича, пожалованного в бояре и дворецкие, и игравшего при дворе царя значительную роль.
Территория Карачевского княжества располагалась в бассейне реки Десны. Сам стольный город находился на одном из ее левых притоков. Владение уделом досталось одному из сыновей Михаила Черниговского, Мстиславу. Город Карачев подвергся жестокому опустошительному нашествию татаро-монголов. Карачевский удел, как и соседний город Брянск с окружением, занимал географическое положение, наиболее уязвимое для всех будущих вражеских вторжений.
В начале XIV века территория карачевского княжества заметно уменьшилась в результате ее дробления между представителями княжеской линии. Размеры этого княжества были невелики по сравнению с соседними. От него отделились княжества Звенигородское и Козельское. В середине XIV в. в результате нашествия литовцев, овладевших соседними территориями северской земли, была утеряна независимость Курского княжества.
В первой половине XIV в. появилось Звенигородское княжество, выделившееся из состава Карачевского. Его основателем стал удельный князь Андриан, второй сын карачевского князя Мстислава Михайловича.
Потомки князя Андриана сохраняли права удельных князей до середины XV века, потом перешли на службу к московским князьям, а их удел отошел к Москве. Род князей Звенигородских постепенно разделился на несколько ветвей, принявших разные наименования. Все эти ветви давно угасли, кроме князей Спячих. С XVI века они стали называться князьями Звенигородскими. Среди них были воеводы, стольники. Род Звенигородских со временем утратил княжеский титул и существовал как средней руки дворянский род.
Город Козельск стоит на реке Жиздре, притоке Оки. После его разгрома татаро-монголами, а затем убийства в Орде князя Михаила Всеволодовича Козельск стал составной частью Карачевского княжества, в котором княжил Мстислав Михайлович. При сыне Мстислава Тите произошел раскол этого княжества. Из него выделилось Козельское княжество, в котором начали княжить совместно три сына Тита: Мстислав, Иван и Феодор.
В XIV веке Козельское удельное княжество прекратило свое существование и стало добычей Литвы, впрочем, на непродолжительное время. В начале XV века Козельском овладел великий князь московский Василий Дмитриевич, передав его серпуховскому князю Владимиру Храброму в обмен на Волоколамск и Ржев. В середине XV века литовцы вновь овладели Козельском и присоединили его к своим владениям. Наместником Козельска был сделан князь Воротынский, один из местных князей, потомков Михаила Всеволодовича.
Лишь в конце XV века литовцы были вынуждены признать город собственностью московских князей и его окончательный переход к Русскому государству. Один из потомков Тита Мстиславича по прозванию Горчак, умерший в 1310 году, начал писаться Горчаковым. Эта фамилия появилась в начале XVI века.
Князь Иван Федорович Горчаков был в 30-е годы XVI века наместником в Карачеве. Другой носитель этой фамилии, Борис Васильевич, при царях Иоанне и Петре известен как окольничий, а его брат Феодор как стольник. Он стал родоначальником всех последующих Горчаковых. Среди них наиболее выдающаяся фигура – Александр Михайлович (1798-1883), лицейский товарищ Пушкина, дипломат, дослужившийся до руководителя дипломатического ведомства России в царствование Александра II. Дипломатом был и его сын Михаил Александрович, бывший посланник в Мадриде.








