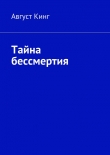Текст книги "Последний полет «Ангела»"
Автор книги: Лев Корнешов
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 22 страниц)
ГИБЕЛЬ РОДА АДАБАШЕЙ
Весь род – в одну могилу. Алексей не мог себе такое представить. Но было именно так. Захлебывались, давились злобой овчарки, остервенело орали полицейские, раздраженно выкрикивали команды офицеры, шли последней своей дорогой жители Адабашей. Все.
Полицейские были не местные, в селе не нашлось ни одного предателя, никто не променял совесть на белую нарукавную повязку, оккупационные марки и пайку хлеба. Для полицейских это была «командировка». Гитлеровцы часто собирали для массовых расстрелов палачей из других мест: учитывали, что в незнакомых стрелять легче. Впрочем, о жалости или снисхождении речь даже не шла, эти, без сомнения, убили бы и родных своих, последуй такой приказ оккупантов.
Командовал полицейскими молодой чернявый парень в немецкой офицерской форме, без знаков различия. На груди у него болталась медаль из тех, которыми оккупанты отмечали кровавые заслуги своих прислужников. Полицейские, прибегая к нему для рапортов, нелепо козыряли и титуловали «господин начальник команды». Он брезгливо морщился, глядя на своих вояк, опухших от пьянства.
«Начальник команды» закатал рукава мундира, черную пилотку сунул под погон. Усики у него подстрижены под фюрера, густая прядь волос падала на левую сторону, из-под нее злобно светился темный глаз. Он был, наверное, очень аккуратным: когда на голенища начищенных до блеска сапог попала грязь, один из полицейских суконкой протер их, угодливо заглянув в глаза «начальнику команды». Тот стоял, картинно положив руку на расстегнутую кобуру пистолета.
Полицейские приехали в Адабаши на заре, раньше, немецких солдат, и сразу же окружили село кольцом, перекрыв из него выходы. Они уже крепко хлебнули самогонки, орали, били людей прикладами и плетьми. Чернявый сам не бил – он показывал пальцем, кого, по его мнению, требовалось «вразумить».
Даже два немецких офицера, командовавших солдатами, сторонились чернявого. Они не то чтобы гнали его от себя, просто старались не общаться с ним, отдавая распоряжения жестами. Чернявый на лету схватывал приказы и тут же выкрикивал слова команды, всем своим видом демонстрируя исполнительность и служебное рвение.
Люди, согнанные, сбитые в тесную, напряженно дышавшую толпу, долго стояли на площади. У одного из солдат был фотоаппарат, он все щелкал и щелкал его затвором, выбирая кадры поэффектнее: старика – патриарха рода, молодую женщину в праздничной, вышитой крестиком блузке и с ребенком на руках, троих полицейских, здесь же разливших самогонку в граненые стаканы – нарезанное ломтями сало для закуски они разложили на листе фанеры с немецким написанием названия села: «Adabaschi». Полицейские восприняли фотографирование как большую честь, вскочили, повесили автоматы на грудь, одинаково положили на них жилистые руки. Солдату-фотографу это не понравилось, он заставил их снова сесть на землю, взять по стакану и куску сала.
Немцы и полицейские явно кого-то ждали. Наконец в село въехала легковая машина. Офицер, командовавший карательной акцией, подскочил к ней, выбросил руку в фашистском приветствии. Из машины легко выбрался эсэсовец в черном мундире. Он скользнул взглядом по безмолвной толпе, равнодушно выслушал рапорт, взмахнул стеком. «Начальник команды» тоже доложил о себе, щелкнув, как и немцы, каблуками. Эсэсовец удостоил его легким кивком головы и, подняв стек, показал на толпу людей: продолжайте, мол, а я посмотрю.
«Коршун прилетел», – зашептались полицейские. Они забегали, засуетились, прикладами и плетьми заставили людей построиться в длинную колонну. Впереди были старшие Адабаши, детей затолкали в середину колонны, может быть, надеялись, что о них забудут, или просто срабатывала веками выработанная привычка прикрывать собою малых и слабых.
Тронулись в путь…
– Не горюйте, люди, – проговорил самый старый Адабаш, шедший, опираясь на суковатую толстую палку, впереди всех. – Не горюйте, люди, на родной земле смерть принимаем.
Когда проходили по мосту через речку, кто-то из мужчин перепрыгнул через низенькие деревянные перила и бросился в воду. Полицейские подождали, когда он вынырнул и голова его показалась метрах в двадцати. Потом треснул выстрел, второй, вода сомкнулась, по ней пошли красные круги. Стрелял чернявый. Он всмотрелся в воду, убедился, что убитый пошел ко дну, и сплюнул. Полицейские даже не перекинулись словом, это была их работа, и они не то чтобы привыкли, а выполняли ее, заученно и без суеты.
Так же спокойно и безразлично отнеслись к происшествию и немецкие солдаты. Лишь один из них, проходя мимо чернявого, пристрелившего беглеца, похлопал его одобрительно по плечу. «Прощай, внучек», – громко сказал седой старик и перекрестил воду, еще долго красневшую от крови.
– Юрка убили, – пронеслось по толпе, и надрывно закричала жена Юрка, не попавшего на фронт по инвалидности. А теперь вот кровь его смешалась с водой речки его детства, на берегах которой он вырос, куда приходил совсем молодым, с этой вот женщиной, тогда еще юной и пригожей девчушкой.
Они прошли мост, который когда-то построили сообща. Вышли на дорогу через луг.
– Может, переселяют? – спросил кто-то. Надеются люди до самого последнего своего вздоха. Но старики, бывшие в толпе, уже точно знали, куда их ведут, – сами ведь, всей деревней тот ров копали.
– Господи, за какие грехи наслал ты на нашу землю иродов? – горестно запричитала пожилая женщина. За ее юбку тонкими пальчиками цеплялась внучка. Старик патриарх, девяти десятков лет от роду, до самого конца шел первым, опираясь на свой посох. Идти ему было тяжело, и не бремя лет сковывало его ноги. Невыносимой была думка, что кончается его большая семья и, может быть, наступает конец света, конец жизни, потому что впереди и справа и слева видел он зарево – то горели окрестные деревни, и вся земля, насколько схватывал ее глаз, уже была в пламени – запылали и Адабаши. Горело все небо, и солнце плыло в дыму, в копоти, оно вдруг стало серым, словно посыпали его пеплом.
Не было в той колонне только десятерых из всего славного крестьянского рода Адабашей. Восемь из них ушли на войну. Все они в разные месяцы и на разных фронтах сложат свои головы – кто раньше, кто позже.
Еще один Адабаш – Егор, учитель местной школы, партизанил. Преподавал Егор Иванович после пединститута немецкий язык – в школах накануне войны стали учить немецкий.
Из младших Адабашей не было еще в колонне, идущей на смерть, Ганночки – вместе с братом своим Егором тоже партизанила, была связной и в этот день находилась далеко отсюда, пробираясь к линии фронта. Только ей и суждено остаться среди живых…
Жили люди на земле прадедов своих, растили хлеб, сады, детей и теперь шли по ней к своей смертной минуте…
Адабашей пригнали к противотанковому рву. Неподалеку разрезали землю еще два таких же рва, насыпи успели уже прорасти травой. Как трудно было их, такие глубокие, копать вручную, лопатами! Но вышло в те дни все село, надеялись – остановят здесь немца.
Приехал грузовик с немецкими солдатами, потом машина Коршуна. Офицеры посовещались недолго, равнодушно посматривая на толпу обреченных. Эсэсовец снова взмахнул стеком, и, повинуясь этому взмаху, полицейские суетливо выстроились в шеренгу метров за десять от крутого провала, солдаты на флангах установили два пулемета, чтобы добивать каждого, кто попытается бежать, прорваться сквозь кольцо карателей туда, где зеленели лес и поля.
Два эсэсовца поставили на пригорке раскладной стульчик, и Коршун смотрел на все, словно из ложи театра. Может, чувствовал он себя в те минуты властелином, сверхчеловеком, который может взмахом руки отправлять в небытие пока еще живых, но уже отмеченных печатью смерти людей? Однако чернявый, уже многократно участвовавший вместе с эсэсовцем в таких вот акциях, видел, что тому просто-напросто скучно, хотя он и доволен «нормальным» течением событий. А то ведь бывало, что в такой вот толпе оказывались мужчины с припрятанными наганами и ножами или случайно попавшие в облаву окруженцы. И бросались они на солдат в отчаянных попытках прихватить с собою на тот свет еще одного врага. Коршун не любил, когда что-либо нарушало тщательно разработанный план акции.
Здесь же были только женщины, дети, немощные старики.
– Я пойду первым, – сказал старый Адабаш и шагнул к краю рва вместе с женой своей Марией, бабушкой Марусей, как звали ее младшие Адабаши.
Расстреливали людей десятками. Отсчитают десять человек, подведут к краю рва – и короткий залп, потом мгновенная тишина, глухой стук падающих на дно, стоны расстрелянных, но еще живых, цепляющихся последним усилием за жизнь.
Плач и боль стелились под открытым небом, охваченным с разных сторон языками близких и дальних пожаров. Каратели решили одним махом уничтожить весь этот район, дававший приют партизанам.
Те, кто стоял в ожидании смерти, закрыли собою хлопчика, который что-то торопливо писал огрызком карандаша на листке из блокнота. Он вложил исписанный листочек в комсомольский билет, оторвал от белой сорочки полосу ткани, прибинтовал билет к руке. Убийцы могут снять с убитого пиджачок, но никому и в голову не придет срывать бинт.
Команда «работала» без особого напряжения, этот расстрел был не первым, каждый знал свое место, все отработано до мелочей, рассчитано по минутам. Лишь раз произошла заминка. Одна из женщин попыталась незаметно столкнуть в ров свою маленькую дочку – может, уцелеет под телами расстрелянных родичей своих?
Чернявый заметил это и бросился ко рву. Он начал стрелять на бегу, длинными очередями сбивая людей, словно игрушечные фигурки, свинцом в яму. И когда упали в огромную братскую могилу все десять, чернявый подскочил к ее краю, отыскал бешеным взглядом девочку и, начав с нее, повел очередью по всему этому кровавому месиву из тел, крови, осыпавшейся глинистой земли.
Израсходовав весь магазин, чернявый повернулся к Коршуну: заметили ли его усердие, его старание?
Тот равнодушно, свысока, наблюдавший за расстрелом, встал, и чернявый тут же подскочил к нему, ожидая приказаний. Эсэсовец отмахнулся от чернявого как от прилипчивой мухи. Ординарец уже нес ему винтовку.
Солдат с фотоаппаратом засуетился, выбирая точку, удобную для съемки. Каратели отобрали в толпе обреченных несколько мальчишек, отвели в сторону. По тому, как они без особых распоряжений и объяснений, без суеты и спешки, деловито и привычно сортировали людей, выстроили ребят на одной линии, понятно было, что уже наловчились это делать, хорошо знают, что от них требуется.
Мальчишки стояли босоногие, в холщовых рубашках, полными ужаса глазами пытались найти в толпе своих близких. К ним подошел переводчик, на ломаном языке стал объяснять:
– У каждого из вас есть один шанс на жизнь… Вы будете быстро бежать, а господин офицер – стрелять как на охоте. Вы кролики, он – охотник, – переводчик засмеялся, – убежит кто – его счастье, так обещал господин офицер.
Он возвратился к группе карателей, что-то сказал им, все расхохотались.
– Стрельба по движущимся целям – одно из самых полезных упражнений в боевой подготовке солдат. Рекомендую… – свысока проговорил Коршун. Он с треском, не глядя, вогнал обойму в магазин винтовки.
– Пошел!
Мальчишки кинулись врассыпную, они бежали, падали, спотыкаясь о кочки, вскакивали и снова бежали. С разбега влетали в кусты, рассыпанные здесь и там по лугу, пытались укрыться в них, но кустарник был жиденьким, редким, и маленькие беглецы, пробежав его, оказывались на открытом пространстве. Выстрелы щелкали один за другим, равномерно, словно отбивая последние секунды для этих испуганных, загнанных, отчаянно цепляющихся за жизнь сельских ребятишек.
Один… два… три… пять… десять…
Люди с яростью смотрели на то, как на их глазах хладнокровно расстреливают детей. Матери мальчишек даже кричать не могли – их сковал ужас. А в тишине методично щелкали выстрелы…
Одна из живых «мишеней» пока еще не была поражена. Этот паренек был постарше других, он бежал зигзагами, и ему удалось уйти довольно далеко, пока эсэсовец убивал девять его товарищей. Оберштурмбаннфюрер старательно поймал его в прорезь прицела, плавно, словно на учебных стрельбах, нажал на крючок, ударил выстрел, офицеры вокруг него захлопали в ладоши.
Дело шло к концу, уже приехал грузовик с гашеной известью и лопатами, а штабной чин разложил на столике ведомость и стопки денег. Полицейские бросали в его сторону цепкие жадные взгляды. Но неожиданно чин снова собрал деньги и бумаги в чемоданчик, унес его в машину.
Порядок, который ввел Коршун, был предельно рациональным: сразу же после акции полицейские расписывались в ведомости и получали «вознаграждение». Но иногда, проигравшись в карты, эсэсовец изменял этот порядок: он разрешал полицейским выбрать себе лучшие из вещей расстрелянных, а «вознаграждение» в марках забирал себе.
Полицейские заметили, что «бухгалтер», как они называли немца с чемоданчиком, уходит, и недовольно переглядывались: они ведь видели, что здесь поживиться нечем, уйдут с «акции» с пустыми руками. Другое дело, если приходилось ликвидировать гетто. Там у расстреливаемых были кое-какие ценности, колечки, брошки, иногда даже золотые червонцы. Все это считалось собственностью рейха, но рейх не обеднеет, если все делить на три части: для рейха, для господина оберштурмбаннфюрера и остальное – себе…
Эсэсовец заметил, что полицейские недовольны, подозвал чернявого и что-то сказал. Тот огрел плетью нескольких полицейских. Немец одобрительно кивнул. Нет, он не собирался делить добычу с этим сбродом. Тем более что дикари, ставшие трупами, ничего не копили и не ценили золото, их женщины носили вместо украшений примитивные бусы. Потому и решил Коршун марки не выдавать, пусть покопаются полицейские в вещичках, для посылок в фатерлянд здесь ничего стоящего не отыщешь.
Полицейские бродили по краю рва, присматривались к трупам, изредка стреляли. Ветерок с реки относил в сторону пороховые облачка. Солдаты собрались по несколько человек, гоготали, наверное, рассказывали сальные истории. Они свою часть работы сделали, все остальное довершат полицейские. Эти-то в первую очередь заинтересованы, чтобы никто не выполз отсюда живым, не стал свидетелем в будущем, которое никогда нельзя предугадать.
ДЕЛА ЛИЧНЫЕ И ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
Невозможно, конечно, было точно предугадать, что в будущем, отдаленном от гибели рода Адабашей четырьмя десятилетиями, в том будущем, которое стало для Алексея и его ровесников настоящим, эти трагические дни не забудутся. Они, полицейские и гитлеровцы, думали тогда, что все предусмотрели: после расстрела еще раз обшарили бывшее село и все вокруг него, завалили глиной ров и сровняли его с землей. То же произошло и с другими окрестными селениями – Коршун, ответственный за всю акцию, объехал их на своем «опеле».
И в донесениях об успешном проведении карательной экспедиции, поступивших в соответствующие штабы, не приводились названия сел – только кодовое название операции: «Свинцовая роса». Те, кому надлежало знать, знали, какие деревни, поля, леса были умертвлены «свинцовой росой».
– Ты знаешь, где их расстреляли? – спросил после долгого молчания Алексей, когда мама все это ему рассказала.
– Нет, – покачала головой Ганна Ивановна. – Мне было тогда чуть больше пятнадцати, командир партизанского отряда «Мститель» приказал любой ценой пробраться через линию фронта и доставить очень важные сведения.
– Неужели партизаны не пытались выяснить, где расстреляли Адабашей?
– Конечно, пытались. Сразу же удалось схватить даже одного из участников акции – полицейского. Допрос вел командир отряда, предатель рассказал, что ему было известно, даже на карте показал место расстрела. Был партизанский суд, полицейского повесили. Однако так случилось, что командир отряда вскоре погиб – неожиданно, нелепо. Планшет с картой, который был тогда при нем, исчез. Но это все было без меня, потому и не знаю почти ничего.
– Разве тебя не было в отряде?
– Я снова была на задании.
Ганночка не раз и не два ходила из отряда в близлежащие городки, в соседние партизанские отряды. А тогда командир приказал любой ценой перебраться через линию фронта и доставить командованию очень важные сведения. Ее снарядили в этот рейс очень основательно, сообщили имена надежных людей, которых она могла в крайних случаях разыскать. Выполнять задание надо было в одиночку, и надеяться приходилось только на свою удачу. Она шла под видом беженки, разыскивающей своих родных. Из отряда ее вывел брат Егор, он прошел с нею по лесам до той точки, когда она должна была выйти на дорогу и передвигаться почти открыто, рассчитывая только на себя, свои силы и смекалку. Егор благополучно провел ее по лесам, но отряд свой на старой базе не нашел, под натиском карателей партизаны ушли в новую зону. Потребовалось много дней, чтобы Егор их разыскал.
– Нет, – задумчиво протянул Алексей. – Невозможно…
– Что невозможно? – немного удивилась мама.
– Наверное, невозможно представить в полной мере все те невзгоды, которые вы одолели, трудности, через которые вы шли.
– Как бы тебе получше объяснить… Не думали мы об этом… Измерения трудностей были совсем иными. А тогда мне повезло, удачно к своим вышла, только уже в самом конце пуля поцарапала немного, меня оставили подлечиться и отдохнуть, а в отряд сбросили радистку, как и просил командир. Вскоре наши перешли в наступление, вот, оказывается, почему так нужны были сведения о фашистах, которые я доставила. После лечения меня послали учиться, на фронт отказались направить, малолеткой посчитали. Словом, в родных местах мне удалось побывать только после войны. Постояла на пожарище, поплакала и уехала.
– А дядя Егор? Он знал о том, что произошло в Адабашах? – настойчиво допытывался Алексей.
Мама рассказала, что оккупанты в те дни бросили крупные силы против партизан. Отряд «Мститель» вынужден был уйти в глубь лесов. Так случилось, что за Адабаши не то что отомстить некому было, а хотя бы место расстрела установить, какой-нибудь знак оставить…
Конечно, Егор Иванович пытался разыскать палачей, но на войне ведь как: родное село видишь издали, надеешься, что хоть на несколько минуточек в него заскочишь, но приказ на наступление – ушел дальше, так и не узнав, кто жив остался, кого уже нет…
Егор разыскал свою сестричку Ганну только тогда, когда уже вышел из партизанских лесов, закончил краткосрочное училище и снова стал воевать. Тогда и пришло от него первое письмо.
Ганна Ивановна отыскала среди семейных документов старенькие, пожелтевшие листочки, бережно разгладила их.
– Вот послушай, что писал мне Егор. «Ганночка, дорогая моя сестричка, советую тебе по-житейски, как старший брат: выходи скорее замуж и рожай сыновей, как положено женщине, чтоб не прервался наш род. Я ведь на фронте, а здесь можно в атаку подняться, три шага сделать и навеки обнять сырую землицу.
И прошу тебя: если не вернусь, накажи сыновьям своим, чтобы нашли хоть на краю света тех палачей, чтоб ничего они не забыли и не простили. Сколько бы лет ни прошло…
Целую тебя, сестра моя дорогая, и заклинаю – береги себя. А до Берлина я все равно дойду.
С фронтовым приветом, твой брат Егор».
У них в доме, сколько себя помнил Алексей, всегда на стене висела большая фотография Егора Ивановича. Снимался он перед самой войной, после окончания педагогического института: мягко и улыбчиво смотрел с фотографии на мир паренек в косоворотке, на «парадном» пиджачке – значки, которых теперь уже никто не носит. Мама как-то пошутила: «Раньше парни гордились осоавиахимовскими значками, а сейчас адидасовскими нашлепками». Алексей знал, что это она так сказала не в осуждение нынешних молодых, а чтобы подчеркнуть, как время бежит – меняется.
Но ведь это, выходит, ему дядя завещал: найти хоть на краю света тех палачей. Он подивился мудрости мамы, которая, вроде бы ни на чем не настаивая, приохотила его к изучению немецкого языка. Но мысль о том, что надо искать тех, из прошлого, долго казалась ему странной. Надо ли гоняться за призраками?
– Ты все еще думаешь о мести, мама? – тихо спросил Алексей. Он с волнением ждал ответ, это было то самое главное, что могла сказать ему мама и что определит его дальнейшую жизнь.
– Не о мести – о справедливости думаю я, мой сын.
Столько лет прошло, размышлял Алексей, все на земле изменилось, выросли новые города, образовались новые страны. А эта рано состарившаяся женщина, его мать, ничего не забыла, все случившееся с нею очень давно помнит острой и тревожной памятью. И если люди старшего поколения не в силах избавиться от боли и печали прошлого, то, может, это следует сделать молодым, тем, кто поднялся к жизни в новые времена, не в грозу, а под солнцем?
Ганна Ивановна догадалась, о чем думает ее сын. Разве и она не размышляла часто о том же? Забыть – слово, венчающее утихшую боль, растаявшее горе. Как убедить сына, что есть в нашей жизни вещи, которые не подлежат забвению, что прошлое связано не только с настоящим, но и с будущим?
– То, о чем я расскажу, случилось очень давно. Я была совсем еще маленькой. Шла коллективизация, и Адабаши дружно вступили в колхоз. Кулачье – хуторяне свирепствовали в округе, стреляли по ночам, запугивали. Был у нас хороший сад, редкие сорта яблонь, только Адабаши и умели выращивать такие. Сад мы передали колхозу. Так вот однажды ночью злые люди вырубили сад под корень. Ты бы видел, какой плач стоял! Сам наш прадед пришел осмотреть порубку. Он и посоветовал: «Не трогайте ничего, не корчуйте, у срубленных яблонь есть молодые побеги, сад еще поднимется. Но второго такого палачества он не перенесет».
Алексей понял, что хотела этой притчей сказать ему мама. Вырубили род Адабашей один раз, но побеги остались, может, поднимется род, снова распрямит свои ветви. Ну а если опять ударят по нему топором?
Еще он знал, сожженные Адабаши после войны вновь отстроились, поднялись к жизни. И новые жители села пригласили маму на открытие памятника погибшим. На митинге председательствующий представил ее:
– Бывшая партизанская связная Ганна Ивановна Адабаш-Черкас. Можно сказать, единственная оставшаяся в живых представительница славного рода Адабашей.
– Нет, люди, – сказала Ганна Ивановна. – Не единственная я теперь… Растет у меня сын Алексей. Жизнь, дорогие мои земляки, убить нельзя.
По-доброму, очень хорошо приняли ее тогда в Адабашах. Но поклониться своим родным, поплакать на их могиле она не смогла. С исчезновением карты командира отряда затерялся след. Ведь каратели все окрестные села тогда пожгли, побили всех людей подряд. Неясные слухи были в то время, что Адабашей расстреливали в противотанковом рву каком-то. Их несколько выкопали в начале войны, предполагалось, что наши войска остановятся здесь, закрепятся. Но по-другому все случилось, бои были хотя и жестокие, но недолгие. В эти места наши возвратились только через два года. За это время сровнялась могила Адабашей с землей, поросла травой. А в первую послевоенную весну вообще все рвы и траншеи, все окопы и воронки от бомб заровняли, посеяли там пшеницу, посадили лесополосы…
– А что там сейчас, мама?
– Хлеба от края и до края… Лесочки молодые… Хорошо там, приволье, луг весной весь в цветах, как будто землю ковром укрыли.
Этот разговор оказался очень важным для Алексея. Мать вручала ему по праву наследства то великое и тяжкое, что не смог завершить брат ее, дядя Егор, боевой капитан, дошедший до Берлина и сложивший голову, когда, казалось, все уже позади. Алексей твердо решил стать юристом.
Маму это его решение порадовало.
– Для нашей семьи, – сказала она, – как и для многих других, ответственность оккупантов за преступления – очень личное дело…
Алексей только позже, через несколько лет понял, как умело и тактично помогала ему мама выбрать будущую профессию.
Однажды в порыве откровенности он сам рассказал ей о том стыдном для себя случае, когда отступил перед вымогателями, бросил в беде товарища. Он хотел было добавить, что забыть об этом никак не может, в самые неожиданные минуты вдруг вспоминается.
«Дорогой мой капитан! Где ты, откликнись! Пишу и не знаю, найдет ли тебя мое письмо. Но верю, что ты его получишь, потому что, не может быть, чтобы жизнь была устроена так несправедливо: если два человека любят друг друга, их нельзя разлучать надолго. Я живу только надеждой на встречу с тобой. Я тебя взяла в плен, и ты принадлежишь только мне. Это, конечно, шутка, но мне хотелось бы надеяться, что твои чувства ко мне остались прежними.
А мои испытывать не надо. – я в них уверена так же крепко, как и в том, что за окнами нашего дома – Берлин, и руины его уже не дымятся. Вместе с другими берлинцами вчера ходила разбирать развалины, было холодно, камни попадались с острыми краями, но твоя Ирма старалась изо всех сил.
Мама ворчит: к чему, этот энтузиазм. И еще вчера сказала с недоумением: странные эти русские, вначале все разрушили, а теперь помогают восстанавливать. Ваши солдаты работали на разборке развалин вместе с нами. Потом приехала кухня, и всех кормили бесплатным супом.
Я глотала этот суп, и было мне и радостно, и стыдно. Жизнь возвращается в мой бедный город, и этому можно только радоваться. Но как вспомню все, что ты рассказывал о зверствах на вашей земле, становится очень больно. Потому я и сказала маме: вот Гитлер столкнул наш народ в бездну, а русские помогают нам выбраться. Мама не стала по своему обыкновению спорить, кажется, она тоже что-то начинает понимать. Но она мне сказала странные слова: «Ирма, забудь капитана. Достаточно и того, что мы спасли его, а он – нас». Нет, я никогда тебя не забуду, даже если это будет на горе мне.
Мой любимый, прошло уже два месяца, как мы расстались. Я считаю каждый день, хотя и понимаю – все напрасно, надеяться мне не на что. Кто я такая? Дочь эсэсовца, немка, принадлежу к народу, который принес столько горя другим народам, особенно вашему.
Я ни на что не рассчитываю, сейчас хочу только выжить, встать на ноги и хотя бы знать, что ты жив и с тобой ничего не случилось.
На днях приходил сержант Орлик, он нас не забывает. Принес консервы и еще кое-какую еду. Мама очень радовалась, с продуктами плохо. Она поила сержанта чаем и называла «господином унтер-офицером». Я спросила Орлика, почему ты мне не пишешь. Он ответил, что ты человек надежный, с тобою в любом бою не страшно. Какое это имеет отношение к тому, что ты молчишь, исчез, будто и не было никогда тебя? А может, тебя и не было, и я придумала тебя?
Нет, ты был и есть! Тогда откликнись, даже если и не любишь все равно напиши всего два слова: «Я жив!» Всего два этих слова – их мне будет достаточно для счастья.
Навсегда твоя Ирма.
Вспоминаешь ли ты, как я первый раз пришла к тебе в госпиталь? Меня не хотели пускать, но я показала письмо твоего командования, и женщина-врач сказала: «А это та, которая спасла нашего капитана? Пропустите ее». Она и сама не знала, что выписала для меня пропуск в любовь и новую жизнь…»