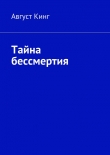Текст книги "Последний полет «Ангела»"
Автор книги: Лев Корнешов
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 22 страниц)
ОБЛАВА
Недавно газеты сообщили о том, что во время демонстрации протеста против сборища неонацистов из НДП во Франкфурте-на-Майне убит 36-летний слесарь Гюнтер Заре. Полицейская акция против демонстрантов-антифашистов, шедших под лозунгами «Примирение с нацистами? Никогда! Ничего не забыто!», «Нет!» – фашизму!», «Нет!» – войне!» вылилась в настоящее побоище. Водометы беспощадно сбивали с ног людей. Одна из водометных машин переехала Гюнтера Заре. На том месте, где это произошло, неизвестные вскоре написали лозунг:
«Гюнтер Заре. Именем народа убит в защиту нацистов…»
Алексей взял себе за правило приходить в управление в 8.30, за полчаса до начала рабочего дня. Он успевал за это время просмотреть свежие газеты, купленные в киоске, еще раз продумать план действий на предстоящий день. Чем дальше углублялся он в розыск карателей, расстрелявших род Адабашей, тем больше приходилось работать. Такие сложные дела обладали особенностью – они не отпускали от себя, требовали действий. Алексей готов был отдать все – время, силы, пожертвовать любыми своими привязанностями, лишь бы ускорить розыск, довести его до конца. Началась та полоса розыска, когда предпринятые ранее шаги стали давать осязаемые результаты.
Устиян вызвал к себе Алексея:
– Хочу сообщить вам долгожданное известие, – сказал он, открывая папку с документами. – Установлено местопребывание гражданки Кохан. Она ныне обитает на востоке страны, – Устиян назвал далекий городок, до которого даже самолетом надо лететь десять часов. – Вот уж забралась на край земли. Но сейчас Зинаида Кохан, как сообщили наши товарищи, не дома, уехала в отпуск.
– Куда?
Устиян заглянул в документ, лежавший в папке:
– Записывай…
Он продиктовал адрес небольшого города, находившегося в соседней с Таврийской области.
Зинка Кохан за пособничество оккупантам отбыла наказание и после этого переселилась на Дальний Восток.
Они обсудили, надо ли встречаться с Кохан сейчас или подождать, пока она завершит отдых и возвратится в свой город. Прикинули, что могли преподнести им встречи здесь и там, какие неожиданности и сюрпризы. В конце концов решили, что Черкас встретится с ней во время отпуска. На этом настоял Алексей: не хотелось терять времени, за немедленную встречу с Зинкой говорило многое, в частности, мог сработать эффект неожиданности.
Алексей выехал в командировку на следующий день. Он не стал предупреждать Геру о своем отъезде. После памятного вечера с представлением в роли «жениха» они не встречались, только однажды Гера позвонила по телефону и независимым тоном заявила, что происшедшее его, Алексея, ни к чему не обязывает, он свободен в своих действиях, как птица. Это у нее получилось несколько литературно: «как птица»… Поскольку Алексей замешкался с ответом, девушка повесила трубку. Алексей несколько раз пытался до нее дозвониться, но, услышав длинные гудки в трубке, облегченно клал ее обратно. Он не знал, как сложится разговор со своенравной девицей, не мог, как ни старался, определить свое отношение к происшедшему.
Свои исчезновения Гера называла так: выпасть в осадок…
К кому приехала Зинаида Кохан в этот уютный зеленый городок, Алексей установил с помощью местных товарищей уже на следующий день. Навели справки, и оказалось, что на улице Солнечной в собственном доме проживает престарелая Глафира Степановна Кохан, мать Зинаиды. Коротала годы в одиночестве, так как муж ее много лет назад был судим за поджог и умер в заключении. Зинка – единственная дочь и… единственная наследница добротного, просторного кирпичного дома, стоившего немалых денег. Это давало основания предполагать, что не на отдых она прибыла, а ради этого самого дома: мать тяжело болела, не сегодня-завтра могла завершить свой жизненный путь, вот Зинка и примчалась, чтобы оформить все документы на наследство.
Алексей представлял себе Зинку Кохан совсем другой. Ему казалось, что она из тех, о ком говорят: «Сохранила следы былой красоты». Но никаких «следов» Зинка за годы своей непутевой жизни не сберегла. Была она низенькой, худощавой и какой-то колючей. Выпирали остренькие скулы, остро разрезал удлиненное лицо узенький ротик, глазки напоминали хорошо заточенные сверла.
– Тебе кого? – враждебно спросила она, открыв дверь на звонок.
– Вас, если вы Зинаида Евтихиевна Кохан, – Алексей предусмотрительно поставил ногу так, чтобы она не смогла внезапно захлопнуть дверь.
В глазах у Зинки мелькнуло беспокойство: парень был незнакомый, а назвал ее по имени-отчеству, официально. И уж больно вежлив – она привыкла еще в те давние времена, о которых старалась забыть, с опаской относиться к вежливым молодым людям, приходившим обычно нежданно-негаданно, когда их меньше всего ждали.
– Я… – протянула она, не выпуская ручку двери.
– Мне надо с вами поговорить.
– Не желаю беседовать с незнакомыми людьми! – Зинка вспыхнула гневным румянцем. Истерики для нее были делом привычным.
– Тогда давайте знакомиться, – Алексей раскрыл служебное удостоверение, показал Зинке его так, чтобы она смогла прочесть его фамилию, имя, отчество.
– Вот вы откуда…
Он услышал в голосе Зинки страх.
– Все-таки разрешите войти?
Зинка посторонилась. Хотя какая она Зинка! Алексей мысленно называл ее так только потому, что живуч был в его представлении образ молоденькой прислужницы карателей, любовницы Ангела. А эта пожилая растрепанная и растерянная женщина была уже из других времен, обошедших ее своим вниманием, более того, безжалостно высветливших в ней все уродливое, что в молодые годы, очевидно, приглушалось смазливой внешностью.
– Что, начнем сначала? – устало спросила Зинаида Евтихиевна, когда они прошли в большую светлую горницу. В соседнюю комнату дверь была полуоткрыта, там слышались неясные шорохи, покашливание.
– Больная старуха лежит, – объяснила Зинка.
– Опять привела хахаля? – слабеньким голоском спросила больная.
– Помолчали бы, – враждебно проворчала Зинка. И пожаловалась Алексею: – Уже который месяц тлеет, а все никак не помрет, связала по рукам и ногам, опутала – шагу не ступить.
Значит, Зинка кого-то сюда водит, отметил Алексей. Откуда у нее здесь знакомые, если столько лет не была в городе?
– Пригласили бы присесть, – Алексею не хотелось разговаривать вот так, на ходу, когда ответы становятся словно бы одолжением, ни к чему серьезному не обязывают.
Зинка указала на стул у круглого стола, покрытого кружевной скатертью, сама устроилась напротив, положила руки на стол. Они были у нее в узлах вен, мозолистые, натруженные. Руки словно бы свидетельствовали – женщина много и трудно поработала на своем веку. Она была явно обеспокоена и всячески пыталась скрыть свою тревогу от Алексея.
– Мне как понимать наш разговор: как беседу или допрос?
– Вы хорошо знаете, как проводятся допросы.
– Значит, разговор по душам, – сделала вывод Зинка. – Тогда спрашивайте.
– Когда вы впервые познакомились с Ангелом?
Алексей решил не тратить время на подводку к разговору, сидевшая перед ним женщина прошла уже через множество «бесед», с такою лучше говорить напрямую, а не бродить вокруг да около.
Вот теперь Зинка испугалась по-настоящему. Она сжала пальцы так, что они побелели в суставах, низко опустила голову, словно что-то пыталась выискать в замысловатом рисунке кружевного полотна, а на самом деле просто старалась скрыть взгляд.
– Не знаю я никакого ангела! – выкрикнула она.
– Врешь! – неожиданно окрепшим голосом откликнулась больная из соседней комнаты. – Рассказывай, Зинка, правду, а то уедешь в дальние края и не жить тебе в этом доме после моей смерти!
– А я и не собираюсь здесь жить, – враждебно проворчала Зинка. – Когда помрешь, продам дом и уеду.
– Вспомни, как первый раз его в хату привела и меня на холод выгнали, словно собаку приблудную.
Старуха и через десятилетия не простила дочери свои обиды – копила их, вновь в бессонные ночи распаляла себя, строила планы мести.
– Не я тебя выгоняла, – Зинка даже не повернулась к полуоткрытой двери, из-за которой раздавался голос матери. – Ты ведь знаешь, как все было, что же ты на свою родную дочь лишнее наговариваешь? Сорок с лишком лет я казнюсь, себе грехи не отпускаю! Лучше повесили бы меня тогда вместо партизана.
Не ее повесили, а того паренька.
…С обеда полицейские побежали по хатам, сгоняя всех на площадь. Нет – не всех, детей и стариков не трогали, даже посмеивались, пусть отлеживаются на печках, не для них сегодня работенка. Уводили с собой девок, несколько парней-калек, которые по болезням задержались в селе, женщин да пожилых мужиков. Пронесся слух, что будут отбирать молодых и здоровых для эшелона в Германию, несколько сельчан раньше уже угнали в неволю на чужбину. Потому и шли люди на площадь со страхом, с опасением, на всякий случай прощались с родными.
За Зинкой тоже пришли, она забегала по подворью, наскоро заталкивая в заранее приготовленный полотняный мешочек сухари, шмат сала, кое-что из одежонки.
– Перестань шнырять, – прикрикнул полицейский. Он жил по соседству и потому счел возможным приглушенным голосом объяснить: – Никуда вас из села не погонят. Здесь работа найдется.
На площади, когда собрали всех, из группы немецких солдат и полицейских вышел чернявый парень с крестом на мундире. Он сказал, что из подвала управы сбежал схваченный ночью партизан, раненый, так что далеко не ушел. Чернявый сплюнул презрительно:
– Надо этого гада поймать и добить. Сейчас мы все пойдем на облаву. На охоту кто ходил?
Чернявый засмеялся, ему показалась нелепой мысль, что кто-нибудь из этих баб и девок, жавшихся от страха друг к другу, участвовал в такой благородной забаве, как охота.
– Не ходили, так пойдете.
Ловко придумал все чернявый, подло и хитро. Людей вывели за село к огромному полю, на котором поднялась кукуруза. Был уже август, и кукуруза вымахала по плечи. Каратели правильно рассудили, что партизан побежит туда, где легче укрыться. Вот всех расставили по краю поля метров за десять друг от друга, а за этой цепочкой выстроилась другая: полицейские и солдаты. Было их немного, и расстояние между каждым было побольше – метров по пятьдесят. Так и получилось, что сеть накинули на кукурузное поле густую, плетенную в два ряда. Чернявый предупредил: кто увидит беглого, пусть сразу кричит, полицейские или солдаты доделают свое дело, а если промолчит и пройдет мимо, то даже разговора не будет или там какого разбирательства – пуля в черепушку. «Боженько ж ты мой! – со страхом думала Зинка. – Это ж нас в каратели тоже записали, мы ж за раненым человеком будем гоняться, своего ловить». Она мотнулась туда-сюда, прикинула, как бы незаметно сбежать, но сосед-полицейский заметил ее суету и без злобы вытянул плетью так, что старенькое платьице на спине треснуло. Немцы захохотали, они веселились перед этой охотой, безопасной для них – один-единственный партизан, да и тот безоружный и раненый, что он может? Им нравилась придумка чернявого, и они одобрительно похлопывали его по плечу: зер гут! Да, конечно, куда скрыться тому бедняге – не на этом поле его вылущат из кукурузы, так на следующем. На дорогу он не рискнет выйти, а до леса добежать не успел – далековато.
Немцы веселились, день был хороший, солнечный, по пути они натрясли яблок в садах и теперь звучно надкусывали их, сок стекал по выбритым, лоснящимся подбородкам.
А люди стояли хмурые, и каждый, как и Зинка, молил бога, если он есть, чтоб не выпало на его долю это тяжкое испытание – встретить раненого. Понимали люди, что этой облавой каратели их как цепью приковывают к себе, кровью опрыскивают – кто в живых останется – все равно весь век будет мучиться, кошмары видеть, детей и внуков своих стыдиться. В облаву на своего погнать – такое только зверюга без стыда и совести, без ничего святого придумать может.
– Пошли!.. Пошли!.. – закричали полицейские.
Люди двинулись по полю неровной цепью, опустив головы, словно невольники. И надсмотрщики были – полицейские с винтовками и плетьми.
В высокой кукурузе было пыльно и душно, Зинка брела, раздвигая высокие, жесткие, словно лезвия бритвы, стебли, обливаясь липким потом. Острые края листьев больно резали оголенные руки и ноги. «Вот сейчас упаду и будь что будет», – с отчаянием думала она. И в самом деле споткнулась о вывороченный еще при пахоте пласт земли, упала, но тут же вскочила и побрела, шатаясь, дальше.
Беглого она увидела посреди плантации. Он лежал между рядками, лицом вниз, на изодранной в клочья рубашке багряно пламенела кровь. Партизан не шевелился, и было такое ощущение, что он мертв.
Зинка остановилась от неожиданности, шагнула в сторону, ломая стебли, чтобы обойти лежавшего ничком человека, и это заметил шедший метрах в двадцати от нее полицейский. Она еще могла что-нибудь сделать, приветливо махнуть полицаю рукой, прокричать какую-нибудь шуточку, словом, изобразить, что ничего особенного у нее не случилось, просто обходит ямку или поваленные ветром стебли. А она, напуганная до полусмерти, закрутилась, завертелась на одном месте, не в силах идти дальше, зажала рот ладонью, чтобы не дать вырваться истошному воплю. Вдруг мелькнула спасительная догадка: так он же мертвый, ему все равно: подойдут эти ироды, пнут сапогом, может быть, даже закопать позволят. Мертвый он! Ничего не чувствует, вот и руки обвисли, словно плети. В его смерти – ее спасение, не в чем будет винить себя, мертвым не больно.
Полицейские издали наблюдали за нею, очень уж странно она себя вела, кружила на одном месте, а другие ушли вперед и теперь оглядывались на нее. Люди тоже заметили, что с нею неладно, одна из женщин, выручая ее, крикнула!
– Зинка, не отставай!
А она вдруг подняла руку, взмахнула – мертвым все равно, а ей жить хочется, ой как хочется жить! Полицейские со всех сторон побежали к ней, продираясь сквозь заросли кукурузы, круша все на своем пути, передергивая со звоном затворы винтовок. И тогда она увидела, как партизан приподнял голову – вместо лица у него была кора из земли и застывающей крови – и негромко, но отчетливо произнес:
– Стерва! Овчарка немецкая!
Нет, он не выкрикнул эти слова – сказал так, будто клеймо выжег на всю оставшуюся жизнь.
– Молодец, девка, – заорал возбужденно чернявый каратель, – вознагражу!
Партизана повесили в тот же вечер на крыльце сельсовета. Как и водилось, на казнь согнали всех жителей села. Зинку поставили рядом с полицейскими и немцами, чернявый, бешено вращая глазами, выкрикнул, что доблестная немецкая армия вот-вот войдет в Москву, что всех коммунистов перевешают, как этого ублюдка – он ткнул пистолетом в партизана, уже стоявшего на табуретке с петлей, и вообще заколотят Советы в гроб.
…Зинка потом много ночей видела в беспамятстве одно и то же: пожилой полицейский неторопливо и хозяйственно на глазах у партизана, совсем молоденького хлопчика, бруском мыла натирает веревку.
Чернявый еще выкрикивал про то, что Зинка оказала большую помощь в поимке беглого бандита и если бы все поступали так, как она, то с партизанами давно было покончено. Один из подручных протянул чернявому сверток, тот сорвал обертку, развернул большой шерстяной платок в ярких розах – мечту сельских девчат – и набросил Зинке на плечи. Ей показалось, что на шею лег хомут и теперь его не сбросить – будет нести свой тяжкий груз туда, куда скажут чернявый и другие каратели.
Селяне молча, не глядя друг на друга, опустив головы, расходились по хатам. Возле повешенного каратели оставили пожилого полицейского, опасаясь, что кто-нибудь снимет тело и похоронит партизана по человеческим обычаям.
– Иди домой, – приказал чернявый Зинке, – и готовь вечерю, заглянем попозже.
– У нас же хлеба и того нет, – все происшедшее оглушило Зинку, повергло ее в состояние полного безразличия, тупой покорности. Вот думала, что тот хлопчик мертвый, а он живой оказался. Овчаркой немецкой окрестил, свое проклятие с нее не снял, как теперь ходить по земле?
Чернявый ухмыльнулся:
– Твое дело – на стол собрать. Остальное – наши хлопоты…
Вскоре после того, как Зинка пришла домой, во двор с сумками и торбами в руках ввалились полицейские. Они нанесли мяса, сала, кур со свернутыми головками, яиц, масла. Несколько пятилитровых бутылей с самогонкой бережно поставили на пол в угол, чтобы не дай бог не зацепить ненароком.
Зинка принялась жарить и варить, чтобы хоть в работе забыться. Мать ей помогала, она кое-что из еды снесла в погреб, пусть будет на черный день. Словно бы он не настал уже для нее, Зинки, черный денечек, такой черный, что и не сказать словами.
– Ты у них корову попроси, – советовала мать. – А то хотят платком отделаться.
– Помолчала бы ты, мама, – Зинка опустилась на лавку, сложила руки на коленях, да так и застыла.
– Ты чего скисла? – прикрикнула на нее мать. – Или они нас жалели, когда пшеничку выгребали, батька твоего в тюрьму отправляли?
Зинка смутно, но помнила день, когда отца уводили со двора милиционеры. А до этого сгорел колхозный склад. Как увели отца, так и пропал, будто и не было его никогда. Да, их не пожалели, так чего ж она должна переживать, мучиться?
Мать ей не раз жаловалась, что вот осталась неизвестно кем: то ли вдовой, то ли замужней женой. И Зинка ее не очень осуждала за то, что в их хату вечерами иногда наведывались подгулявшие мужики – здесь всегда можно было разжиться самогонкой, а то и скоротать время до рассвета.
Подготовив все для стола, мать быстренько привела себя в порядок, угольком начернила брови, огрызком красного карандаша подвела губы. Она металась из кухни в горницу легко, настроение у нее было явно приподнятое. Про то, что произошло в поле и у сельсовета, она ничего не сказала Зинке, словно и не видела, как набрасывали на молоденького партизана петлю…
Когда стемнело, прикатили на машинах чернявый, два немецких офицера и несколько полицейских. Зинка заметила, что вокруг дома расставили часовых, и это ее обрадовало – испуг, охвативший ее еще тогда, когда в кукурузе она увидела партизана, не проходил. Он и не пройдет еще многие-многие годы, она привыкнет к страху, как свыкаются с длительной болезнью, которую лечи не лечи – никуда от нее не деться.
– Пойди переоденься, а то гости в дом, а она как чумичка, – зашипела на Зинку мать. Зинка послушно достала из сундука вышитую крестиком белую блузку, темную юбку, бархатный жакетик, хромовые сапожки – свою праздничную одежду. «О-о!» – восхитились офицеры, когда она появилась в горнице. Они оживленно залопотали, глаза у них стали маслеными. Чернявый смотрел на все это спокойно, пальцем указал Зинке место возле себя.
Гужевали каратели долго и шумно. Зинке помогали мать и один полицейский, бывший у чернявого кем-то вроде денщика.
Быстро опустели бутылки самогона, однако собрались, видно, привыкшие к выпивке, на ногах держались крепко.
– Как твое имя? – спросила Зинка чернявого.
– Ангелом меня зовут дружки верные. – Чем больше чернявый пил, тем мрачнее становился, и Зинке возле него было страшно.
Денщик выскочил во двор, принес из машины патефон, поставил пластинку. Зазвучала песенка на немецком языке, Зинка не понимала слов, но по виду загрустивших офицеров догадалась, что патефонная немка поет про любовь или что-нибудь схожее. Офицеры обнялись, налили еще себе самогона, начали подпевать. Они сняли кители, повесили их на спинки стульев, не стесняясь Зинки и ее матери, справили малую нужду в ведро в углу. Ангел хоть и пил много, но ни на минуту не терял их из виду, всячески услужал, подливая самогон, подкладывал в тарелки куски жирного мяса. Он бегло говорил по-немецки, и офицеры изредка что-нибудь спрашивали у него, другие полицейские для них просто не существовали.
Зинка знала, что на ночлег они остановились в доме старосты, который сидел на кухне и ждал своих «гостей» – за стол его не пригласили.
Наконец офицеры уехали, полицейские стали устраиваться на ночлег.
– Ты где спишь? – спросил Зинку Ангел.
Она указала на дверь в свою комнатенку.
– Туда не заглядывать, – приказал Ангел своим подручным. Он тяжело поднялся со стула, пошатнулся, но на ногах устоял.
– Иди стели.
Зинка метнулась к выходу, но он ее перехватил, больно завернул руку:
– Кому сказал! И все – геть отсюда!
Полицейские поспешно расползлись по углам – кто в хлев, кто устраивался на лавке в кухне.
Вот так все это и случилось. Ангел и его подручные поднялись с солнцем, словно и не колобродили всю ночь, быстро похмелились и уехали к школе, где был у них сборный пункт. Машины с карателями промчались мимо Зинкиной хаты и вскоре над соседним селом поднялись столбы дыма – погода стояла тихая, безветренная, и дым уходил прямо в небо.
Через несколько дней Ангел заехал к Зинке переночевать, потом еще и еще. Приезжал он обычно глухими вечерами и каждый раз что-нибудь ей привозил: то кожушок, то нарядный жакет, то еще иную почти новую одежонку. Мать Зинки сказала ему про корову, и по его приказу староста конфисковал у семьи бывшего колхозного бригадира ладную удойную коровенку, пригнал ее во двор к Зинке.
Только через какое-то время Ангел, крепко выпив, назвал Зинке свое имя – Жора, – но о себе, своем прошлом, как она ни выпытывала, не проронил ни звука.
– Привязался я к тебе, – с сожалением признался как-то Зинке. А потом сказал: – Надоело ездить сюда, да и опасно. Будешь в моей команде за кухарку. Нашего повара партизаны подстрелили. Обвенчаемся, обмоем это дело.
Зинка собралась в мгновение, она давно хотела этого, потому что в селе ей уже было не жить – с нею никто не разговаривал, детишки из кустов кричали ей вслед: «Немецкая овчарка», женщины при встрече с нею переходили на другую сторону улицы.
«Венчание» было шумным, пьяным и с приключениями. Ангел как чувствовал, что вечер этот добром не кончится, все выходил во двор караульных проверять. А когда перепились, подарил одному из своих приятелей, вроде от щедрости, доброты душевной сорочку, китель, фуражку, заставил тут же примерить. Все подошло, развеселились от этого, выпили и снова выпили – приятеля повалило на стол, а Ангел тихо-тихо ушел в комнатку к Зинке, стал ждать. Выстрелы разорвали тишину, потом грохнули гранаты, хата затряслась, полетело битое стекло, и вот уже пробился сквозь дым огонь.
…Уехала Зинка с Ангелом в ту же ночь, и началась Зинкина походно-полицейская жизнь.
Пока Ангел и другие каратели были на акциях, она куховарила, а потом усаживалась у открытого окна и ждала их возвращения.
Команда Ангела все время передвигалась, кочевала из одного района в другой, оставляя после себя пепелища и виселицы. Зинка привыкла к такой жизни, к запаху крови и гари, и если в первые дни, когда видела избитых, изувеченных пытками людей, которых привозили с собой каратели, втихомолку плакала, то потом ожесточилась, застыла в равнодушии к чужой боли.
Вначале Ангел ей не особенно доверял, без присмотра не оставлял. Но она и не помышляла о побеге – куда? Зачем, если кровь, пролитая карателями, пятнала и ее жизнь?
Ангел как-то с восторгом рассказал, что у его приятеля в такой же летучей команде есть зверь-девка, любит из пулемета лично скашивать подлежащих экзекуции – установит пулемет поудобнее, ленту заправит и прошивает сразу десятки людей…
Зинка поняла, куда он клонит, с надрывом, истерично выкрикнула:
– Хватит того, что с тобой сплю! Лезешь в кровать – кровью от тебя несет, как от недорезанного борова! Хочешь, что бы я всю жизнь не отмылась?
Окна в комнате были открыты во двор, там вышагивал полицейский, охранявший заключенных, Зинка вопила так громко, что он с интересом задрал голову, прислушался. Ангел ловко, почти не отводя руку, двинул ее по физиономии, кровь закапала из расквашенного носа.
– Вот и ты в крови теперь, – удовлетворенно произнес Ангел.
Зинка снесла побои безропотно, Ангел больше к этой теме не возвращался. В тот вечер она была особенно заботливой, стянула с сожителя грязные сапоги, поставила к позднему ужину бутылку.
Как ни странно, но этот случай укрепил доверие Ангела к Зинке, он убедился, что податься ей некуда, да и не помышляет она об этом.
Шли дни, Зинка свыклась с мыслью, что она конченая, вокруг нее столько смертей, что, кажется, так будет всегда. И тут внезапно Красная Армия перешла в наступление, и побежали, покатились по разоренной земле гитлеровские части, а вместе с ними бургомистры, старосты, полицейские, каратели, переводчики… Какое-то время Зинка отступала вместе с командой Ангела, пока он ей не сказал:
– Все. Останавливайся, не катись за нами. Прикинься беженкой, пережди. Я тебя найду.
Она ушла из команды на рассвете. Ангел сам провел ее мимо часовых так, чтобы никто и не догадался, куда она подевалась. К восходу солнца Зинка уже вышла на широкий шлях и смешалась с людьми, которые брели неизвестно откуда и куда. Ей повезло – аусвайс, выписанный Ангелом, внушал немецким патрулям доверие. В родное село она не стала возвращаться – знала, что там ее ждет. Остановилась в небольшом местечке, адрес ей дал Ангел, он же и наказал:
– Сиди там и жди меня, я объявлюсь, как только потише станет.
Красная Армия взяла местечко с ходу, фронт быстро передвигался на Запад. Зинка уничтожила аусвайс, по своим настоящим документам устроилась на работу. И стала ждать. Но Ангел не появился в то время, и иногда она думала, а был ли он вообще, Ангел по имени Жора?
Именно этими словами Зинка неизменно заканчивала свой рассказ следователям о том, как ее попутал бес, то есть Ангел, и каким образом она потеряла его.
– Исчез тогда, в военное лихолетье, как сквозь землю провалился. То ли убили, а может, сбежал с фашистами.
Все могло случиться. Следователей во время ареста Зинки в 1947 году нельзя было упрекнуть в отсутствии интереса к Ангелу. Они все, что касалось этого карателя, тщательно отразили в документах. Но Зинка, во-первых, твердо стояла на том, что не знала, кто такой Ангел: ни его фамилия ей неизвестна, ни откуда он, как и где жил до войны. Жора… а мало ли людей с таким именем? Во-вторых, ее рассказ о том, что Ангел не явился в условленное место, подтверждался убедительным фактом: года через полтора после окончания войны она вернулась в родное село, прятаться от властей не стала, была арестована.
И сейчас перед Алексеем Зинка изобразила возмущение:
– Я свое отсидела сполна, что еще от меня хотите? Или так до конца жизни и будете терзать меня?
– Положим, терзали людей ваши дружки, – спокойно сказал Алексей. – Ангелы… Коршуны… И те, кто помогал им.
– Я не помогала!.. – закричала Зинка. – Любую могли заставить пищу готовить!
Она собиралась закатить истерику, взвинчивала себя, ломала до хруста руки.
– Не надо, – осадил ее Алексей. – Вы слишком многое уже видели и через многое прошли, чтобы сейчас давить на психику.
– Ишь ты, молодой, а тертый, – быстро успокаиваясь, удивилась Зинка. – Я все рассказала, шел бы теперь по другим своим делам.
– Не все, – уверенно сказал Алексей. – Вы ничего не сказали о Коршуне. И я не верю, что Ангел навсегда исчез из вашей жизни. Как, кстати, его звали?
– Я же сказала: Жора.
– Фамилия?
– Клянусь, не знаю. Ангел – так его даже немцы именовали. Бывало какой-нибудь из них крикнет: «Ангел, ком цу мир!» – он и бежит.
– Разве вы никогда не пытались заглянуть в его документы? На вас это непохоже.
– Он раз и навсегда пригрозил: полезешь в карманы – пристрелю.
– А теперь расскажите все, что знаете о Коршуне. И не надо придумывать: «в первый раз слышу». Предупреждаю, что есть свидетель, который в любой момент подтвердит, что Коршун вам был хорошо, даже очень хорошо известен.
Зинка отвела взгляд, явно прикидывая, стоит ли выкладывать то, о чем раньше молчала. Но парень оказался настырным и осведомленным, все равно докопается, раз свидетеля отыскал.
…Коршуна она увидела в первый раз, когда готовилась какая-то крупная операция против партизан. Впрочем, она давно уже поняла, что «операции против бандитов», как оккупанты их именовали – это налеты на беззащитные села; ворвутся, людей перестреляют, хаты пожгут… Высокий эсэсовец приехал в команду Ангела на машине с охраной. Они вместе расстелили на столе карту, долго что-то на ней прикидывали. Зинка была в кухне, готовила ужин, стараясь не греметь кастрюлями и сковородками. Эсэсовец от ужина отказался, вскоре уехал, начало темнеть, а немцы не любили ездить поздними вечерами. Ангел был необычайно доволен приездом эсэсовца, сказал даже Зинке: «Коршун – это тебе не пичуга какая. Жди прибавки на погонах». Был Ангел очень честолюбивым, всячески старался выслужиться у фашистов, не раз говорил, что звание гауптмана откроет ему дорогу повыше, в большой город, а то уже устал носиться по селам, пристреливать грязных баб и сопливых ребятишек. Утром команда Ангела снялась с места и перебралась туда, где разместился штаб эсэсовца. Это была старая усадьба, длинные здания для скота и инвентаря образовали замкнутый прямоугольник, внутри которого находился двухэтажный домик, наверное, здесь была контора или что-нибудь в таком роде. В длинных строениях разместились солдаты, во дворе стояли грузовики, мотоциклы, другая техника. В двухэтажном, домике жили офицеры, в подвалах – бетонных, с маленькими окнами-бойницами, укрытыми решетками, – держали схваченных во время акций людей.
Ангела и Зинку тоже поселили в домике.
Отсюда совершали каратели свои набеги на дальние села – ближние все уже были сожжены, выбиты, вырезаны. Зинка часто видела Коршуна: он прохаживался перед строем солдат, готовых к выезду на акцию-разбой, уезжал куда-то на своей легковушке в сопровождении мотоциклистов, возвращался после налетов. Эсэсовец равнодушно, свысока проходил мимо тех, кто попадался ему на пути от машины к порогу. Иногда позволял себе странное развлечение. Кому-нибудь из новеньких в подвале создавали такие условия, что, казалось, возможен побег. Дверь «забывали» закрыть на замок или поднимали решетку на окне – вроде бы проветрить бетонные каморки. Коршун усаживался у чуть приоткрытого окна своей комнаты на втором этаже, клал снайперскую винтовку на подоконник. Большой двор пустел, солдаты разбрелись по своим сараям-казармам. Узник, обманутый тишиной, выбирался из камеры. У него на волю был только один путь – перемахнуть через ворота, сваренные из железных прутьев. И когда он с разбега хватался за эти прутья, звучал выстрел. Один-единственный… Зинка несколько раз наблюдала эту «забаву» эсэсовца, промаха тот не сделал ни одного. Появлялись солдаты, волокли убитого к грузовику, дно кузова было устлано брезентом – аккуратный водитель смывал потом кровь струей воды… «Стрельба по движущимся целям», – так называл все это Коршун, а Ангел мечтал достичь такого же совершенства и точности.