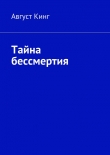Текст книги "Последний полет «Ангела»"
Автор книги: Лев Корнешов
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 22 страниц)
Гости Алевтины Васильевны переместились к роялю. Очевидно, музицирование тоже входило в программу таких вечеров. Хозяйка дома подошла к Алексею и Гере.
– Ах, молодость! Теперь я понимаю, почему Герочка от вас без ума.
– Она мне никогда этого не говорила, – сдержанно ответил Алексей. Он не знал, как держать себя с этой дамой.
– Еще скажет, не сомневайтесь. Материнское сердце не проведешь. Не правда ли, Герочка у нас – сплошное очарование?
Гера фыркнула, злая гримаска скользнула по лицу и исчезла, растворилась в безразличной улыбочке:
– У нас всегда предпочитают знать реальную стоимость.
– Злюка, – сделав вид, что не обиделась, кокетливо проворковала Алевтина Васильевна. – Тебе не идет, милочка, хамство.
Ого, отметил Алексей, мадам может за себя постоять, ишь какой блеск в глазах!
– Скажи еще, что мамочка желает счастья и добра, – не унималась Гера.
– Разве ты в этом сомневаешься? Мы для тебя ничего не пожалеем, – Алевтина Васильевна почти вплотную придвинулась к Алексею. Можно было не сомневаться, что говорит она это искренне и действительно ничего не пожалеет для своей дочери из того изобилия, которым окружила себя. – Прошу тебя только, не груби Тэдди, не надо всем портить такой приятный вечер.
Зазвучала музыка, и Алексей с удивлением отметил, что за роялем – незаурядный музыкант. «Кто это?» – спросил Алевтину Васильевну. Она назвала известную в кругах любителей музыки фамилию, объяснила, что маэстро в городе на гастролях, но вот выбрал свободный от концертов вечер, откликнулся на приглашение.
Алевтина Васильевна явно гордилась своим «салоном» и желала, чтобы Алексей тоже заметил, как у нее мило, уютно и какие интересные люди здесь собираются. Выглядела она молодо, и даже косметика не старила ее, наоборот, умело подчеркивала серые глаза, матовый цвет лица, длинные ресницы, которыми она мило «хлопала». Вот только голос… Мягкий, доверительный, он время от времени выходил из повиновения, и тогда слова хозяйки дома звучали жестко, гортанно – так иногда переругиваются с покупательницами рыночные торговки. Это было чисто профессиональное – Алевтине Васильевне постоянно приходилось вышибать «дефицит» для своего универмага, укрощать строптивых продавцов и не в меру привередливых покупательниц.
– Вам нравится у нас? – не удержалась и спросила она Алексея.
– Не знаю еще, – стараясь, чтобы ответ не прозвучал резко, сказал Алексей. – Столько впечатлений…
Это уже позже придут мысли о том, на какие средства можно приобрести дорогие ковры, резную мебель, оригинальные картины в массивных рамах из красного дерева. А пока его подавляло обилие вещей, словно бы выставленных для обозрения. Он не мог сказать, со вкусом они подобраны или так, по случаю, не было у него житейского опыта общения с обитателями таких вот, похожих на антикварные магазины, квартир. Майор Устиян, наверное, серьезно бы сказал: и хорошо, что у вас нет такого опыта, лейтенант.
– Ну что это я к вам прицепилась? – Алевтина Васильевна вспомнила о своих обязанностях хозяйки. – Побегу дальше. Вам, наверное, лучше будет вдвоем. Воркуйте, пожалуйста.
Пока они разговаривали, отец Геры, Станислав Валентинович, накинул плащ и ушел, тихо прикрыв дверь.
– Он часто так, – безразлично сказала Гера. – Нет, чтобы уйти совсем. Я думаю: произойдет это когда-нибудь? Решится? Понимаешь, он действительно очень талантливый человек, и душно ему здесь, в этом мире, тяжело. Мама знает, что у него есть женщина, к ней он и уходит, когда невмоготу.
– Как же так? – изумился Алексей. – Да разве такое возможно?
– А тебе подавай прямую линию жизни? – печально спросила Гера. – Если друг – так настоящий, если семья – так незыблемая ячейка общества? В жизни не всегда так, как на плакатах.
– Не так у тех, кто не очень этого хочет, – Алексей сказал, но сам был не очень уверен, что это на сто процентов верно.
– Мне жаль папу, – тихо сказала Гера. – Больные на него молятся, ты знаешь, что только они не предпринимают для того, чтобы оперировал именно он! Когда в клинику приходит профессор Синеокий, там даже климат другим становится. «Профессор сказал…», «Разве вы не слышали, профессор просил…» А дома он вдруг сникает, становится безразличным, отстраняется от всего. Я видела, ты заметил пустые бутылки в кладовке на даче. Заметил ведь?
– Заметил, – признался Алексей.
– Это мама, Тэдди и их приятели развлекались. Ты думаешь, почему я так хотела, чтобы именно сегодня ты у нас побывал?
– В самом деле, почему?
– У меня с мамашей состоялся крупный разговор, в результате которого я запретила ей и ее друзьям появляться на моей даче, – слово «моей» Гера выделила резко, отрывисто.
– Как ты объяснила свой запрет? – поинтересовался Алексей.
Гера временами поражала его неожиданными своими решениями и твердостью, с которой добивалась их осуществления. Бывают же такие внешне «неприспособленные» к жизни девицы, оказывающиеся посильнее иных мужиков.
– Пока, до покупки кооперативной квартиры, жить там будем мы с тобой, – ответила хладнокровно Гера.
Алексей от изумления потерял дар речи.
– Ну что же ты молчишь, словно новость эта застряла у тебя в горле? – как ни в чем не бывало, обычным своим ироническим тоном поинтересовалась Гера.
– Может, ты сообщишь и то, когда мы поженимся? – Алексей попытался все обернуть в шутку, впрочем, ничего другого ему и не оставалось делать.
– Когда ты этого захочешь, – просто ответила Гера. – И не волнуйся, я тебя торопить не буду. – Она добавила рассудительно: – Я собираюсь выходить замуж на всю жизнь, а не на срок. Кажется, так называют количество лет, определенное судом.
– Герочка, ну что ты несешь, – взмолился Алексей. Ему казалось, что Гера разыгрывает сценку из сочиненного ею спектакля.
– Хорошо, оставим пока эту тему, – сжалилась Гера над Алексеем. – Хочу, только сказать еще: не сомневайся, я буду верной и хорошей женой. Все. Точка. Приема нет.
Они стояли у невысокого столика с закусками, к ним не подходили, может быть, не хотели мешать беседе или просто здесь каждый был занят собой, своими партнерами по этой гостиной, где было душновато, хотя и очень просторно. Алексей рад был этому, он не представлял, о чем говорить с людьми, ему совершенно незнакомыми. Он вспомнил поездку за рубеж, там тоже порою возникало такое чувство, когда их приглашали на вечер в какое-нибудь «общество», где интерес к ним был праздный, неискренний, так, дань моде на экзотику. Алексей одернул себя: конечно же, он не прав, здесь собрались разные люди, кто-то пришел случайно, как он сам, других заманили заезжей знаменитостью-музыкантом, а третьи…
– Видишь вон ту девицу? – Гера еле приметно указала на девушку, непринужденно устроившуюся с фужером шампанского в мягком угловатом кресле под торшером. – Ей девятнадцать, ее мужу – шестьдесят, она занята только собой – массажистка, косметички, портнихи, – он руководит районной плодоовощной базой… На сколько рубликов сгниет на базе капуста, на такую сумму и бриллиантик засверкает у прелестной Эльвирочки…
– Как просто! – неподдельно изумился Алексей.
– А зачем усложнять? Вот если бы я выпрыгнула замуж за Теодора – тоже засверкала бы драгоценным светом.
Она зябко передернула плечиками. Алексей в растерянности молчал.
К ним через гостиную, ловко лавируя среди гостей, приближался Теодор Петрович. Он нес поднос с тремя фужерами и бутылкой шампанского.
– Предлагаю испробовать этот нектар за нашу будущую дружбу! – провозгласил Теодор Петрович.
Гера бросила на него равнодушный взгляд.
– Что ты имеешь в виду, Тэдди?
– Так, вообще… – у Теодора Петровича были лучезарная улыбка и такое же настроение.
Гера чуть приметно завелась, она вызывающе сообщила:
– Алексей – член общества трезвости.
– В самом деле? – восхитился Теодор Петрович. – Как интересно! Вас заставили? – невинным голосом спросил он Алексея.
Гера не дала Алексею ответить:
– И кроме того, Тэдди, по-моему, ты не до конца усвоил, что Алеша мой жених. Это означает, что за тебя я замуж не выйду, по субботам не буду летать с тобой в Сочи или на Рижское взморье. Но самую важную информацию ты, наверное, уже выделил: людям той профессии, которая у Алеши, лучше не рассматривать тебя с близкого расстояния.
– Гера, не груби, пожалуйста, – неловко сказал Алексей.
К удивлению Алексея, Теодор Петрович отреагировал на этот ее выпад совершенно спокойно, даже благодушно.
– Я подожду, – проговорил он, – пока ветер не переменится и не наполнит паруса моей судьбы. А почему вы не в форме? – спокойненько спросил Теодор Петрович. – Вам мундир, очевидно, к лицу… Или вы его надеваете, когда приходите за такими, как я?
Он явно рассчитывался с Герой за язвительный намек.
Алексей не владел искусством интеллигентного хамства, он лишь удивился той желчи, которая почувствовалась в словах Теодора Петровича.
– Хозяйственными преступлениями, хищениями и другими подобными делами занимаются сотрудники из БХСС, – растягивая слова от возмущения, ответил он.
Получилось прямолинейно, но ведь он сам напросился, этот Тэдди, Теодор Петрович.
– Будем надеяться, что это меня никогда не коснется, – серьезно сказал Теодор Петрович. – Если вообще произойдет… Не сверлите меня взглядом, молодой человек, это была всего лишь шутка. Перед законом мы с Алевтиной Васильевной чисты, хоть под микроскоп. К вашему сведению, наш универмаг уже пятый год удерживает переходящее Красное знамя.
«Мы с Алевтиной Васильевной…» – подчеркнул Теодор Петрович, явно намекая, что в интересах Алексея впредь беречь репутацию будущей тещи.
– Не сомневаюсь в ваших производственных успехах, – заставил себя любезным тоном ответить Алексей.
– Пойдем ко мне, – предложила Гера. – Что-то голова разболелась. – Не ожидая согласия, она резко повернулась и пошла по длинному коридору, в самом конце которого находилась ее комната. На удивление, она обставлена была скромно: диван-кровать, письменный стол, шкафы для книг и одежды, гитара на стене.
– Моя обитель. Располагайся, я сейчас принесу сюда кофе.
Алексей осмотрелся. На книжных полках томики воспоминаний современников и известных писателей прошлого соседствовали со стихами Ахматовой, Цветаевой, Ахмадулиной, Друниной, с романами Бондарева, Окуджавы, Хемингуэя, Ремарка, Фолкнера. Одна стена задрапирована была черным бархатом, и на его фоне резко выделялась прекрасная копия иконы «Спас Нерукотворный» – запавшие глаза Христа, казалось, предупреждали о бренности и скоротечности бытия.
– Вот так я и живу, – Гера взглянула на Алексея, словно бы упрашивая не судить ее слишком строго.
– Грешишь и каешься? – попытался он пошутить.
– Грешат другие. А я… маюсь и каюсь.
– Слушай, Гера, давай поговорим начистоту, откровенно, как товарищ с товарищем…
– Как брат с сестрой, – продолжала насмешливо Гера, – и еще как давние друзья, сотоварищи по общему делу.
– Ладно тебе, – не принял ее тона Алексей. – Лучше скажи, зачем все эти штучки – выдавать меня за своего жениха, дразнить мамашу и этого делового Тэдди, всерьез разыгрывать сценки из житейской драмы под названием «Женитьба»?
Гера быстро взглянула на Алексея, провела ладонью по глазам, словно отстраняя что-то, видимое ей одной, ответила:
– Ничего-то ты не понял. Я и в самом деле хочу за тебя замуж, сыщик.
– Опять двадцать пять! – в сердцах воскликнул Алексей. – Есть вещи, которыми не шутят. Ты бы меня хоть спросила, хочу я на тебе жениться или нет.
– Зачем спрашивать, если ты сам на каждом шагу буквально стонешь: «Не хочу!» Но решающего значения, как говорят в докладах, это не имеет, – сказала она странным, тихим голосом и замерла, ожидая, что ответит Алексей.
– Вот как? Плясали – веселились, пришло время – прослезились?
– Ладно, не волнуйся, – все тем же странным своим тоном продолжала Гера, – силой я тебя за себя не потащу. Придет время – сам в мужья мне запросишься. Пей кофе, будущий супруг, стынет ведь.
Она подошла к окну, отодвинула тяжелую штору. Было уже поздно, улица пустынно притихла под бледным светом фонарей.
– Иногда я надеюсь: вот отец уйдет к той, без которой не может, и не возвратится больше домой. И тогда уйду я.
– Ты так не любишь свою мать?
– Люблю – не люблю. Не те слова. Больно мне очень вот здесь, – она указала на сердце.
Гера сняла со стены гитару, тронула струны:
Неприкаянные девочки,
Обезволенные мальчики,
Что вас гонит по России
Из конца ее в конец?
Может быть, дожди слепые,
Может быть, мечты пустые?
Или ветер из растаявших надежд?
Неприкаянные девочки
И стареющие мальчики…
Гера пела с той долей грустинки, которую предполагали слова о неприкаянных девочках и обезволенных мальчиках. Вдруг она резко провела по струнам, оборвав мелодию.
– Слова и музыка мои! – объявила, бесшабашно тряхнув головой. И тут же сникла, завяла; – Вот как все сложилось. Очень хочется, чтобы было все по правде, а не получается, не выпадает розовый цвет…
Не впервые Гера заводила с Алексеем разговор на эти темы и, видно, на сегодняшний вечер возлагала какие-то свои надежды. И он решил, что самым верным тоном будет, пожалуй, сейчас строгий, даже резкий.
– Гера, осторожнее, пожалуйста, с выводами! Ведь я вынужден буду отнестись ко всему, что ты говоришь, серьезно. Иными словами, я завтра же должен встретиться с людьми, которые занимаются подобными проблемами, и сказать примерно следующее: «Мне стало известно, что в нашем центральном универмаге орудует группа расхитителей, есть основания предполагать, что там совершаются темные махинации». И, сославшись на то, что сведения получены от тебя, закончить так: «Считаю необходимым проверить».
– И ты это сделаешь? – растерялась Гера, она вдруг поняла, что перед нею не просто друг – Алеша, а человек, поступки которого определены строгими и непреклонными правилами, нравственными принципами.
Алексей ничего ей не ответил, он не знал, что ей ответить, девушке, которая совсем запуталась в том, что требует ясности. Если все, что Гера говорит или предполагает, – правда, тогда ей надо… Жить в грязи и оставаться чистеньким еще никому не удавалось. А он-то сам как выглядит? Выслушивает ее, рассуждает, сочувствует – на большее не способен, оказывается.
– Значит, ты в состоянии подвести под… – она не нашла нужного слова, – мать твоей… девушки? – Сказать «невесты» Гера не решилась, было уже не до двусмысленностей, не до игры в жениха-невесту, которую она же и затеяла. Она почти крикнула: – Отвечай же!
– Не надо так со мной! – Алексей не мог больше сдерживать раздражение, смутную тревогу, неуверенность. – Ты что, хочешь, чтобы я за тебя все решил?
Гера очень тихо, робко ответила одним словом:
– Хочу…
ЧТО СИЛЬНЕЕ НЕНАВИСТИ
«А теперь позволь с тобою попрощаться, мой дорогой друг Алекс, до следующего письма. Будут новости – обязательно сразу сообщу», —
так закончил очередное свое послание Ганс.
Конверт был в изобилии заклеен иностранными марками, испещрен квадратами и кружочками почтовых штемпелей. Письмо Ганса Каплера занимало десяток страниц машинописного текста. Алексей достал с полки немецко-русский словарь и принялся за точный его перевод. Был поздний вечер, мама давно легла спать, зеленая настольная лампа бросала ровный круг света на листки с чужими строчками, повествующими о событиях разных и странных. Ганс обстоятельно описывал свои поиски Ирмы Раабе, педантично перечислял все шаги, которые ему пришлось предпринять, всех людей, с которыми встречался и беседовал. Он проделал огромную работу. И вот что Гансу удалось выяснить.
В 1945 году Ирма Раабе и ее мать внезапно покинули свой коттедж в берлинском предместье и переселились в американскую зону, в небольшую деревушку под Мюнхеном. Приютили их дальние родственники матери, владевшие здесь небольшим поместьем. Жили скромно, их помнят местные жители, но какой-то весьма неопределенной памятью: да, были такие мать и дочь, но чем занимались, с чего существовали – неизвестно. Дочь много гуляла по окрестным лесам. Ее часто видели на берегу узенькой речки. Тогда в окрестных деревнях было много беженцев из городов, нашедших здесь приют, мать и дочь ничем не выделялись среди тех, кто пережидал лихолетье в сельской глуши.
Они прожили у родственников год с небольшим. Соседи вспомнили, что за ними приехали на грузовике двое мужчин, быстро погрузили вещи. Заминка произошла только из-за того, что не могли сразу отыскать девушку. Ирму обнаружили на берегу речки, и было такое впечатление, что ее ведут к машине чуть ли не силой.
Далее следы семьи Раабе отыскались в Мюнхене. Здесь фрау Раабе и ее дочь снимали вначале маленькую квартирку и жили так же уединенно, как и в деревне, избегая общества, знакомств. В этом тоже ничего странного не было – в те годы многие старались так жить: военный ураган отбушевал свое, но его порывы все еще проносились по земле, иногда захватывая в орбиты своего вращения людей, выворачивая наизнанку то прошлое, которое многие из них предпочитали бы забыть. Американская оккупационная администрация делала вид, что усиленно разыскивает беглых нацистских военных преступников, иные из них действительно представали перед судом, в большинстве случаев получая наказание, далеко не равнозначное злодеяниям, которые были на их совести. Поэтому некоторые из беглых нацистов предпочитали легализоваться: незначительное наказание можно и пережить ради спокойной безмятежной жизни в будущем.
Объявился и полковник Раабе. Его даже не судили, не нашлось свидетелей, не оказалось документов о его преступлениях, все изображалось так, что он был только одним из многих офицеров, выполнявших на Восточном фронте свой солдатский долг и приказы фюрера, который, конечно же, один виновен в трагедии Германии.
Полковник вначале вел себя очень тихо, гулял по вечерам с супругой, опираясь на трость, залечивал, по его словам, раны.
Но жить очень уж обособленно им не удавалось – рядом были соседи, время от времени объявлялись знакомые, восстанавливались старые и появились новые связи.
Один из бывших соседей этой семьи, нынче почтенный пенсионер, которого разыскал дотошный Ганс, рассказал, что у людей, как-то соприкасавшихся с семьей Раабе, вызывало удивление странное поведение дочери Ирмы. Она жила практически под замком, ее никогда не видели на прогулках одну – только в сопровождении бывшего денщика полковника, и когда в дом приходили гости, что случалось редко, Ирма оставалась в своей комнате.
Любопытствующий сосед однажды подслушал грандиозный скандал в семье Раабе: Ирма требовала, чтобы ее отпустили в Восточную зону, где, как кричала девушка, она оставила все – жизнь, счастье, любовь. Она грозила, что если не отпустят по-доброму, у нее останется только один выход – бежать.
Девушка и в самом деле пыталась убежать, ее перехватили на вокзале, возвратили домой с полицией.
Полковник Раабе – это слышали многие – такое поведение дочери объяснял тем, что она тяжело больна – результат надругательства, якобы учиненного над нею русскими солдатами в апреле 1945 года. Ирму и в самом деле вскоре отправили в горы, в лечебницу, где она провела в уединении несколько лет.
За это время дела бывшего полковника резко пошли в гору, он стал совладельцем крупной строительной фирмы, перебрался из скромной квартирки в просторную виллу, расположенную в аристократическом предместье Мюнхена. Поговаривали втихомолку, что «восточное» золото имеет ту же цену, что и западное, иными словами, полковник бежал из России не с пустыми чемоданами. Но за это его не порицали, о прошлом больше не вспоминали – зачем тревожить то, что давно миновало, – полковник ведь и сам попал в число пострадавших: был ранен, тяжело больна дочь…
Раабе хорошо помнят именно в те времена еще и потому, что он один из немногих не снял свои кресты – говорил, что никогда не будет стыдиться наград, одну из которых ему вручил лично фюрер. И еще он приветствовал своих старых знакомых нацистским взмахом руки и тихим «хайль». Когда, конечно, считал, что это не привлечет внимание окружающих.
Словом, все, с кем Гансу удалось переговорить, утверждали, что полковник Раабе ничего не забыл, остался верен идеалам «третьего рейха». Один из друзей полковника, которому Ганс представился в качестве сына его фронтового друга, тоже убежденный нацист, с восторгом воскликнул:
– Не представляете вы, каким примером служил всем нам в самые тяжкие времена этот удивительный человек! Мы его звали: «Ворон – верное сердце!»
Алексей прервал перевод письма, еще раз перечитал последнюю строчку: «Ворон – верное сердце». Да-да, конечно: Раабе – в переводе Ворон. Однако в Адабашах свирепствовала другая хищная птица – Коршун.
…Вот идут Адабаши по луговой дороге, впереди противотанковый ров бугрится выброшенной глиной, неподалеку от него пригорок, на пригорке стоит эсэсовец Коршун в окружении других палачей. Скоро принесут Коршуну снайперскую винтовку, он бережно проведет по стволу белоснежным платочком… Потом по лугу побегут мальчишки, надеясь на чудо, и начнется стрельба по движущимся целям, по живым мишеням.
Из лечебницы Ирма возвратилась через несколько лет. Бывший полковник выдал ее замуж за молодого, но весьма популярного в те годы адвоката. Злые языки утверждали, что солидный пакет акций и других ценных бумаг в качестве приданого преодолели сомнения адвоката, связанные со здоровьем и психическим состоянием его будущей супруги. С момента замужества Ирма была окончательно заточена в стенах виллы, которую охраняли ветераны-эсэсовцы – к таким людям Раабе питал слабость, всячески поддерживал и подкармливал их. Адвокат специализировался на защите бывших военных преступников (процессы тянулись годами, их даже называли «бесконечными»). Шумную известность и деньги плюс к приданому Ирмы ему принесла защита группы подпольных торговцев наркотиками, когда за решетку упрятали мелкую преступную сошку, а главарей оправдали за «недоказанностью состава преступления».
Ганс писал, что ему удалось познакомиться с материалами этого судебного процесса. Конечно же, и адвокат и судьи сделали все возможное, чтобы выдать черное за белое. Еще он скрупулезно проверил с помощью своих друзей утверждение бывшего эсэсовца Раабе о якобы имевшем место надругательстве над его дочерью, а также, что у нее была за болезнь. Выяснились любопытные подробности. В лечебнице Ирма близко подружилась с некоей Мартой Хазе. Марта излечилась, дожила до преклонных лет, и сейчас еще чувствует себя, вполне сносно. Гансу удалось с нею повидаться. Торт и цветы она приняла благосклонно и за чашкой чая пересказала многое из того, что узнала от Ирмы. По ее словам, Ирма ничем не болела, ее здоровью можно было позавидовать. И никто никаких надругательств над нею не совершал, более того, советское командование специальным документом вынесло ей благодарность за участие в спасении своего офицера. Вся ее беда состояла в том, что она страстно любила этого офицера и несла это свое чувство как тяжкий крест. Офицер ее тоже любил, но после того, как был отправлен на лечение в свою страну, связь между ними внезапно оборвалась.
Далее Ганс цитировал в своем письме разговор Марты с Ирмой, который ей хорошо запомнился:
Марта:Может быть, его заставили прекратить с тобою всякие отношения? Он – русский, ты – немка, дочь полковника, ведь он знал, что ты дочь эсэсовского полковника?
Ирма:Конечно, он видел в ту ночь фотографию отца.
Марта:Ты – дочь эсэсовца, у них очень суровые представления о такого рода привязанностях.
Ирма:Никто не смог бы его заставить. Ты не представляешь, какой это был удивительный человек, мужественный, цельный, как кремень. Я именно тогда, когда узнала его, поняла, почему они победили…
Марта:Почему же?
Ирма:Если все русские такие, как он, то согнуть, уничтожить, поработить их народ невозможно.
Марта:Ты его идеализируешь.
Ирма:Возможно, но для этого есть основания.
Марта:И все-таки он исчез, растворился, затерялся, называй это как угодно – только ничего от этого не меняется.
Ирма:Однажды ночью, в конце августа, я проснулась внезапно от того, что мне показалось, будто он входит в мою комнату. Я даже сказала ему: «Здравствуй, любимый, наконец-то ты пришел!» А он мне ответил: «Прощай, Ирма, я не пришел, я ухожу навсегда». Я вскочила, бросилась к нему, но словно бы промчалась сквозь лунный свет, нигде никого не было… Вот тогда я впервые поверила, что никогда больше его не увижу, что он погиб.
Марта:Ты ему писала?
Ирма:Он прислал всего два письма. Сообщил адрес своей сестры. И по этому адресу я пробовала писать, но письма мои улетали в неизвестность, как уносит пожелтевшие осенние листья свирепый ветер. А может, они и не улетали, а исчезали, попав в почтовый ящик? Я и потом ждала его, бесконечно долго ждала, каждый день и каждый час. И уезжать из Берлина не хотела именно поэтому: вдруг он приедет и не сможет меня найти. Я даже узнала, что было несколько случаев, когда советским офицерам их командование разрешило жениться на немецких девушках. А я ведь его спасла! И я представляла, как иду к самому главному советскому генералу и падаю перед ним на колени. Но мой любимый исчез.
Марта:Тебе надо было ждать в Берлине.
Ирма:Конечно. Но меня обманули, сказали, что под Мюнхеном у надежных людей находится отец, он тяжело ранен, умирает и хочет с нами попрощаться. Мы с мамой собрались в один час, за нами приехал бывший денщик отца, мы его хорошо знали, поэтому поверили. А на самом деле отец, которого осведомили, что я «продалась» русским, выманил меня туда, где мог творить со мною все, что хотел. Он отправил меня в эту лечебницу, а ты знаешь, что здесь и стены, и охрана покрепче тюремных!
Марта:Да, отсюда не убежишь.
Тем не менее, писал Ганс, Ирма дважды пыталась бежать из «лечебницы», но ее перехватывали еще на пути к автостраде, пролегавшей километрах в десяти, и водворяли обратно, каждый раз ограничивая прогулки, лишая на длительные сроки права выхода за ограду.
Ганс, конечно, поинтересовался и тем, как случилось, что Ирма дала согласие выйти замуж за адвоката. Марта рассказала, что старый эсэсовец поставил перед дочерью условие: или она станет женой того, на кого он укажет, или до конца дней своих останется за высокой железной оградой «лечебницы». В это время группа бывших нацистов из пропагандистского аппарата Геббельса собирала «материалы» для грязной провокационной брошюрки: в ней перечислялись женщины, якобы изнасилованные «оккупантами» в сорок пятом. Старый Раабе пригрозил Ирме, что передаст сведения о ней и ее русском офицере издателям этой брошюрки. И Ирма уступила шантажу. Тем более что прошло уже столько лет…
После замужества Ирма уединенно жила на вилле в предместье Мюнхена, воспитывала дочь. Навещать Марте свою подругу не разрешили. Через несколько лет Ирма скончалась.
Теперь я приступаю к поискам дочери Ирмы фон Раабе, писал Ганс. В заключение он передавал всяческие приветы, обещал вместе со своими друзьями – «у нас тут образовался целый кружок под девизом «За любовь Ирмы Раабе» – довести дело до конца, пройти теперь уже по нынешним следам этой давней истории. Он найдет дочь Ирмы, если она жива, и передаст ей копии писем, написанных ее матерью. Пусть она знает, как все было на самом деле, и не считает свою мать сумасшедшей, как хотелось бы треклятому эсэсовцу Раабе. Ганс не сомневался, что Алексей не будет возражать.
«Я думаю, – писал он, – что мы имеем моральное право это сделать. Сейчас, через десятилетия, эти удивительные письма из прошлого потеряли характер личной переписки, они стали свидетельством того, что благородство, любовь, честность сильнее ненависти, они не сгорают даже в огне войны».
Ганс обещал, что и впредь будет относиться к письмам Ирмы очень бережно. Если удастся ее разыскать, дочь Ирмы будет решать, в какой степени возможно их обнародовать как романтические документы тяжелого времени.
«Продолжаю искать следы Коршуна, – сообщал Ганс. – Таких стервятников нельзя оставлять на свободе».
Еще он не без юмора написал, что его послание получилось таким длинным из-за того, что у него сейчас много свободного времени, он «залечивает боевые раны» после молодежной демонстрации протеста против американских военных баз на территории его страны.
«В демонстрации нашей участвовали девчонки и парни из разных молодежных организаций, с разными идейными взглядами и убеждениями. Шли вместе студенты, рабочие, служащие. И мы все требовали только одного – пусть уберут с нашей земли эти базы и арсеналы с оружием. Знаешь, не очень приятно чувствовать себя сидящим на ядерном погребе, ключи от которого, к тому же, в чужих руках. Мы соблюдали порядок, но на одном из перекрестков на нас набросились эти бандиты – молодые неонацисты… Они пустили в ход кастеты, ломики, велосипедные цепи».
Ганс подробно описал эту разбойничью вылазку, в результате которой несколько демонстрантов было искалечено. Полиция, как всегда, наблюдала за побоищем со стороны.
– Вообще-то провокация была задумана масштабно: наши ребята прихватили неонацистов в тот момент, когда они закладывали в урну для мусора взрывчатку.
Среди террористов, схваченных, как выразился Ганс, «за коричневые лапы», была…
«Ты ни за что не догадаешься, кто пытался подсунуть нам пластиковую взрывчатку, – писал Ганс. – Оторвись от письма и подумай…»
Заинтригованный Алексей отложил листки бумаги в сторону, прикинул, кто бы это мог быть. Он догадался! Взял снова письмо и проверил себя: да, конечно, – это предводительница молодчиков, затеявших свару на парижской улице…
То, о чем писал Ганс, к сожалению, не было редкостью. Каждый день становились известными общественности новые вылазки неонацистов.