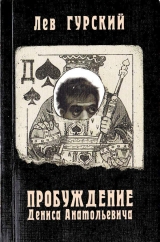
Текст книги "Пробуждение Дениса Анатольевича"
Автор книги: Лев Гурский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 14 страниц)
14.00–15.30
Встреча с представителями российских общественных организаций и движений
– А эти организации, они у нас, к примеру, какие? – спросил я у Вовы-интеллигента по дороге на встречу с общественностью. Расторопного парня я оценил и взял с собой, авось пригодится. – Чем они, в принципе, занимаются, сколько их, ну и вообще?..
Дистанцию от Сената до БКД легко преодолеть по кремлевскому двору, путь займет несколько минут. Однако ходить по поверхности – не царское занятие. Весь комплекс зданий издавна связан подземными vip-коммуникациями, по которым можно передвигаться на электрокарах. В сопровождении охраны я спустился под землю на спецлифте, прямо из Екатерининского зала, но выбрал неторопливый пеший вариант движения: лучше слегка припоздать, зато прийти подготовленным. С сюрпризами сегодня и так перебор.
– Они разные, Денис Анатольевич, по численности, по составу, по интересам, – без подготовки зачастил умный Вова. – Полный спектр, буквально сто цветов, то есть организаций, конечно, у нас на два порядка больше. От обществ глухонемых до официальных фанатов «Спартака» и Кристины Орбакайте, и список все время пополняется. Всего их по стране зарегистрировано свыше двадцати двух тысяч. Если быть точным, двадцать две тысячи сто три.
– Двадцать две тысячи? – вздрогнул я. – Круто. Для них нужен не зал в Кремле, а целый стадион в Лужниках. И как общаться с эдакой тучей народа? Проще, наверное, сразу выпустить Кристину – пусть споет им пару песенок, что ли… Хотя футбольные фанаты могут, наверное, на это обидеться, да и глухонемые тоже. Или нет, глухонемые, пожалуй, могут и не обидеться… Черт возьми, а как мы раньше-то с этой оравой справлялись, не напомнишь мне?
Тактично не удивившись моему вопросу, Вова мигом разъяснил:
– Все учтено, Денис Анатольевич. В администрации целый отдел три месяца только этим занимался. Сначала отсекли явную клинику и тиффози, чтобы все конструктивно, без экстремизма… ну проще говоря, чтоб особо не свистели и плевались умеренно. Потом ввели принцип ротации: сегодня одни, через полгода другие, в порядке очереди. Плюс к тому, естественно, фейс-контроль и одо-контроль, чтоб уж самые волосатые и особо вонючие как-то не просочились… В общем, насчет численности не волнуйтесь: в Александровском зале присутствует одномоментно не более полусотни голов.
– Пятьдесят – это еще терпимо, – успокоился я. – Такое стадо даже мне под силу переорать. Только уточни мне, голубчик, я что-то ненароком запамятовал: как часто их собирают в Кремле?
– Периодичность этих встреч установлена опытным путем, – с готовностью отозвался Вова. – Методом, так сказать, проб и ошибок. Как выяснилось, самое оптимальное – раз в месяц. Если звать их реже – могут обозлиться, что нежелательно, а если чаще – возомнят о себе, что тоже нехорошо. Да и денег на них жалко, честно говоря. С тех пор, как вы распустили Общественную палату, справедливо назвав их дармоедами, мы стараемся минимизировать расходы. Режим экономии – он для всех. И придуманная вами, Денис Анатольевич, остроумная система распределения грантов уже позволила вчетверо сократить ежемесячные выплаты…
Значит, Общественная палата накрылась, про себя отметил я. Хм! Новость интересная, хотя не слишком приятная. В трезвом виде я бы вряд ли стал отправлять на помойку парламент-light. Наоборот, я бы почаще оказывал знаки внимания этому клоунскому сборищу на Миусской площади – пусть депутаты Большого Хурала на Охотном ряду лишний раз поревнуют, понервничают, ничего, полезно…
Как бы то ни было, реанимировать ОПу я не стану: померла так померла. Гораздо важнее потихоньку выяснить, какую еще систему с грантами я успел выдумать? Экономия экономией, но слово «остроумная», услышанное мной сейчас, настораживало. Мое подсознание – мой крест и моя «пятая колонна». Каким законам оно подчиняется, какие фортели способно выкинуть – это загадка; сам доктор Фрейд обрыдал бы свою бороду и признал тут фиаско.
На мой конкретный мысленный запрос колодец памяти ответил глухим молчанием. Ни единого всплеска. Вновь добывать сведения на стороне, то бишь выспрашивать у Вовы-очкарика, мне пока не хотелось. Все Вовы должны знать дистанцию и помнить, кто они и кто я. Слишком часто показывать обслуге свою зависимость от нее опасно: так можно всю властную харизму за день растерять.
Ладно, решил я, сориентируюсь по ходу дела, не привыкать. К тому же, как я ни старался замедлить шаг, мы все равно дошли до места и чуть не уперлись в металлическую панель с оранжевой надписью, обведенной каймой черно-желтого цвета: «Внимание! Начинается сектор БКД, зоны А-1, А-2, Г и Е». Надпись охраняли два немигающих Вовы в штатском – оба, судя по выправке, манекены.
Это был путь наверх. Панель, казавшаяся непроницаемой, легко разъехалась на две половинки, и мы снова перешли в кабину очередного спецлифта. Мигнул свет, нас мягко тряхануло: кабина набрала скорость, чтобы тотчас же сбросить ее до нуля. Створки опять раздвинулись. Три шага вправо, три ступеньки вверх – и я входил в высокий зал, отделанный розовым искусственным мрамором.
Вдоль стен тянулись колонны. Снизу доверху они были испещрены золотыми ребристыми нашлепками и оттого походили на валики гигантских музыкальных шкатулок. Две трети полезной площади зала отводилось громадному столу в форме бублика, покрытому трехцветной, с явным намеком на триколор, бархатной скатертью.
В самом центре бублика я заметил непонятную конструкцию под бесформенным красным полотнищем. Чей-то бюст? Глобус? Беличье колесо? Из-за драпировки не разберешь. От краев полотнища уходили вверх, куда-то под самый купол зала, тонкие металлические тросы – ну вылитые цирковые лонжи. Сходство с цирком усиливала пурпурно-серебристая обивка кресел, которые были расставлены по внешнему периметру бублика.
На креслах дожидались меня сами господа общественники – и впрямь не более полусотни человек.
Завидев любимого президента, они вежливо приподняли свои тяжкие задницы над сиденьями, а человек пять даже вытянулись в некое подобие стойки «смирно». Старик церемониймейстер, как будто отставший по пути в БКД, вдруг оказался тут раньше нас и с рокотом возвестил о моем приходе: «Пррррези-дент Рррроссийской Федерррации…»
К счастью, обошлось без гимна. Меня встретили аплодисментами – бурными, однако не из серии «Почувствуй себя Брежневым». Выждав секунд пять, я жестом пригасил овации и занял приготовленное мне сиденье в первом ряду. Слева от меня на расстоянии полуметра обнаружился немолодой хмырь в академической ермолке и в перхоти (если верить табличке, стоящей перед ним, глава Общества собаководов г. Обнинска). Справа нахохлилась мясистая тетка с сильно выраженным колхозным румянцем и едким запахом «Красной Москвы». Свою табличку она старательно загораживала толстым локтем, словно там было не название ее клуба, а год ее рождения.
Вова-интеллигент нашел себе козырное местечко прямо за моей спиной, чтобы, если потребует ситуация, шептать мне на ухо нужные комментарии, подсказывая, где, куда, чего и сколько раз.
В папке на столе передо мной лежали только карандаш и чистые листы. Согласно регламенту, от президента не требовалось больших установочных речей. Я должен был всего лишь изображать внимание, делая пометки на листах – хоть чертиков рисовать, – и вставлять поощрительные реплики (не менее двух, не более шести). Желательно было также не заснуть до финальной раздачи денег.
Едва все расселись по местам, над столом возвысился первый оратор – строгий пиджак, увенчанный седой головой с брюзгливо поджатыми губами и костистым щучьим носом. Этого мастера эпизода узнавала в лицо вся страна, но никто не помнил его фамилии и тем более имени. По молодости он изображал в фильмах полицаев и мелких агентов царской охранки, а после пятидесяти дорос до белогвардейских полковников и матерых резидентов американской разведки – пока, наконец, ему не посчастливилось отхватить в популярном сериале роль Генриха Гиммлера. После нее актер играл только крупных чинов СС. И если ему предлагали звание ниже группенфюрера, он, говорят, гордо отказывался…
– Дорогие коллеги! Уважаемый господин президент! – начал свою речь заслуженный фашист СССР. Даже микрофон в его руке выглядел, как парабеллум. – От имени и по поручению Гильдии актеров второго плана и от себя лично рад поприветствовать всех собравшихся. Говорить сегодня мы будем о наболевшем, каждый о своем, а присутствие здесь главы российского государства – знак внимания к нашим бедам и чаяниям на самом высоком уровне. Символично, что встречи проходят в зале, названном в честь святого благоверного князя Александра Невского…
После этих слов меня как током ударило: Невский! Ну конечно! Именно он, в шлеме, с мечом, висел у меня и над кроватью в «Горках-9», и на гобелене в моем кремлевском кабинете. Как же я мог позабыть его фамилию? Не Курбский, не Крупский, а Невский!
В моей памяти на мгновение вспыхнула яркая лампочка. Вместе с именем благоверного князя Александра высветился и весь прилегающий к нему кусок прошлого – не княжеского, конечно, а моего собственного. Никаких приятных ощущений в этом выплывшем фрагменте не было – только чувство угрюмого раздражения, стыда и неловкости, от которых хочется поскорее избавиться любым возможным способом, пусть даже смешивая напитки по нарастающей.
Дело, как я понимаю, происходило сразу после моей инаугурации. Сначала был кагор, потом массандровский портвейн, затем портвейн попроще и позабористей пополам с коньяком, а заполировал я уже выпитое семидесятиградусной настойкой женьшеня… Немудрено, что большинство подробностей, включая имя злополучного князя, законопатились в дальний уголок моих мозгов. Но теперь-то я отчетливо вспомнил главную причину тогдашнего депресняка: идиотские дебаты в Олимпийском комитете. Долгий треп шел о том, как понезаметней подтасовать идиотские результаты еще более идиотских интернет-выборов символа России на грядущей Олимпиаде.
Что характерно, раньше все эти непритязательные фигурки-мордашки – медвежонок, Буратино, три богатыря, крокодил Гена и прочие – напрямую назначались без голосования: сперва секретариатом ЦК КПСС, а затем администрацией президента России. Но в последний раз решили зачем-то соригинальничать и проверить активность масс. Ну и напроверялись на свою голову. В итоге все сказочные и мультяшные персонажи получили ничтожный рейтинг и отсеялись с таким свистом, что без скандала вытащить их обратно на поверхность не было ни шанса. Зато в первую четверку вошли, почти на равных, Иван Грозный, Сталин, Высоцкий и Жанна Фриске.
Это был тупик. Покойный бард-хрипун, женатый на француженке, и вполне живая кинокрасуля бальзаковского возраста, тоже с неким французским отливом, не вытягивали на символ олимпийской России. Напротив, царь Иоанн Васильевич и генсек Иосиф Виссарионович в образы вековых российских брендов вписывались – и настолько хорошо, что изображать их профили на футболках, значках и спортивных штандартах нельзя было ни в коем случае: мы как-никак лепили экспортную версию страны, а у обоих наших эффективных менеджеров репутация на Западе сильно подгуляла. Или, говоря сухим банковским языком, у них была неважная кредитная история.
Пришлось в итоге устраивать поспешную перезагрузку конкурса и пересчет голосов, а из четырех финалистов выбирать пятого, этого самого Невского. В пассиве у князя была сомнительная дружба с монголо-татарскими захватчиками, в активе – полнометражный кинофильм с мощным саундтреком Сергея Прокофьева. Ну и фильм, естественно, перевесил…
– …а они не берут, и все тут! Может, их по закону обязать?
Погруженный в мысли о прошлом, я упустил из виду настоящее и, когда спохватился, главный Гиммлер страны уже давно уступил микрофон кургузому мужику в грубом пролетарском свитере.
Судя по табличке, то был глава Ассоциации автопроизводителей. Из его сбивчивого монолога мне вскоре стало ясно, что три месяца назад президент (то есть я) пошел навстречу жителям Дальнего Востока и уменьшил былые суперпошлины на праворульные иномарки до прежнего уровня. Однако и «АвтоВАЗу» была дана поблажка в виде снижения тарифов на перевозку. Находчивые тольяттинцы мигом наладили выпуск отечественных машин с правым рулем и повезли их с запада на восток. Новые «жигули» внешне были точь-в-точь как старенькие «тойоты», а стоили в полтора раза меньше. Однако зловредные приморцы, не понимая своего счастья, продолжали тупо поддерживать подержанных японских производителей вместо наших. Теперь мне предлагалось принять какие-нибудь строгие меры.
Кургузый мужичок завершил свою жалобу, шмыгнул носом и сел, а я с деловитым видом записал на чистом листе: «Иномарки. Подумать» – но это было все, что я мог сейчас сделать для «АвтоВАЗа».
Возвращаться к драконовским пошлинам я не стану. Трезвый и пьяный Кораблевы здесь солидарны, хотя и по разным причинам. Сколько ты ни бейся, закон Ломоносова-Лавуазье непреклонен. Где-то обязательно будет плохо – либо в Тольятти, либо во Владивостоке. И пусть уж лучше люди страдают в центре России, чем на ее окраинах, куда, случись какая заваруха, рязанскому и курскому ОМОНу добраться будет потруднее… Эх, зря волжане не додумались вместо «тойот» наладить выпуск машин типа DeLorean с дверцами-крыльями. Их, по крайней мере, раскупали бы на сувениры поклонники знаменитого фильма «Назад в будущее»…
Следующей выступала высокая и крайне унылая дама из Московского филиала Всемирного общества усыновителей и удочерителей.
Одной минуты мне хватило, чтобы понять: пьяный Кораблев тут облажался стопроцентно. Новый президентский бонус за усыновление россиянами детей-инвалидов был прекраснодушной глупостью и расточительностью. Надо же, я додумался премировать людишек за доброту! Воображал, что наши начнут, как америкосы, принимать в семьи больных деток. Хренушки! Первым делом откликнулись не добрые, а хитрые. Они стали хватать и здоровых, и бонус, втихаря выплачивая из него откат за фальшивые диагнозы. А детки с настоящими болезнями все так же уходили за океан – бесплатно.
Ну ладно, это мы выправим. Я кивнул даме, записал на листке: «Бонус. Отменить. Инвалиды» – и для памяти обвел каждое слово отдельным большим кружком, а потом к каждому дорисовал несколько кружочков помельче, чтобы получились три веселых пупсика.
Платить махинаторам больше не будем, подумал я, однако и детей-инвалидов только в загранку отправлять непатриотично. Что, америкосы – сплошь гуманисты, а наши – циничное жлобье? Нет, России такой расклад не к лицу. Раз экономический стимул здесь не прижился, пора вспомнить о другом, который подешевле. Чувствую, придется возрождать внутри страны чисто советскую практику принудассортимента, когда в нагрузку к банке кофе приходилось брать еще банку икры минтая. Хочешь малыша? Пожалуйста. Забирай сразу двух, здоровенького и с брачком. Не хочешь двух – не дадут ни одного. Вот и вся простая арифме…
– Денис Анатольевич! Вступитесь! Своих обижают! – услышал я вопль и поднял голову, оторвавшись от рисования пупсиков.
Стоп, а он-то чего здесь делает? Парень, ухвативший микрофон сразу после дамы-усыновительницы, был мне не просто знаком, а знаком отлично – еще с допрезидентских времен. Уж кого-кого, а Широва я не ожидал увидеть среди всех этих глухонемых, книголюбов и прочих фанатов «Спартака». Я был уверен, что молодежное движение «Свои» получает, как всегда, бюджетные бабки по отдельной ведомости и в другом подъезде. Фиг с два! Похоже, и тут я в ходе запоя успел перелопатить прежний порядок вещей.
Родителями комиссара «Своих» были наверняка люди с прибабахом, раз назвали отпрыска в честь какого-то там скандинавского божка Бальдра. Однако и яблоко упало недалеко об яблони: Бальдр Широв считался редкостным недоумком. Думаю, этому чаду в перьях и поручили заведовать нашей молодежью, чтобы по уровню интеллекта пастух, упаси Боже, не приподнимался над отарой.
Сперва я вообще ничего не понял из нытья молодежного лидера, но через десяток корявых фраз все же пробился к смыслу. Ага! Пару недель назад у Широва отобрали президентским Указом три четверти его почти-министерского статуса, а из-под «Своих» выдернули регулярное финансирование и пансионат на озере Селигер. Последний был передан «Красному Кресту» для устройства хосписа.
Уж не знаю, сколько я выпил в тот день и почему оттоптался именно на «Своих», но только Указ мой вступил в силу стремительно и застал капсомольцев врасплох. Так что когда юные обалдуи с рюкзачками привычно пришкандыбали в знакомые места – потусить, побазарить и потрахаться за казенный счет, – им предложили ухаживать за безнадежно больными. Теперь комиссар «Своих» умолял все вернуть назад и горько стенал, что молодежь обманута в лучших чувствах. Ей, мол, посулили ломтик сладкого властного пирога, а приходится выносить горшки с чужим говном.
«Селигер. Свои» – пометил я на листке, хотя, в отличие от дурачка Широва, понимал деликатность ситуации. Популизм – улица с односторонним движением. Легко сделать благородный жест, а ты попробуй-ка все отыграть назад. Без фатальных имиджевых потерь это нереально. Хорош же будет президент страны, если выгонит умирающих и вернет пансионат обратно молодым жеребчикам! Вселить «Своих» на прежнее место удастся лишь тогда, когда площадь освободится сама, естественным путем – и никак не раньше.
Однако нет худа без добра. Моя оплошность будет еще одним тестом на выживаемость, типа «Последнего героя» в джунглях. Самые тупые, ленивые и брезгливые отсеются? Хрен с ними, такие во власти и не нужны. Останутся наиболее цепкие, хваткие, всерьез нацеленные на карьеру и ради нее готовые, если надо, нырнуть в любое говно. Вот с ними я и буду строить новую, блин, Россию…
Широв, заметив мое внимание, воспрянул духом и попытался было выйти за рамки пятиминутного регламента. Ну уж нет, хватит мне нытья! Я демонстративно взглянул на часы, после чего лидер «Своих» стушевался и сел, уступив очередь следующему оратору.
Им оказался тоже человек, мне известный, – Валерий Дайданов, бессменный, со времен еще Ельцина, председатель Союза репортеров России. Иметь дело с этим улыбчивым седым дядькой всем было легко и приятно. Вечно он старался найти в действиях начальства что-то позитивное, духоподъемное, настраивающее на оптимизм, а редкие жалобы обкладывал столькими слоями мягчайшего поролона, что не всякая наследная принцесса отыскала бы внутри горошину.
Вот и сейчас глава Союза репортеров торжественно начал за здравие. Приложив руку к сердцу, он перво-наперво отметил и оценил благосклонное внимание главы государства к труженикам пера, вылившееся в недавний Указ президента «Об облегченном порядке приобретения работниками СМИ нарезного оружия». Благодаря им – то есть президенту, его Указу, новому порядку, ну и оружию, разумеется, – любой репортер отныне может за себя постоять, не дожидаясь милиции, которая всегда опаздывает.
– Это революционный шаг для обеспечения свободы информации! – с жаром говорил Дайданов. – Наше слово больше не беззащитно, о нет! Если вы помните, в Советском Союзе была когда-то песня про военных журналистов, и были в ней такие слова: «…с «лейкой» и с блокнотом, а то и с пулеметом…» В мирное время у нас в творческом арсенале остались только первое и второе, а о третьем мы могли только мечтать. И вот, наконец, мечта стала явью.
Рядом с тремя пупсами на листе бумаги передо мной появился маленький пулеметик. Я стал зачерчивать его приклад тонкими штрихами, слушая, как оратор делится с залом обнадеживающей, по его мнению, статистикой: за один лишь прошлый месяц число преступных нападений на журналистов во всех регионах снизилось более чем вдвое. Пресса-де сумела проявить бойцовские качества и доказала, что готова защищать свои права в поединке со злом.
– Однако… – Докладчик сделал паузу. В его голосе поубавилось мажора. – Однако в этой новой реальности не обходится пока без некоторых, как бы сказать помягче, издержек.
Выяснилось, что по той же статистике за тот же месяц выросло – и, что интересно, тоже вдвое! – число конфликтов между самими журналистами из конкурирующих изданий. Раньше профессиональные споры заканчивались, в худшем случае, пьяным мордобоем. Теперь же чаще всего не обходится без стрельбы. Палят не только в воздух, но и, как бы это сказать помягче, на поражение…
Оп-ля! – весело подумал я, стараясь сохранить на лице выражение государственной озабоченности. Даже в помраченном состоянии мне, представьте, в голову приходят отдельные светлые идеи.
Думаю, когда я подписывал Указ, я вряд ли стремился к подобному результату, но объективно наше общество, по-моему, в выигрыше. Каждый получил свое. Теперь никакой журналюга не сможет сказать, что власть не уважает прессу – кому еще такие льготы? Ну а если пишущая братва мочит друг друга, власть не при чем. Спички детям не игрушки. Сами журналюги без посторонней помощи сократят свою популяцию. Главное – следить, чтобы при входе в присутственные места эти ковбои пера аккуратно сдавали стволы в гардероб…
– Это что же получается? Им, значит, любое оружие можно, а у нас, значит, последнее отняли? Не любо, братцы!
Я поднял голову от почти дорисованного ручного пулемета и в первые секунды три никак не мог догадаться, кто этот крикун, а на четвертую секунду все-таки догадался и тогда же, наконец, сообразил, какая деталь облике человека помешала мне узнать его сразу: Павел Лагутин, верховный атаман Союза российских казаков, сегодня был без фуражки! Уму непостижимо. Должно было произойти событие космического масштаба, чтобы атаман Лагутин в закрытом помещении расстался со своим головным убором.
Встречая верховного казака России в кремлевских кулуарах – сурового, надменного, всегда с плотно надвинутым на переносицу черным лаковым козырьком, – я скуки ради воображал, что под фуражкой Лагутин скрывает от людей что-то роковое: то ли в черепе дыру размером с кулак, то ли литеру «Z» на затылке, то ли сатанинские рожки. И вот теперь, как вижу, на его макушке ничего секретного, кроме ранней плеши, нет. А ее вызвало, скорее всего, постоянное ношение фуражки. Круг замкнулся. Я разочарован.
– Не любо! Ох, не любо! – продолжал причитать атаман, цепко держась за микрофон. – То есть совершенно не любо! И вот стою я здесь перед вами, люди добрые, простой донской казак…
И правда, подумалось мне, чего он здесь стоит? Атаман же – не общественник. Вернее, общественник, но рангом повыше, чем эти. У казачества, если я не путаю, должен быть отдельный орган, вроде Совета по их делам при президенте России. Или этот орган мне тоже пришлось ампутировать в целях борьбы с финансовым кризисом?
Быстро добыть нужные сведения без помощи Вовы-интеллигента я не мог. Пришлось подманить его пальчиком, откинуться на сиденье, подставить правое ухо и впитать им шепот из второго ряда кресел.
Так-так. Ну-ну. Хо-хо. Да уж, нехило отмочил. С казаками я, выходит, разделался еще круче, чем со «Своими». В один прекрасный день объявил им, что раз живем мы не при Петре I, потешные войска нам без надобности и не по карману. Лампасникам была предложена честная альтернатива. Кому любо служить всерьез, те могут огрести армейские звания от лейтенанта до майора, жалованье от Совбеза ООН и место в международных миротворческих бригадах (Судан, Сомали, Мозамбик – короче, там, где стреляют). А кому нужны только мундиры, нашивки и парады, тем за глаза хватит статуса самодеятельных коллективов типа народных театров: частично на казенном коште, частично на голом энтузиазме.
Треть станичников выбрили чубы, получили амуницию и отправились искать журавля в африканском небе. Прочие выбрали всю ту же синицу, оставаясь на месте со своими женами, огородиками и обидами. Атаман Лагутин разделил участь оставшихся и сам, похоже, не заметил, как из верховного существа с нимбом-околышем превратился в типичного завклубом. В его исполнении борьба за остатки суверенных прав гордого казацкого сословия выглядела сейчас лишь борьбой за качество театрального реквизита.
– Раньше у меня в ножнах была шашка как шашка, – сетовал атаман с форсированной скорбью в голосе. – Золингенская сталь, волосок на лету перерубит. А теперь у меня что? Смотрите! Видите, а? Простая жестянка, шелудивого пса не испугаешь…
Казацкие беды не встретили сочувствия, аудитория в едином порыве не всколыхнулась. Сдается мне, атаман Лагутин не пользовался среди общественников большой любовью. Солидный заряд его пафоса был растрачен впустую. Более того, со стороны таблички «Женская лига в защиту домашних животных» донеслось сердитое:
– Ну и правильно. Зачем собак пугать? Дел, что ли, других нет?
– Я не про песиков ваших драгоценных, успокойтесь, мадам, – с досадой отмахнулся Лагутин. – Я про шашку. Ведь по-человечески, даже по-мужски обидно, когда в ножнах вместо оружия – муляж…
– Да уж ладно вам, Лагутин, не гоните волну, – дерзко встрял в разговор парень цыганского вида, сидящий рядом с табличкой «Товарищество студентов Юга России». – Если у вас и погоны – из драмтеатра, и кресты Георгиевские – новоделы, так почему же вашей шашке не быть муляжом? Будьте же последовательны, атаман. И вообще пора признать, что оружие-то всем вашим нужно было только для того, чтобы без проблем крышевать городские рынки.
– Я тебя выпорю! – взвился Лагутин. Его рука, свободная от микрофона, зашарила по портупее. – Прямо здесь и сейчас!
– И чем же вы меня собираетесь пороть? – ухмыльнулся студент, похожий на цыгана. – Вон той вашей плеточкой из ниток? Вон тем муляжом нагайки из папье-маше? К тому же, по Уставу общественных организаций РФ, часть вторая, раздел восьмой, вы права не имеете выносить всю эту вашу маркиз-де-садовщину за пределы своего фан-клуба… ой, извините, я хотел сказать: за пределы вашего казачьего круга. А я, хвала Кришне, не казак, я нормальный.
– Ничего-ничего-о-о-о, – угрожающе протянул атаман. – Ты еще допрыгаешься. У меня, чтоб ты знал, уже целых пять публикаций в местной прессе и одна в центральной. Ка-ак накоплю их побольше, ка-ак возьму рекомендацию у Александра Евсеевича Хинштейна, ка-ак вступлю с ней в Союз репортеров… Вот тогда уж я тебе… тогда уж я тебя…
Какая именно кара ожидает студента после превращения донского атамана в журналиста, никто из присутствующих узнать не успел.
Откуда-то сверху раздался громкий звук гонга, его сменил музыкальный проигрыш. Стальные тросы тотчас же унесли под купол красное полотнище, и я увидел, что под ним скрывался барабан лототрона, прозрачный и пустой. Рядом на столике почему-то стояла микроволновая печь с уже распахнутой настежь дверцей.
Атаман напоследок сверкнул глазами и сел обратно на свое место.
Ага, сообразил я. Значит, время, отведенное дебатам, вышло, и настала пора раздачи слонов. Что ж, система мне, в принципе, ясна. Раз тут лототрон, деньги получат не все – только избранники судьбы. Это я неплохо придумал: избирательность без дискриминации. Те, кто выиграют, будут помнить, что гранты им вручили в Кремле. Ну а те, кому сегодня господдержка обломится, пусть во всем обвиняют госпожу Фортуну, а не президента России… Не пойму только, к чему здесь микроволновка. Мы им что, вместо денег теперь раздаем горячие пирожки? Хм. У нас, конечно, уже финансовый кризис, но пока вроде бы еще не голод.
Тем временем стол-бублик разомкнулся где-то сбоку и пропустил к лототрону забавную парочку в темно-синих фраках – хорошо знакомого всей стране Леонида Якубовича с золоченым блюдом подмышкой и какого-то мальчика лет двенадцати, очень толстого.
Прямо перед собой мальчишка важно нес большую керамическую вазу, до краев наполненную, как мне сперва показалось, шарами кремового цвета. Я ожидал, что сейчас либо мальчишка, либо сам Якубович высыплет шары в лототрон, и мы сразу же начнем игру. Ан нет! Вместо этого ведущий «Поля чудес» кивнул жирному ребенку. Мгновением позже ваза со всем содержимым перекочевала в недра микроволновки, а еще через несколько секунд по всему залу распространился вкусный запах: шары были сделаны не из пластмассы, а из теста – то есть настоящие колобки.
Теперь и я без объяснений сообразил, что разогреваются колобки специально, для гарантировано честного выбора. Несколько лет назад, еще до эпохи ЕГЭ, в одном из регионов было выявлено элегантное по своей простоте жульничество во время выбора темы выпускного сочинения. Шарик с нужной темой заранее положили в морозильник и вбросили перед самой процедурой, так что малыш у лототрона легко исполнил просьбу организаторов: выбрал самый холодный на ощупь шар… Как я понимаю, отныне возможность подобного трюка пресекается с помощью СВЧ-печки. Ну а поскольку шары все равно будут греть, можно заодно уж делать их съедобными. Тем более, что колобок – национальное русское кушанье, не какое-нибудь там китайское печенье. Он вам и герой сказки, и еда, и утешительный приз проигравшему.
Примерно в таком духе все сегодня и происходило. На глазах у собравшихся мальчик доставал из барабана теплый шарик, вдумчиво надкусывал его, отдавал ведущему найденную внутри картонку с номером, а сам колобок – свою законную добычу – доедал. Затем опять крутил барабан, доставал, надкусывал, вынимал, доедал… и так десять раз подряд. К концу процедуры, когда на блюде собралось десять картонных кружочков с выигрышными номерами, мальчик уже и сам стал похож на большой круглый колобок.
Сверившись со списком, Якубович сделал в нем пометки, после чего откашлялся и провозгласил со своей неподражаемой интонацией:
– Есть такие номера!
Первым счастливым призером стал номер 22 – Сочинский Клуб любителей закаливания и зимнего плавания «Морозко». Его полпред, статный дедуля лет девяноста с толстовской бородой-веником, поднялся из-за стола, получил из рук ведущего чек на предъявителя и с достоинством поклонился залу.
Следующий выигрыш достался номеру 14 – Организации многодетных и потому малообеспеченных семей города Кинешмы. Маленькая, длинноносая, суетливая, похожая на озабоченную галку женщина выдернула из рук ведущего свой чек и убежала на место, даже позабыв подставить Якубовичу щечку, которую тот должен был чмокнуть. Зато номер 29, пожилая платиновая блондинка из Общества содействия развитию двухсторонних связей между городами-побратимами (а именно городом Пугачевск Саратовской области, Россия, и городом Детройт, штат Мичиган, США), получила все, ей положенное по праву победительницы: чек, аплодисменты, рукопожатие и поцелуй от Якубовича… она бы хапнула заодно и свой колобок, но тот уже давно был съеден жирным мальчиком.








