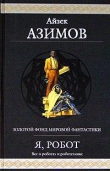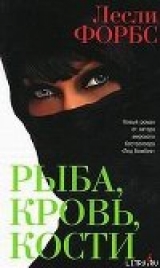
Текст книги "Рыба, кровь, кости"
Автор книги: Лесли Форбс
Жанр:
Триллеры
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 31 страниц)
12
Сегодня полиция прислала художника из особого подразделения, именуемого «Особое оперативное подразделение № 11 – группа конструирования фотороботов». Он протянул свою визитку, словно удостоверение, и слова, написанные сразу же под именем, показали, что Скотланд-Ярду не чужд постмодерн: «Это не удостоверение личности».
Его оперативное отделение оперировало безнадежно устаревшими технологиями. Вместо «Фото-фита», набора удобных в использовании фотографических изображений, знакомых по американским детективам, этот художник вооружился лишь блокнотом и угольным карандашом. К тому же ему совсем не удавалось передать сходство. Сначала мы пытались установить форму лица единственного человека, которого я видела ясно, потом определить, какие у него были волосы, приблизительное расположение ушей – все это я должна была выбрать из серии «стандартных» карандашных рисунков. Когда полицейский их изобразил (его набросок лишь отдаленно напоминал человека), мы перешли к деталям: глаза такой-то формы, нос такой, рот – широкий или узкий, брови – кустистые или гладкие. Они выбирались из свернутых в рулон бумажных лент, на которых были фотографии осужденных, предоставленные американским судебным бюро.
– Все дело в том, что эти люди выглядят как преступники. И если уж на то пошло, американские преступники, – сказала я после двухчасовых попыток обнаружить моего убийцу среди насильников, педофилов и торговцев наркотиками. – Тот, кого я видела, выглядел обычно.
– Обычно? Какие у него были характерные приметы? – Он снова взялся за карандаш.
– Какие могут быть характерные приметы у обычного человека? – нетерпеливо произнесла я. – Он был никто. Как я. Среднего роста, русые волосы, ничем не выделяющиеся черты лица.
Он вздохнул:
– Мы часто с этим сталкиваемся. Увы, не все преступники хотят соответствовать нашему представлению о них.
Мы вместе уставились на его непохожую, плохонькую карикатуру Обычного Человека.
– Может, кофе? – спросила я, не придумав ничего лучше.
– Нет. Я не пью на работе.
– Я сказала, кофе.
Но он помотал головой и заявил, что от кофе не может уснуть ночью.
– Вы уверены, что это из-за кофе?
Его энциклопедия преступников злобно уставилась на нас. Я должна была говорить, не останавливаться.
После его ухода я снова спустилась в подвал, где в последнее время проводила целые часы в поисках недостающих звеньев между Джозефом Айронстоуном и Клер Флитвуд. Мне нужно было фотографическое доказательство, общие черты, физическое сходство, но я не нашла фотографий ни Флитвудов, ни Айронстоунов – странное упущение для такого неутомимого каталогизатора, как Джозеф, хранившего целые ящики обрезков ногтей, зубов и локонов волос. Лишенная помощи самого безжалостного приспособления моего века, я вынуждена была составить коллаж из имевшихся в моем распоряжении частей, в манере того художника из полиции, придумать лицо, которое соответствовало бы тайным склонностям Джозефа. Из его книг я узнала, что у нас общие интересы с величайшим составителем списков всех времен и народов, Карлом Линнеем – шведом, который изобрел самую знаменитую систему классификации растений. Во время путешествия по Швеции в 1747 году он отметил в своем дневнике, что крестьяне используют землю с кладбищ для капустных грядок. Он писал о человеческих головах, превращающихся в капустные кочаны, которые, в свою очередь, становятся человеческими головами. «Вот так мы поедаем наших мертвецов, и это для нас благо».
Линней был не единственным исследователем растений, интересовавшимся костями покойников. Живший в семнадцатом веке голландский ботаник Фредерик Рюйш большую часть жизни посвятил изготовлению восковых анатомических моделей. В своей «Анатомической коллекции» он совместил растения и скелеты с отсеченными от тел конечностями в жутких сценах жизни, весьма напоминавших мои собственные работы. И работы Джозефа тоже, как я узнала из спрятанного альбома: наконец-то фотографии, хотя и не семейные. Как и мои снимки, фотографии мужа Магды вторили картинам Рюйша, и в сделанных Джозефом коллажах развития и гниения было что-то глубоко отталкивающее и вместе с тем прекрасное. Я приехала из страны, где старение неприемлемо, а насилие сексуально. Там стареть и умирать – вопрос стиля жизни, выбор слабовольных. Не старей, сделай подтяжку лица! Не умирай, заморозь свою сперму! Вот как поступают американцы. Но насилие и смерть случайны – молниеносны и непредсказуемы. Почему же мы одержимы ими? И всегда были одержимы? Неужели, становясь свидетелями насилия, мы чувствуем себя более живыми? Джордж Стаббс[25]25
Известный английский художник-анималист (1724–1806).
[Закрыть] препарировал свое первое животное в возрасте восьми лет. Что же сделало его художником, а не хирургом или мясником? Что помешало ему уподобиться Джеффри Дамеру,[26]26
Американский серийный убийца, некрофил и каннибал (1960–1994).
[Закрыть] который пошел дальше и выше по лестнице убийств, от насекомых к кошкам, собакам, людям? Он убивал, расчленял свои жертвы, помещал их в бочку с кислотой, а потом фотографировал то, что оставалось. Окрашивая черепа из спрея и превращая их в фетиши (вот так и он обнаружил в себе склонность к искусству – этакий Дэмиен Херст,[27]27
Современный британский художник; получил известность благодаря своим инсталляциям с расчлененными и заспиртованными животными.
[Закрыть] одержимый манией убийства), Дамер в конце концов получил то, чем мог поистине владеть, больше, чем это было бы возможно с живым человеком: несколько фотографий смерти, выложенных вместе с черепами на алтарь обладания. Человеческое тело как украшение, жертвенник. Не считая самого акта убийства, чем отличался Дамер от Дэмиена? Или же от коллекционера вроде Джозефа Айронстоуна, от фотографа вроде меня?
Последние несколько дней меня постоянно влекло обратно в подвал, к жалкому двойному черепу бенгальского мальчика – он напомнил мне об одном немце, жившем в восемнадцатом веке, по фамилии Блюменбах, который провел всю жизнь, классифицируя черепа (и в итоге собрал столь замечательную коллекцию, что в его университет совершались настоящие научные паломничества). Может быть, он, как и я, задался бы вопросом: был ли у двух голов, принадлежавших маленькому полуобгоревшему тельцу, один мозг, один голос?
Ма. Двегалавы? Гаретягонь страашноубеево Адинмоскадинголяс Па. Малшшикдевачка? Смияццаплякать? Видитъслыушиатъ? Гаварить? Ма. Штосказать? Ма. Слява. Ма.
Спустя два дня после визита художника я нашла тетрадь; ее содержимое в основном состояло из рядов цифр, размеров, указанных рядом с именами, которые, как я решила, принадлежали тем, кого измеряли. Они были написаны неровным, но вполне читаемым каллиграфическим почерком, похожим на руку Джозефа, но искаженным. Первая запись относилась к Джозефу Айронстоуну, вторая – к Магде, следом шли двое детей, судя по небольшому размеру их черепов. Тот, кто снимал мерку, отказался от более ранней традиции построения контуров лица с помощью овала, предложив вместо этого триангуляцию человеческой географии. Отложив тетрадь, я взяла лежавший рядом кронциркуль и надела его на собственную голову. Записывая размер своего черепа, я услышала предупреждающий лай Рассела и побежала наверх, чтобы посмотреть, кто там. В первую секунду пес меня не узнал. Он отвернулся от двери и принялся лаять на тень от моей головы на стене – инопланетное насекомое, увенчанное циркулем.
– Ошибся адресом, Рассел, – сказала я, и он повилял своим коротким толстеньким хвостиком при звуках знакомого голоса, хотя глядел по-прежнему недоверчиво.
Человек, звонивший в дверь, оказался очередным следователем уголовного розыска; он хотел узнать, не соглашусь ли я распространить среди соседей несколько фотокопий того рисунка, который я помогла составить. Он бросил быстрый взгляд на мой головной убор, но ничего не сказал. Безусловно, он видел и куда более странные вещи за время своего дежурства.
Прежде чем погасить свет в подвале, я сняла с головы кронциркуль и посмотрела на тот список, что составили до меня. Оказалось, размер моей головы полностью совпадал с размером Джозефа. Он, вероятно, был очень маленьким человеком, не намного больше своей жены. Что он пытался доказать этими своими замерами? И что пыталась доказать я?
Некоторые из тех, кому я показала фоторобот, как будто испугались, словно человек, чье невыразительное лицо смотрело с отпечатка, мог увидеть их; но Дерек Риверс скорее разозлился, чем забеспокоился.
– Помогаешь копам с их дознанием? – спросил он, глядя на рисунок подозреваемого мутными глазами. – Услужливая девица. Вечно сует свой нос, куда ее не просят.
– Не только я их видела, – быстро ответила я. – Мы все пытаемся помочь.
– Только ты заявляешь, что видела их лица. Только ты оказалась такой дурой, чтобы помочь копам сделать вот это. – Он ткнул рисунок прямо мне в лицо, так что я была вынуждена отступить на шаг.
Ради нашей собственной безопасности свидетели не должны обсуждать друг с другом убийство. Разумеется, к тому времени, как полиция позаботилась сообщить нам об этом, все уже обо всем поговорили. Теперь я наблюдала за Риверсом, пытаясь прочесть то, что скрывалось в его бесцветных рыбьих глазах, когда он швырнул бумажку на землю.
– Гребаная наследница! Почему бы тебе не убраться туда, откуда приехала, пока не вляпалась во что-нибудь! Чертова янки! – Он захлопнул ворота перед самым моим носом.
Следует ли мне сообщить об этом в полицию? Все здесь наблюдали уже годами, как Риверс ломает комедию перед попечителями: алмаз нешлифованный, работяга, попавший в житейские передряги. Соль земли, одним словом, и миссис Риверс помогала ему в этом фарсе. Никто не рисковал связываться с ним.
– Дерек всегда путался с бандитами, – предупредил меня Артур, когда я обратилась к нему за советом. – Ему не обязательно самому разбираться с тобой, понимаешь?
Весь вечер я расклеивала фотороботы по округе, но когда пошла на работу на следующее утро, оказалось, многие из них уже сорваны. Когда я позвонила в полицию, усталый голос мне ответил, что в этом районе полиция не пользуется популярностью.
– Не тогда, когда преступление совершено на расовой почве.
– Почему расовой? Люди, убившие Салли, были белыми, а не неграми.
– Вы сказали, что по ночам к Риверсам приходили черные. И потом, есть еще этот здоровяк с Ямайки – ее друг. Может, у нее был белый парень, который приревновал. Оба родителя отрицают ночных посетителей, о которых вы говорили.
– Толстя не имеет к этому никакого отношения! А люди, приходившие ночью, – там было больше белых, чем негров… И они приходили не к Салли, а к ее отцу.
– Откуда вы знаете?
– Я… я просто знаю, вот и все.
– Кажется, у него уже был привод в полицию, у этого парня с Ямайки? Он как будто симпатизирует левым?
– При чем тут политика? Это же Риверс мне угрожал!
– Физически? Он ударил вас?
– Нет, но наговорил мне всякого.
– Слова не считаются.
– Вы можете сказать ему держаться от меня подальше?
– Видите ли, Риверс утверждает, что вы вроде как сами мутите воду. Говорит, вы делали странные фотографии его дочери.
– Он – что? Но мои снимки не… Я судебный фотограф…
– И все же лично я бы не хотел, чтобы фотографии моей дочери использовали таким образом. Так что, понимаете, мисс Флитвуд…
Я все прекрасно понимала. Даже полиция, с которой я работала, считала, что женщине не пристало снимать такие «странные» фотографии; я представляла себе, как весь участок читает список моих диких обвинений против Риверса и делает собственные выводы, так же как они сделали их о Толсте.
13
Несмотря ни на что, полиции удалось задержать подозреваемого в течение двух недель после того, как появились фотороботы; наверное, у них уже был кто-то на примете. Вполне возможно, что парень, которого они арестовали, – известный преступник. А может, они нашли на месте преступления какую-нибудь улику, указывавшую на него. Никто мне этого не расскажет. В отделе по защите свидетелей мне сообщили только, что водитель, который отвезет меня на опознание, будет в штатском.
– И еще, ваш водитель позвонит перед приездом, – добавила девушка по телефону. Полагаю, чтобы его не приняли за одного из этих злодеев.
Однако ни один злодей не смог бы выглядеть в форме так, как выглядел в штатском тот серый человечек, который приехал за мной, – настолько серый, что невозможно было определить, где заканчивается его костюм и начинается лицо. Без единого слова он умело вел свою безликую машину по запруженным в час пик улицам и припарковал ее так же аккуратно. Еще двадцать минут мы не выходили из автомобиля.
– Чтобы вы ненароком не встретили обвиняемого, когда он войдет внутрь, – объяснил он мне; он цедил слова по одному из своего словно застегнутого на молнию рта, будто каждое из них стоило ему денег.
Потом он повел меня в участок, где два утомленных грузных копа не обратили на нас никакого внимания. Водитель даже не попытался объяснить, кто мы такие. Мне подумалось, его родители были из тех, кто считает, что детей должно быть видно, но не слышно.
Вскоре после нас появилась крашеная блондинка на белых шпильках; лицом она смутно напомнила мне одну из проституток, работавших на улицах возле Эдема. Еще через пятнадцать минут с улицы вошла полностью обнаженная женщина, которая криком стала требовать сержанта Брауна.
– Где он? – верещала она. – Куда он спрятался, чертова сука, мудак, ублюдок? Я ему устрою веселую жизнь!
Мы все старались слиться с пластиковыми стульями, на которых сидели.
Наконец слева от нас открылась дверь, выпустив усталого человека; он накинул на женщину плащ и вывел ее наружу. Интересно, был ли это сержант Браун, а может, Грин или Уайт.
Прошло еще двадцать минут; скука пылью оседала в комнате.
– Сколько еще я должна здесь торчать, мать вашу? – хрипло бросила блондинка.
– Подождите, мы дойдем до вашей жалобы, – ответил мужчина за столом.
– Мне, вашу мать, за это не платят, представьте себе! – добавила она. – Я, вашу мать, не просилась быть свидетелем!
– Вы по какому делу – Риверс? – спросил утомленный коп и что-то отметил у себя в журнале.
Мой серый и унылый водитель наконец несколько встряхнулся и приободрился.
– На самом деле вот эта леди здесь тоже в качестве свидетеля по делу Риверс.
Казалось, он извинялся за нас, словно блондинка и я, согласившись быть свидетелями, путались под ногами у следствия. Не будь нас, полицейские подшили бы Салли в папочку и убрали ее в один из своих бежевых картотечных шкафов, а потом занялись бы более важными делами – например, футбольным тотализатором.
Блондинка искоса бросила на меня обеспокоенный взгляд, а один из полицейских стал куда-то звонить. Снова потянулись минуты томительного ожидания, а потом появился тот же коп, который выводил голую женщину, и провел нас в комнату, где три молодых индуса смотрели по телевизору повтор «Это и есть твоя жизнь». В одном из них я узнала обитателя квартиры, расположенной над магазинчиком на углу, напротив того места, где убили Салли. Сам магазин был заколочен уже несколько месяцев, с тех пор как его подожгли какие-то местные расисты. Над головами индусов висел плакат, на котором было написано:
Предуведомление всем свидетелям, участвующим в опознании:
1. Не обсуждайте дело ни с кем, пока находитесь в Центре.
2. Вернувшись в комнату для свидетелей после опознания, ни с кем не обсуждайте увиденное.
3. Если вы опознали одно из предъявленных вам лиц, с вас перед уходом возьмут письменные показания.
4. Со всеми вопросами обращайтесь к персоналу Центра по опознанию.
Комната, выкрашенная в больнично-зеленый цвет, который всегда наводит меня на мысли о халатах судебных медиков, вызывала томительное и неприятное ощущение, какое испытываешь, сидя в приемной стоматолога. На столе из жаростойкого пластика под дерево лежала стопка прошлогодних глянцевых журналов. Я вяло пролистывала их, пытаясь понять, почему люди, уже обласканные славой, соглашаются на то, чтобы их дома, свадьбы, праздники запечатлевали такие плохие фотографы. Блондинка поинтересовалась, знает ли кто-нибудь, во сколько начинаются «Соседи». Никто не знал.
Время медленно ползло.
– Знаете, почему она зеленая? – спросил вдруг один из индусов. – Комната, в смысле? Чтобы крови не было видно. Как в больнице.
Его друг отозвался:
– Что значит – чтобы крови не было видно?
– Я где-то читал: на таком ярко-зеленом цвете кровь не сильно заметна.
Его приятель как будто встревожился:
– Какая кровь, почему здесь должна быть кровь?
Еще несколько минут мы все молча размышляли, почему же здесь должна быть кровь. Потом обеспокоенная блондинка подала голос:
– Они ведь не сбегут, да? Ну, эти, предъявляемые? То есть ну, они ведь не могут забраться сюда и дать нам по башке, прикончить?
– Не-а, – ответил первый индус. Но он и сам, похоже, был не сильно в этом уверен.
По правде сказать, я боялась, что мы все помрем со скуки раньше, чем до нас доберется подозреваемый.
Через двадцать пять минут ожидания в комнату широким шагом вошла женщина-полицейский с крючковатым носом. Она вся светилась энергией и говорила щелчками и тресками – словно лампочку закоротило.
– Так. Извините. За задержку. Ждали подозреваемого. Пока он присоединится к остальным предъявляемым. Он не обязан. Не знаю, почему они приходят. Подозреваемые. Может, думают, будет выглядеть подозрительно, если не придут. Итак, кто хочет идти первым?
Отчаянно желая сменить обстановку, я вытянула руку и последовала за женщиной через вестибюль в узкую комнату, разделенную стеклянной стеной на две части. С моей стороны стояли полицейский и адвокат подозреваемого. По мне, адвокат сам выглядел закоренелым преступником. За стеклом на пронумерованных стульях сидели девятеро мужчин.
– Та сторона зеркальная, – объяснил полицейский, – так что он не может вас видеть. Они смотрят на самих себя.
А его адвокат сидит здесь и смотрит на меня, подумала я, задаваясь вопросом, насколько хорошо он знает своего клиента и не любят ли они вместе пропустить бутылочку-другую.
Меня предупредили, чтобы я не спешила, внимательно изучила каждое лицо, полностью во всем уверилась, прежде чем опознать кого-нибудь. Но я сразу же увидела его.
– Вы не могли бы попросить номер третий встать? – спросила я сержанта и услышала, как адвокат протестующее зашептал что-то; он уже успел внимательно меня рассмотреть. И уж он-то узнает меня снова, даже если его клиент не справится.
– Зачем? – спросил сержант.
– В последний раз, когда я его видела, он не сидел, – ответила я, призывая на помощь все свое терпение. – Тогда он пробежал мимо меня. Я хочу посмотреть на него в профиль.
Формальности утомляли меня.
На вопрос дежурного сержанта, абсолютно ли я уверена, что номер три – тот самый человек, которого, согласно моему заявлению, я видела несколько недель назад, когда он избил Салли до смерти, я кивнула: да, это он. Тот самый. Номер три, да, я абсолютно уверена. И снова услышала голос Вэла, утверждавшего, что ничто не абсолютно. Естественно, я не была уверена. Было темно, он бежал, а я была потрясена.
Я снова вышла в коридор и попала в другую приемную: тот же плакат, призывавший свидетелей к молчанию, те же глянцевые больничные стены, тот же кофейный столик под дерево, те же стандартные пластиковые стулья. Словно я прошла сквозь одностороннее зеркало, на которое смотрел подозреваемый, и не почувствовала никакой разницы.
– Вы правы, здесь все одинаково, – ответил на мой вопрос сержант, – кроме автомата по продаже кока-колы.
Он набросал для меня план здания и объяснил, что посередине находится невидимый для остальных просмотровый зал, откуда следователи и юристы-пройдохи наблюдают, как свидетели опознают подозреваемых.
– Люди из КПС – Королевской прокурорской службы (мы в полиции называем их Компанией Преступных Сообщников) – должны быть уверены, что вам не указали на подозреваемого раньше, чем вы вошли туда.
Нынче за всеми нами наблюдают. Мы не существуем, пока нас не сфотографировали на новенький папин «Пентакс» или не сняли на семейную видеокамеру. Для ушей у нас есть плеер, для глаз – телевизор; еще немного, и у нас появится латексная кожа. Весь мир из латекса.
Я ждала в этой комнате, пока каждый из свидетелей не прошел тот же обряд и не присоединился к нам; все выражали облегчение оттого, что испытание закончилось, и все были втайне довольны, что не смогли узнать убийцу среди предъявленных.
– Они ведь все такие одинаковые, правда? – сказал один из индусов приятелю, отпуская плоскую шутку про белых.
Только блондинка молчала. Ее напряженная поза выдавала то же холодное оцепенение, что чувствовала я. Наши глаза встретились, разошлись и встретились снова.
Я первая давала показания, в той самой первой приемной, тому же самому следователю, который допрашивал меня на следующее утро после убийства. Теперь я должна была подробней разъяснить роль номера третьего, снова пережить эту историю. Офицер все выведывал, пытаясь найти хоть какую-нибудь зацепку в событии, произошедшем слишком быстро. Он хотел охватить всю картину, высветить все непроявленные мелочи по краям негатива:
Он держал девушку или бил ее?
Колебался ли он?
Сколько было крови? Какой формы пятно, как далеко расплылось?
Когда я уже уходила из участка, полицейский снова предупредил, чтобы я ни с кем не делилась подробностями дела.
– Понимаете, тот, второй, все еще на свободе, а задержанный утверждает, что его наняли.
Вероятно, провести остаток дня в подвале было не самой лучшей идеей, хотя я уверяла себя, что занимаюсь чем-то вроде семейных раскопок. Только корни, которые вы откапываете, не всегда отвечают вашим ожиданиям – к этому выводу я пришла, обнаружив тайную библиотеку Джозефа Айронстоуна. Некоторые из книг выглядели довольно невинно: например, перевод отрывка из ставшего уже классическим текста «Половая психопатия», написанного немецким психиатром Рихардом фон Крафт-Эбингом, где он развивает свои идеи о судебной психиатрии и сексуальной патологии. Содержание этой книги было мне знакомо лишь поверхностно: я знала о ней, как и любой человек, более или менее разбирающийся в судебной медицине. Сперва я не увидела ничего необычного в выборе куска для перевода – раздела об убийствах на сексуальной почве, где описывается ритуализованное убийство и увечье женщин. Довольно безобидная для нашего времени, эта книга в эпоху Крафт-Эбинга стала настоящим откровением, на несколько лет предвосхитив нападения, совершенные Джеком Потрошителем. Но от следующих книг мне стало не по себе: там находились произведения австрийского юриста Захер-Мазоха, чья форма эротизма была впоследствии названа его именем. Кроме того, был де Сад, а также коллекция викторианских порнографических открыток, со всей сдержанной наготой того времени: крепкие мужчины в кожаных масках, чьи яички были зажаты в тиски, взрослые мужчины, которых шлепали по заду утомленные женщины в корсетах.
Там была не только порнография. Между страниц одной унылой брошюрки, посвященной кнуту, была заложена ветхая бумажка с английским отчетом о казни серийного убийцы Жана-Батиста Тропманна, состоявшейся в январе 1870 года. То был известный случай: к гильотине Тропманна сопровождал русский писатель Тургенев, один из модных гостей, сперва откушавших гусиной печенки и пуншу на приеме у начальника тюрьмы. Кроме основного зрелища знаменитостям предоставлялась возможность лечь ничком на волоске от лезвия, когда палач приводил его в действие, – беспечная забава, доставившая Тургеневу массу удовольствия.
Джозеф Айронстоун, скорее всего, в то время был в Индии, и все же он аккуратно отметил это место. Что привлекло его? Уже не в первый раз я задумалась о том, что же случилось с Джозефом, в которого стреляли, которого похитили и который, как поведал мне Фрэнк Баррет, считался убитым. Куда исчез Джозеф? Почему все решили, что он убит? Мне на память пришли давнишние вопросы отца, которые он задавал одуревшей от наркотиков публике, развлеченной его спектаклем про Джека Потрошителя:
Почему Джек перестал убивать?
Куда он делся, совершив последнее убийство?
Прошлой ночью меня снова мучил кошмар, повторявшийся с самого убийства Салли, тот, в котором Джек возвращается, во всем блеске своей громкой славы.
Я не мясник,
И не еврей,
Морей я не любитель,
Но для тебя – веселый друг,
Твой верный Потрошитель.
В этом сне сад – кладбище, где бамбук разросся в бескрайний чудовищный лес. За мной по пятам идет Джек, а может, это я следую за ним, вынужденная вернуться на дорожку, ведущую к чему-то, чего я не хочу видеть или делать. Вокруг кладбища – разверстые могилы. Проснувшись в холодном поту, я записала сон в тетрадь и сегодня утром нашла эти слова: «Я накручиваю похоронные мили. Совсем как обычные, воздушные. От покойника к покойнику».
Иные способны забыться в работе, но судебная фотография едва ли создана для того, чтобы выкинуть из головы мертвецов. Сегодня, когда я уронила рентгеновскую камеру в третий раз за час, Вэл вздохнул и спросил, что стряслось.
– Это похоже на безумие, Вэл, но… но, как ты думаешь, могут ли в нас обитать гены наших предков? Ну, знаешь, как сквотеры, которые самовольно поселяются в чьем-то доме?
Я боялась, что он прочтет мне лекцию об опасности легких метафор, предлагаемых наукой. Но он отнесся к вопросу серьезно.
– В какой-то степени все мы населены призраками, – сказал он, указывая на бедренную кость, которую я фотографировала. – Вот эта кость – результат врожденного повреждения; жизнь предков этого человека отразилась на его скелете. Безусловно, тоже своего рода призраки. – Он пытливо взглянул на меня. – Не твои, впрочем.
Сперва запнувшись, я попыталась объяснить:
– Этот дом… Не знаю, но у меня такое чувство, будто я живу в мозгу другого человека, делю с кем-то чужие кошмары, как будто все эти коллекции – чьи-то нейроны, а я должна найти между ними связь, но упускаю самый важный проводок или свидетельство.
– Древние греки придумали слово «анагнорисис» – опознание, узнавание: воспоминание о забытом прошлом. Оно было ужасно популярно у ребят вроде Софокла. Я всегда считал этот театральный прием несколько переоцененным. – Вэл потихоньку, ходя вокруг да около, подводил меня к более современным выводам. – Конечно же, нас могут преследовать вещи, которые мы совершили и храним об этом лишь самое смутное воспоминание – если вообще об этом помним, – продолжал он. – Невропатолога пользуются термином «скотома» для описания провалов в сознании, ментального слепого пятна, которое может быть вызвано неврологическим повреждением, допустим, в чувствительной зоне коры головного мозга, или же попытками нашего сознания отрицать противоречивые факты. Полагаю, такое нарушение может возникнуть у очевидца особо жестокого убийства, да? Или от наркотиков – например, у человека, убившего свою жену под действием фенциклидина. Ты когда-нибудь принимала галлюциногены? Я слышал, некоторые молодые люди находят их весьма… просветляющими.
Я ответила, что предпочитаю вести свой собственный, непросветленный образ жизни.
– Опыт моих родителей оттолкнул меня от наркотиков. Они всегда становились такими скучными, когда были под кайфом. Но что ты думаешь о Джозефе, о наших общих чертах?
– Я думаю, тебе следует проводить поменьше времени в этом подвале. Судя по тому, что ты мне рассказала, неудивительно, что тебя мучают кошмары.
– Забавно слышать это от того, кто постоянно возится с гниющими костями. Все равно это ерунда, все эти кошмары о Потрошителе. Они мне снились еще в детстве. Серийные убийства мне даже не интересны.
– Значит, есть такие убийства, которые тебе интересны?
– Ну да, конечно. Те, у которых есть мотив.
– А случайные убийства тебя не привлекают?
– Нет. Это как… ну, не знаю… Слишком похоже на то, что и так с нами произойдет.
– Ты, наверно, и Бога считаешь кем-то вроде серийного убийцы?
В это время я крупным планом снимала необычайно большое костное образование на ступне человека, который хромал с рождения.
– Серийный убийца? Нет. Я просто не уверена, что он мне очень нравится, вот и все. – Я попыталась превратить все в шутку. – Скажем так, если мне когда-нибудь представится случай с ним встретиться, я бы ему косточки пересчитала.
Вэл наконец извлек осколок кости из грудной полости, выпрямился и внимательно на меня посмотрел.
– Я думаю, тебе нужен отпуск. И подольше.
Этот дом и его прежние обитатели неотступно преследуют меня, иначе не скажешь. Поместье Эдем представляется мне одной из тех врожденных болезней, что передаются только по женской линии, как наказание за преступление, которого я не помню. Я знаю о существовании так называемого эффекта основателя, когда ген, отвечающий за цветовую слепоту или карликовость, можно отследить, скажем, у нескольких предков. Мы можем выследить его потому, что люди любят давать вещам имена, относить в ту или иную категорию, чтобы знать, куда мы идем и как далеко зашли. В этом я не одинока: все мы от природы составители списков, ведь человечество – единственный вид, в котором у каждой особи есть свое имя. Одержимость генеалогией облегчает нам поиск собственных корней, особенно в закрытых сообществах, таких, как горы, долины, необитаемые острова. Мы все лишь идем по следам на песке, пока не наткнемся на Пятницу – или людоеда, – оставившего их. Или пока не обнаружим, что их оставили мы сами.
Но я хочу большего. Я хочу похлопать Пятницу по плечу. Развернуть его к себе и посмотреть, не узнаю ли я в его лице свое собственное. Я хочу точно знать, что живу в том доме, который построил Джек.
* * *
Гангрена: местное омертвение мягких тканей, от греческого слова, означающего зеленый нарост на деревьях.
Ночью я брожу по улицам, удивляясь, отчего эти выродки и мутанты продолжают плодить свое чудовищное потомство. Разрастающиеся злокачественные опухоли, гнойные язвы – вырезать, вырезать их. Как эту вторую голову.
Река – это злобный бурый угорь. Розовое небо покрыто хлопьями грязных облаков, словно над городом повесили сушиться невыделанную кожу.
Мы гнием здесь, как рыба. Он сам гнил. Его кости слабели, волосы выпадали. Зубы шатались. Он был тощий, как его мать. Ее глаза походили на кольца дыма, а руки – на сухие листья.
Его снедает томление, которое невозможно облечь в слова, или даже помыслить о нем наяву. Он ищет кого-то, кто разгадает его, сделает его настоящим, ищет свой собственный вид – на берегах реки и в кишащих людьми смрадных переулках, где мужчины и женщины черны и грязны. Особенно женщины. Фотоаппарат – единственное мое спасение. Его фотоаппарат. Лишний глаз, которым можно поймать того, кто, как я знаю, – он знает, – затаился и следует позади. Тогда он обретет покой.