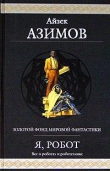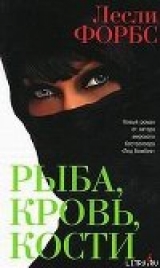
Текст книги "Рыба, кровь, кости"
Автор книги: Лесли Форбс
Жанр:
Триллеры
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 31 страниц)
9
Ник допивал свое второе пиво, когда я присоединилась к нему в «Радж-Паласе», и выглядел уже таким расслабившимся, что я решила ничего не говорить о своих подозрениях насчет того, как Джек «нашел» рисунки зеленого мака.
– Тебе наконец удалось посмотреть свои акварели? – спросил Ник. – Оно того стоило?
– О, безусловно. Как жаль, что Салли всего этого не увидела. Ну а ты, ты узнал что-нибудь об уволенных химиках и их связи с Джеком?
– Обычная смесь непроверенных слухов и откровенно злобных сплетен, вроде обвинений этих химиков в торговле наркотиками. Оказывается, их уволили благодаря Джеку, но совсем не из-за наркотиков. Исключительно потому, что они как попало делали свою работу в лаборатории по его проекту с хлорофиллом.
– Правда? Так он в самом деле работал с ними?
– Они следили за ходом экспериментов, отвечали за пробные образцы и «пустышки», а также хранили у себя имена всех добровольцев.
При этих его словах мне не удалось сохранить невозмутимый вид.
– Что такое, Клер?
– Ничего. Я просто… Тебе случайно не удалось что-нибудь выяснить о семьях этих химиков? Я все же хотела бы поговорить с ними, прояснить это дело.
– Да, по чистой случайности мне удалось узнать, где живет одна семья. Но тут нечего дальше прояснять.
– Нет, конечно… – Я аккуратно отклеила этикетку со своей бутылки пива. – А мы не можем позвонить им?
– Клер, эти люди живут в таком месте, где нет телефонов.
– Что, в трущобах?
– На заболоченных землях в восточной части города. Не то чтобы совсем трущобы… но разница очень незначительна.
– Я думала, раз эти парни химики…
Ник перебил меня:
– Мелкие служащие фармацевтической компании. В Индии полно людей с университетской степенью, которые в итоге вынуждены делить один общественный водопроводный кран с двумя сотнями других людей. А у этой семьи, не забывай, больше нет отца, который бы ее содержал. Жена этого химика еще до его увольнения пополняла семейный доход тем, что продавала на городском рынке рыбу, пойманную в болотах. Он опередил мой следующий вопрос. – На рынке ее не видели с тех пор, как исчез ее муж.
Пока мы говорили, лицо Ника снова приняло обеспокоенное выражение.
– Почему ты придаешь так много значения этому делу, Клер?
– Ну, наверно, потому, что Джек – мой родственник. И мне не нравится, что люди выдумают о нем всякое.
– Люди вечно сплетничают.
– Да, но…
В конце концов я снова утомила Ника своими просьбами, и он согласился на следующий день провести со мной пару часов в поисках семьи фармацевта.
– Только одно, Клер.
– Что?
– Ты должна обещать, что предоставишь мне вести все разговоры, когда доберемся туда. Тамошним жителям может не понравиться твой американский акцент. Особенно после всех этих гуркхских беспорядков. В этой части света коммунизм очень силен, а Дядя Сэм не славится доброжелательным отношением к красным. И лучше оставить в гостинице твой фотоаппарат и записную книжку. Никто не соизволит добровольно стать частью твоей реестровой книги. И электричество там может, есть, а может, и нет, а значит, вентиляторов тоже нет, так что надень-ка эту хлопковую пижаму, шальвар-камиз, которую мы купили тебе на рынке в Патне; заодно будешь выглядеть не так заметно. И возьми с собой воды – вряд ли тебе захочется пить то, что нам могут предложить.
Я смотрела в окно такси, и у меня создавалось впечатление, что мы приближаемся к холмистой части Калькутты, что противоречило всем картам города; когда же я наконец разобрала, что это горы мусора, их смрад уже начал просачиваться в машину, несмотря на работающий кондиционер. Я зажала нос и старалась дышать только через рот, и поначалу это довольно эффективно фильтровало ароматы, пока я не начала беспокоиться, что моя неспособность совладать с вонью отбросов и человеческого дерьма свидетельствует о досадной слабохарактерности. Я пыхтела, делая отрывистые неглубокие вдохи через нос, пытаясь забыть о запахе, и тут Ник потрепал мою руку своей здоровой рукой.
– Все это не так плохо, как пахнет, Клер.
Он объяснил, что сюда, в заболоченную часть города, где в 1885 году городские власти приобрели квадратную милю земли для сброса твердых отходов города, теперь сливались и жидкие нечистоты, а также выходили токсичные стоки. Местные жители изобрели оригинальный способ получения прибыли с этих мусорных куч: тысячи собирателей хлама, в основном дети, копались в них и продавали неорганическое сырье, а органические отбросы – все, что не успевали съесть свиньи, рогатый скот и собаки, – постепенно, под действием времени и погоды, превращались в гумус. Когда отложения компоста становились слишком большими, их укатывали городскими бульдозерами, а потом местные фермеры сажали там свои овощи, и урожай продавался на городских рынках.
– Они превращают отбросы в сад? – спросила я, не веря своим ушам.
– Более того. Эта местность также снабжает Калькутту свежей рыбой, которую разводят в запруженных водоемах со сточными водами – бхери, – видишь, вон там. Нечистоты – весьма питательная пища для рыб. И как оказалось, рыба также очень эффективно борется с водными бактериями. Настоящая проблема не в мусоре, а в его нехватке. Жилищное строительство в городе переживает не лучшие времена, и это разрушает всю систему бхери, так что рыба поставляется на рынки очень нерегулярно.
– Рыба? С этих… мусорных полей?
– Ну конечно! – Ник веселился от души. – Но не пугайся. Так называемый Город Будущего в «Диснейленде» во Флориде перерабатывает свои жидкие отходы в подобных озерах. – В его глазах плясали смеющиеся чертики; он упивался каждым поворотом и скачком моих мыслей. – А как можно сомневаться в великом боге Диснее?
Ужаснуться или изумиться?
– Та рыба, которую мы ели на днях…
– Разумеется, отсюда! Если тебе от этого станет легче, я сам вырос на рыбе из этих болот.
Такси высадило нас у края дамбы, проходившей между двух неглубоких озер.
– Вернемся примерно через час, – сказал Ник водителю.
В отличие от обычных индийских таксистов, этот настоял на том, чтобы мы сразу заплатили за первую часть пути; от такого свидетельства неверия в наше благополучное возвращение даже Нику стало не по себе.
Мы зашагали в сторону городка из домиков с покрытыми дерном крышами, расположенного на дальнем берегу озера; это было похоже на путешествие во сне, когда, сколько бы ты ни шел, цель не становится ближе. Мне постоянно приходилось напоминать себе, что самые опасные запахи – это те, которых вовсе не чуешь. Когда мы дошли до поселка, Ник спросил дорогу у двоих мужчин, и они молча указали нам на растянувшийся поодаль беспорядочный лабиринт соломенных хижин, стены которых были покрыты всем, чем только можно, от расплющенных консервных банок до плетеных травяных циновок. Тростниковых циновок, поправил меня Ник: дарма.
– Я думала, это означает судьбу.
– Пишется по-другому. И это не судьба: это установленный общественный порядок, то, как все должно быть, дхарма…
Судьба – этот неопределенный, произносимый с придыханием звук после «д».
Что-то знакомое в бдительной нищете деревни разворошило воспоминания о стоянках для трейлеров, на которых останавливалась моя семья. Как и на тех прибежищах, где трейлеры стояли вплотную друг к дружке, дверьми здесь чаще всего служили занавески из клочков ткани или крытые тростником рамы из бамбука, привязанные к хижине ненадежным куском бечевки; часто лачуги охранялись собаками, чей зад помнил слишком много пинков, собаками, скалившими зубы при нашем приближении. Здесь были люди; мы заметили, как они закрывали двери или исчезали за углом в тесных закоулках, которые Ник назвал «гули»,[46]46
Gully (англ.) – глубокий овраг, промоина.
[Закрыть] – слово из сухой страны каньонов, которую моя семья пересекала по краю долины Монументов, слово, указывающее, что это не рукотворное сооружение, а геологическое обнажение пород, выброшенных наружу каким-то речным смещением пластов в далеком прошлом. Хрупкое и постоянно меняющееся, но все же долговременное.
Ник сказал, что «гули» – англо-индийское слово, обозначающее узкий безымянный переулок. Скорее сточная канава, чем проход.
– Мне оно напоминает глотку, что-то такое, что захлопывается, когда ты глотаешь, – добавил он. – Или гули-гули – как голубей подзывают.
Его рассеянный ответ не сочетался с настороженным видом. Он держался уже по-иному, расправив плечи. Будь он собакой, он бы ощетинился.
Между хижинами было слишком тесно, чтобы идти рядом. Двигаться быстро мы также не могли, так как нам постоянно приходилось обходить струйку открытого водостока, извивавшегося посередине между узкими тропками, словно пересохший ручей, который врезал эти разрушенные гули в окружающий пейзаж. Почти дыша в затылок Нику, я никак не могла избавиться от неприятного покалывания в спине. Подобное чувство беззащитности терзало меня, когда я ходила по улицам возле Эдема после убийства Салли. Чувство, что за тобой наблюдают, идут по пятам.
Мы еще порядочно попетляли, возвращаясь на те же самые места, но вдруг одна из наших тропинок расширилась, образовав пространство размером с маленький дворик, в котором на корточках сидела женщина и доила корову. И женщина, и корова бросали на нас беспокойные взгляды. Ник вежливо обратился к ней – я не понимала, что он говорит, но слова звучали успокаивающе. Я услышала, как женщина пробормотала что-то в ответ. Она махнула рукой еще дальше вглубь лабиринта и вместе с молоком выдавила еще пару замечаний, не поднимая головы, – в отличие от коровы, которая угрожающе выставила на нас рога.
Мы прошли еще немного по переулку, который указала нам женщина, и тут Ник остановился.
– Мне это не нравится, Клер. Думаю, нам лучше вернуться обратно.
– Почему? Эта женщина вроде поняла, о ком ты спрашиваешь. Разве она не сказана тебе, куда идти?
– Не совсем.
– Значит, она не сказала тебе, где живет семья этого парня? Ник?
– Сказала приблизительно. – Он кинул взгляд в ту сторону, откуда мы пришли. – Еще она сказала, что муж этой женщины приезжает к ней время от времени. Он все-таки не скрылся из Калькутты.
– Так это здорово! Может, он будет там!
– Не здорово. У меня создалось впечатление, что люди здесь вовсе не счастливы от того, как ЮНИСЕНС обошлась с его семьей.
Мне не хотелось возвращаться ни с чем.
– Пожалуйста, Ник, может, мы просто найдем эту женщину и…
– И что?
– Мы можем назваться сотрудниками ЮНИСЕНС, сказать, что они сожалеют о том, что она лишилась дохода, можем дать ей денег в качестве компенсации. Пожалуйста, Ник.
Он втянул голову в плечи, дернул подбородком в знак неохотного согласия и снова пошел дальше развинченной тяжелой походкой настоящего мужчины. Я заметила, что свою пластиковую руку он засунул поглубже в карман, скрывая всякое проявление слабости.
Мы нашли жену химика на другом перекрестке, неподалеку; она сидела по-турецки рядом с тростниковым шкафом, на единственной полке которого стояли банки с леденцами немыслимых расцветок. Вокруг нее играли дети, а перед ней на листе аккуратным рядком были выложены самые маленькие рыбешки, каких я когда-либо видела. Едва Ник заговорил с ней, она встала, одним грациозным движением собрала всю рыбу и детей и медленно пошла прочь, стараясь увести свое потомство с собой. Однако было не так-то просто оттащить детей от первого увлекательного зрелища, выдавшегося им за целый день. Яростно сося пальцы, выпучив на меня глаза, явно не желая расставаться с нами, они цеплялись за ее сари, как якоря, тянущиеся вслед за лодкой.
Насколько я могла судить по ее жестам, Ник недалеко продвинулся со своими расспросами. Еще минута, и эта женщина исчезнет в одном из бесчисленных проходов, похожих на сточные канавы, и мы вернемся туда, откуда начали, только чуть больше вспотев.
Подойдя ближе к женщине, не обращая внимания на руку, вытянутую Ником, чтобы остановить меня, я сказала:
– Я родственница Джека Айронстоуна. – Зачем-то я повысила голос, как часто делают глупые люди в разговоре с иностранцами. – Мы пришли от него. Айронстоун. Сотрудник вашего мужа. Он очень сожалеет о том, что случилось с вашей семьей. У нас для вас есть деньги от него. – Я пошарила в сумочке и вынула пригоршню рупий.
– Ты рехнулась! – прошептал Ник, хватая меня за руку.
Женщина попятилась, а дети по-прежнему висели на ее сари. Остался один ребенок, смышленый оборвыш, который уставился на деньги, как голодная одичавшая собака на кость. Догадаться о его возрасте было невозможно.
– Джек Айронстоун, – повторила я мальчику, – ты знаешь его.
Вокруг начали собираться люди. Мужчины преградили путь, по которому мы пришли. Они что-то бормотали, и до нас изредка доносились слова «Айронстоун» и «ЮНИСЕНС» – долетали и тут же снова тонули в сердитом непонятном ропоте. Похоже, имя моего родственника было не такой уж хорошей рекомендацией. Я повернулась к мальчику. Внезапно рука Ника отпустила мою. Я обернулась и увидела, что его окружили и теснят мужчины. Он исчезал в толпе. Мне слышен был его голос, он что-то говорил им, объяснял на каком-то языке, должно быть бенгальском, потому что, ясен пень, это не английский, он указывал на меня, а может, махал мне, чтобы я уходила, не знаю.
Я пыталась втиснуться обратно в толпу, решив, что нельзя терять Ника из виду. Пока я его вижу, все в порядке. Но между нами люди, они встают на моем пути, не то чтобы отталкивая, но и не отступая. Одни лица напряженные и суровые, другие жалкие и лоснящиеся, как поношенная одежда. «Одежда мертвецов» – вот как Робин называл наряды наших родителей, говоря, что, когда доживет до их лет, то никогда не будет носить ничего из секонд-хенда. Только вот он, конечно, так и не дожил до их лет.
Одежда наступавших на меня людей никогда не была новой. Сомневаюсь, что на ней когда-нибудь были ярлыки. Как могут приходить на ум такие вещи за меньшее время, чем надо, чтобы повернуть голову и заметить, как человек поднимает камень?
И увидеть, что Ник исчез. Ушел.
Тут я почувствовала, что у меня выхватили деньги, и увидела белые зубы мальчишки, расплывшегося в плотоядной довольной улыбке: приманка теперь была в его руках.
Казалось, такое не должно происходить под этим ярким, жгучим солнцем. Мгновение назад это было Большое Приключение, и вот все завертелось, происходит прямо сейчас, в настоящем времени. Вон там человек подбирает с земли камень. Я смотрю, будто это бейсболист, вот он отводит руку, замахивается, как подающий.
Меня кто-то хватает за запястье, я пытаюсь вырваться и вижу того самого парнишку, сына той женщины; в одной руке он зажал мои деньги, а другой дергает меня за рукав.
В меня попадает камень. Не сильно. То ли камень не очень большой, то ли целились не слишком тщательно. Но кровь, я чувствую, вот она, тоненькой струйкой стекает по ноге, щекочет кожу.
Мальчик снова тянет меня за собой.
Я иду за ним.
Он идет за женщиной.
Мы ускоряем шаг и переходим на бег.
В меня ударяет еще один камень, уже побольше. Я не оглядываюсь. Не время. Мы быстро заворачиваем за угол, и люди позади нас проносятся мимо, возвращаются, вслед за нами ныряют в то же узкое гули. Теперь уже все бегут быстро, так что нет времени остановиться и поднять камень, поднять палку, а не то раздавит мчащийся позади поток. Мы играем в игру у реки, и правила постоянно меняются. Притоки втискиваются между оврагами и, выходя из берегов, разливаются в широкие каналы.
Как же ее называют, эту игру, как ее называют английские школьники? Пуховы палочки, точно. Из «Винни-Пуха». Мы с Робином выучились ей от отца. Нашего английского папы. Кристофер Робин – назвал он своего сына, поддавшись нетипичному для него порыву ностальгии. Нужно бросить палочки в реку с одной стороны моста. Потом перебежать на другую сторону. И смотреть, какая из них выплывет первой.
Кто выйдет первым? Они нагоняют нас на широких и ровных волнах, но отстают в узких ущельях гули.
Мы бежим сквозь чей-то костер и опрокидываем ведро с молоком – тут только что доили корову, расталкиваем овец, и с каждым выдохом я думаю обо всех просмотренных хрониках последних известий. Названия городов, где бедствия происходят одно за другим. Кажется, что этот громкий стук – топот ног, бегущих за нами. И резкие отрывистые крики, под стать лицам. Но нет, это всего лишь мое сердце и мое дыхание. В боку колет, будто кто-то воткнул туда иголку, проколол меня. Зашил меня. Думаю: «Ник».
А потом мы оказываемся в этом темном месте, идем, спотыкаясь, по лабиринту, где не видно ни зги, только белая одежда мальчика – моего поводыря – маячит впереди, и я знаю все ответы, и все образы сводятся к этому. Свет лишь передержит снимок. Слиться с тьмой.
Я, похоже, потеряла сознание. Жара на меня так действует. Женщина протягивает мне что-то в блюдце, нет, глиняной чашке. Это чай, а грубая чашка трет губы, как наждак. В жизни не пробовала ничего лучше.
Мальчик – ему, может быть, десять, а может, пятьдесят, кто его знает, – высовывает голову из-за матери и спрашивает голосом Майкла Джексона:
– Хочешь посмотреть, как я танцую брейк-данс?
Я нахожусь в крошечной темной грязной комнатушке, не больше кабинки туалета в Штатах, лежу на чем-то вроде скамьи, тоже из грязи, только прикрытой полосатым ковриком, а этот ребенок выносит бумбокс размером с саму комнату, врубает его на полную громкость и принимается танцевать, крутясь на плече, на голове, на указательном пальце. Мать смотрит на него с любовью. Его братья и сестры, все практически голые, если не считать драных штанишек, раскрывают рты от восхищения. Они впервые взяли в плен американку – зрительницу поневоле. Женщина протягивает мне лист с рисом, примерно с чашку, политым сверху какой-то желтой, скрипящей на зубах штукой. На вкус приятно, а мой рот тут же обжигает большое количество чили.
Все дети садятся вокруг на корточки и смотрят, как я ем. Почему они кормят меня? Как долго я здесь нахожусь? Машинально смотрю на часы и обнаруживаю, что их нет. Калькуттский Майкл Джексон щелкает выключателем магнитолы и прислоняется к стене, скрестив руки; он выглядит довольно современно для парня, в футболке которого больше дыр, чем ткани. Он снимает мои часы со своего запястья и возвращает их мне. Циферблат разбит. Время остановилось.
– Короче, – говорит он, – ты хочешь знать о моем папе.
Он закуривает биди, сигарету для нищих, сделанную та табачного листа, завернутого в кусочек ткани. Пахнет так, будто он курит коровий навоз. Кивком показывает на свой: бумбокс:
– Это папа купил. Он скоро достанет нам телевизор. Подожди, вот он узнает про тебя.
Я кашляю, поперхнувшись последней пригоршней риса.
Оказывается, его английский не так хорош, как я подумала вначале. Он весь надерган из видеоклипов и сериала «Я люблю Люси». Он спрашивает меня, не гоанец ли Дези Арнас:[47]47
Арнас Дези – известный актер и музыкант 1940-1950-х гг., исполнитель одной из главных ролен в сериале «Я люблю Люси».
[Закрыть] он похож на португальца, а в Гоа много португальцев. Кубинец, говорю я, Дези родом с Кубы. Один из первых испаноамериканцев, добившихся славы, не отрекшись от своих корней.
Не могу поверить, что веду этот разговор.
Он говорит, что его отец употребляет героин, но недолго, что он ненавидит Джека Айронстоуна и винит его в своем увольнении, хотя не совсем понятно почему. Он говорит, это потому, что его папа что-то знает о Джеке.
– Что он знает?
Его мать шепчет что-то мальчику, и он выдает мне дикий перевод:
– У них уши отваливаются, у некоторых людей.
– Каких людей? Где?
В ЮНИСЕНС, отвечает он.
– Они едят плохие листья, а потом у них уши отваливаются.
Его маленькая сестренка хочет знать, нет ли у меня для нее ручки. Я даю ей ручку, и между детьми тут же разгорается драка. Можно подумать, они в жизни не видели ручек. Скорее всего, так оно и есть. Парнишка забирает ее у сестры и на тыльной стороне ладони старательно выводит свое имя: Сунил.
– Но ты можешь звать меня Сонни, – говорит он мне, – раз уж ты тут с нами шуруешь. Как Сонни и Шер.
Он пошутил. Мы смотрим друг на друга. А потом вся эта каморка взрывается от смеха. Он ходил в местную школу, пока его отец не потерял работу. Тогда ему пришлось бросить учебу, чтобы помогать матери и семье. Я спрашиваю, сколько у него братьев и сестер, а он пожимает плечами, как будто это не имеет значения. Его можно понять. Сложно сосчитать их, когда они все время крутятся под ногами.
Какой-то мужчина отодвигает дверь из тростника и входит внутрь. Снаружи темно. Странно, но я не боюсь. Я знаю, что это не отец Сунила, потому что мне показали его фотографию, где он сидит на стволе дерева, который раздваивается, в обнимку с другим химиком, уволенным в то же время. Ни один из них не похож на человека, которому можно доверить перевести себя через дорогу. Новоприбывший намного старше. У него лицо, похожее на надгробную плиту: длинное, плоское и серое, оно покоится на куче костей. Сидя между мальчиком и этим могильщиком, я думаю, что меня вот-вот похитят, унесут в безопасное место, под покровом темноты и ее возницы-рикши. Помимо всего прочего, меня убедили, что в деревне родственницу Айронстоуиа вряд ли примут с распростертыми объятиями. Еще мне дали понять, что Ник благополучно выбрался, вернулся в такси. Человек с похоронным лицом обещал отвести меня к нему. Не знаю, верить этому или нет. Выбор у меня невелик.
* * *
Н. Сати (Наследие Айронстоун, ок. 1886)
– Один из серии желатиносеребряных отпечатков, приписываемых Джозефу Айронстоуну, – объяснил смотритель, подчеркивая редкость этой фотографии: женщина, сжигающая себя на погребальном костре мужа. Совершает сати. Или он сказал, вступает в сати, не помню.
На переднем плане силуэт мужчины (вероятно европейца), выделяющийся на фоне пламени, ее пожирающего. Невыразительный образ, передержанный снимок, возможно, неподходящая пленка.
*
Рот разинут, настоящее пугало, руки по бокам, ладони наружу. За ним разъяренная толпа. Его спасает только цвет кожи: он белый, или был бы белым, если бы не потеки крови и сажи, струящиеся по лицу. Что он сотворил? Что сотворили с ним?
Он не помнит. Кровь на его лице – ничто по сравнению с волнами крови, приливающими к его голове. Еще одна голова растет у него из левого уха. Он чувствует, как она разрывает плоть его щеки. Краски пляшут перед глазами. Но никто ничего не сделает, никто не видит ее. Обнаженная женщина с загнанными глазами, женщина, которую он смутно помнит, ест то, что мы называем конгривами сэр шведскими спичками сэр их мы называем Люциферами лютерами. Другую женщину он подзывает гули-гули, а она вжалась в тень переулка и наблюдает за ним. Он хочет, чтобы она нашла его, направила на другую дорожку. Она, с ее ясностью, ее ясными глазами, поймет, что надо делать. Он хочет остановиться, но не может. Он хотел стать доктором, лечить в других то, что не смог исцелить в себе. Он колдун с ножом, нож – это волшебная палочка в его руках. Он пытался отрезать вторую голову и увидел, что первая умирает.
МагонюбилиПамальчшдевплякатьМавидитьслыищтьгава ритьМагонюбилиМа
Где рак здесь между ног можно его вырезать? Заперт в темноте, как его сестра, которая еще долго не уходит после того, как стала холодная и плохо пахнет, мамочка, мы здесь заперты, а снаружи только Лютер с его мерками. Будь мужчиной. Стриги стриги стриги волосы и ногти. Составляй перечень, составляй список.