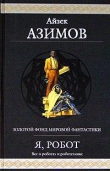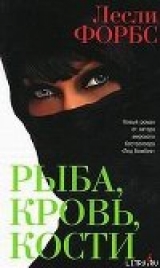
Текст книги "Рыба, кровь, кости"
Автор книги: Лесли Форбс
Жанр:
Триллеры
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 31 страниц)
4
Храм Кали оказался вовсе не таким большим, каким я представляла его себе по путеводителю; он затерялся на милой пригородной улочке, по обеим сторонам которой тянулись фотоателье. Мы оставили такси перед соседним домом, больницей матери Терезы, и вошли на территорию Калигхата через дворик с храмовой лавкой; лавка, предлагавшая большой выбор стеклянных браслетов, красных цветов, светящихся идолов и глянцевых изображений Кали, казалась одновременно и чужой, и знакомой. Величавые жрецы проплывали мимо, словно милостивые божественные покупатели, а собаки со священными метками на лбу поднимали лапы на ступени храма, выложенные викторианской узорчатой плиткой, какая встречается в уборных английских музеев; это производило неожиданное впечатление уюта, которое лишь усиливала погода, характерная скорее для Шотландии, нежели для Индии.
Почти сразу же нами занялся гид – жрец-брамин из храма.
– Я еще в семьдесят втором году помогал американскому историку, – заявил он.
Этот учтивый и неумолимый поставщик неточной информации жаждал показать нам достопримечательности храма, и все наши протесты не смогли поколебать его и заставить уйти. Подобно незнакомцу, встреченному в огромной отчаявшейся очереди в туалет во время театрального антракта, он знал, что нам не удастся сбежать, и не оставил в покое даже тогда, когда я решила испытать его терпение и, остановившись на десять минут, принялась фотографировать свирепую Кали с золотым телом и лицом, покрытым черной эмалью, какой обычно закрашивают повреждения на ржавых автомобилях.
– Кали высовывает язык в знак раскаяния за то, что случайно растоптала своего мужа Шиву, – нараспев произнес наш экскурсовод, – он распростерся у нее на пути, чтобы помешать уничтожить мир.
Я уставилась на черно-золотую богиню в ожерелье из черепов, и она ответила мне пристальным взглядом. Кали не производила впечатления женщины, которая может убить своего мужа случайно. Эта особа жаждала крови. Лелеяла убийство в своем сердце. Она готова была растоптать сколько угодно мужей, чтобы вонзить эти острые клыки в виноватого, того халтурщика-разработчика, который, засидевшись за работой в пятницу вечером и сгорая от нетерпения пойти выпить с приятелями, не позаботился как следует спроектировать женщин, не захотел уделить немно-о-о-ожечко больше времени на мелкую отладку своего творения, прежде чем удалиться на выходные. «Доделаю в понедельник», – пообещал он себе. Но ведь не доделал, верно? Так мы и остались с месячными, родовыми муками, климаксом – хорошенькая упаковка, но скверная модель, вроде кофейников «Алесси», с протекающим носиком и ручкой, о которую обжигаешься каждый раз, как за нее берешься.
Наш культурный посредник, протискиваясь сквозь множество собак и ворон, которые лизали и клевали окровавленный пол, повел нас в огороженный дворик, где этим утром убили козла. Ник то и дело испытующе заглядывал мне в лицо, наклоняя свою красивую голову, чтобы увидеть мои глаза, поймать в них выражение ужаса или отвращения.
– Ну, твое мнение? – спросил он. – Как ты там говоришь – жутко? Это должно быть довольно сильно по твоей шкале жуткости.
Решив сохранить бесстрастный вид, я ответила:
– Ты, похоже, никогда не был в техасских придорожных ресторанчиках, где животных для барбекю закалывают при тебе. Или в баптистской часовне для автомобилистов в Миссисипи. Согласна, там, где я выросла, козел отпущения – это скорее просто словосочетание, а не ваша рогатая тварь, которую приносят в жертву. И все-таки я видала и похуже. И я думала, будет больше нищих. Мой путеводитель о них предупреждал.
Тут подал голос жрец:
– Сейчас для них не время. Туристы в основном приезжают в храм посмотреть на жертвоприношение козла. Так что, если вы хотели нищих, вы немного опоздали.
– Они что, убегают на перерыв попить кофе перед следующим наплывом, так?
– Да, мисс, не без этого.
Хотя он не слышал о сестре Сарасвати, он быстро нашел престарелого жреца, который смог провести нас к ее памятнику – бледному прямоугольнику шлифованного мрамора среди многих других плит, врезанных в мозаичный пол неподалеку от жертвенника. Большинство надписей стерлись настолько, что превратились в едва заметный шрифт для слепых, но на доске Магды текст был еще различим.
– Символ перед ее именем означает «покойная такая-то» по-бенгальски, – объяснил жрец.
Теперь уже все слишком покойно, думала я, опустившись на корточки и проводя рукой по поверхности камня; это не дало мне ничего, никаких озарений, кроме пыли и высохшей козлиной крови на пальцах. Я размышляла о том, как легко могут отвалиться осколки от главного храма истории и кануть в небытие. Их выбросили, вымели, они исчезли в музейном подвале, где позже их найдет какой-нибудь археолог; но он не признает наречие и не заинтересуется их историей. Именно это, решила я, случилось с сестрой Сарасвати. Она просто не вписывалась в грамматику своего времени.
Мы пробыли в храме не больше часа, но когда снова вышли на улицу, то обнаружили, что прежде безмятежная атмосфера накалена до предела. Нашего такси нигде не было видно, а на главной дороге только что возвели баррикаду из камней и ручных тележек, останавливая трамваи и автобусы.
Причину блокады мы услышали раньше, чем увидели: сюда приближалась большая группа кричащих и размахивающих плакатами людей, сейчас они находились примерно в четверти мили от нас. Ник повернулся к старику в белоснежном лунги[35]35
Лунги – индийская одежда, род набедренной повязки.
[Закрыть] и накрахмаленной рубашке «сафари»:
– Что случилось? Забастовка? Герао?
– Это гуркхи с севера Бенгалии, хотят основать свое независимое государство Гуркхаленд, – ответил мужчина, качая головой. – Независимость – проклятие нашего времени. Все нынче хотят быть независимыми. Даже мой сын хочет. А кто тогда будет управлять семейным делом, говорю я ему!
Он объяснил, что воинственно настроенная часть гуркхов, ГНОФ, или Гуркхский национально-освободительный фронт, родом из Непала, давно уже чувствовала себя угнетенной бенгальцами, составлявшими большую часть населения нынешнего севера Бенгалии. Они требовали себе отдельное государство и заставляли каждую гуркхскую семью из приграничных городов отдавать одного сына в их движение. Я заметила свежий призыв «Долой империализм! Защити Гуркхаленд сегодня!», нацарапанный на стене, украшенной рекламой компании по изготовлению напитков, которая утверждала, что является «победителем всеиндийского конкурса манго».
– Надо убираться отсюда, – сказал Ник и потянул меня сквозь толчею обратно, туда, откуда мы пришли.
– Что такое керау?
Он нахмурился.
– Что? А, герао. Это очень опасное калькуттское усовершенствование метода Ганди – многочисленного пассивного сопротивления. Толпа окружает человека и лишает его возможности всякого движения, не касаясь, но угрожая ему. Студенты делают это с преподавателями, служащие с работодателями. Люди, бывало, с ног валились от изнеможения под взглядами своих мучителей.
Толпа вокруг нас тоже начала выкрикивать лозунги в сторону приближающихся демонстрантов. Здоровой рукой Ник взял меня за плечо и привлек к себе.
– Если я скажу: беги – беги, поняла? – прошептал он. – Туда – к храму.
Я повернула к нему лицо.
– Если думаешь, что тебя тут растопчут, как какого-нибудь мученического ангела-хранителя, пока я буду искать безопасное место, то можешь забыть об этом!
– Верно. – Ник сумел выдавить нервную улыбку. – Однокрылый ангел точно не справится с такой толпой. Так что я побегу, а ты будешь защищать меня. Как тебе такой расклад?
Протестующие были теперь не более чем в пятидесяти футах от нас, они держали свои плакаты, как сабли, и толпа, частью которой мы являлись, стала отступать; все пихались, торопясь поскорей убраться. Женщина перед Ником споткнулась и полетела вниз, увлекая его за собой, заставляя упасть на колени. Я повернулась, чтобы помочь ему, и ощутила, как в меня врезается толпа, толкает, словно бревна, пойманные бурным потоком. Я вытянула руку, чувствуя, что теряю равновесие, и внезапно у меня перед глазами встал образ потерянной руки Ника, те крики, что он тогда слышал: «Рука! Рука!» Вдруг из ниоткуда появился наш комичный жрец Кали, теперь уже сама сдержанность; почти не касаясь наших рук, он закружил нас в приливной волне, угрожавшей подмять под собой.
И тут мы оказались внутри и в безопасности.
Происшествие потрясло нас обоих, хотя к тому времени, как мы дошли до отеля, Ник уже настаивал, что выступление было сравнительно мирным.
– Это столица промышленных и политических раздоров. Мы превратили это в искусство.
Прикончив свой третий джин-тоник, он резко опустил стакан на стол и спросил хозяйку, нельзя ли послушать новости по ее радио – аппарату, выглядевшему так, словно последнее, что он транслировал, была «Битва за Англию».
Служба мировых новостей Би-би-си уделила очень немного времени сегодняшним беспорядкам. В стране, где катастрофы измерялись тысячами убитых, наш мятеж мог быть удостоен всего одного абзаца.
– По-моему, говорят, что самые серьезные беспорядки среди гуркхов происходят в районе Дарджилинга и Калимпонга, – сказала я.
– Это-то меня и беспокоит. Ведь именно туда мы направляемся. Попробую-ка я лучше связаться с Джеком. Он и остальные уже должны быть в Калимпонге.
5
Спустя полчаса Ник вернулся ко мне в ресторан; его лицо было напряжено.
– Я не мог дозвониться – ни из отеля, ни из телефонной будки на улице. Телефонистка сказала, что линии не работают – не то умышленно повреждены, не то из-за позднего муссона, они не знают.
– У нас здесь есть еще пара дней. Может, к тому времени их починят.
На следующее утро он снова попытался позвонить Джеку, но безуспешно.
– Что нам делать? – спросила я.
– Не знаю, пожалуй, то, что запланировали. Я попробую еще раз из ЮНИСЕНС. Если линии по-прежнему не будут работать, останется только надеяться, что все гуркхские беспорядки закончатся раньше, чем мы полетим на север.
Наверно, Ник старался казаться спокойным ради меня, но мне не очень-то помогло то, что всю дорогу в лабораторию ЮНИСЕНС он нервно барабанил пальцами по стеклу и то и дело просил таксиста прибавить или уменьшить мощность кондиционера.
– И дом, и фабрика Флитвудов были построены на берегу Ганга, вот здесь, в северо-западной части города, – рассказал нам служащий ЮНИСЕНС, указывая на дом неподалеку, чей изящный греческий силуэт выгодно контрастировал со скупыми, функциональными линиями лаборатории, – так как там было легче разгружать ящики с переработанным опиумом, доставлявшиеся осенью и весной по реке из Патны. ЮНИСЕНС приобрела их в собственность в семидесятых годах двадцатого века, а покойная мисс Александра Айронстоун передала нам в дар все бумаги компании ее матери.
Огибая здание лаборатории, он провел нас в маленький музей.
– Здесь вы видите то. что называют «черной землей», а также «опиумом компании», из-за черного цвета этой массы и связи с Ост-Индской компанией. Семья Флитвудов схожа с «Джардин и Мейтсон», международной торговой корпорацией из современного Лондона и Юго-Восточной Азии: и те и другие первоначально сколотили свое состояние исключительно на опиуме. – В его глазах мелькнул коварный огонек. – Вы знаете, что самый первый мистер Джардин в конце концов умер от страшной и мучительной болезни? Есть суеверие, согласно которому, все, кто занимается опиумом, плохо кончают.
– Над мистером Мейтсоном опиумное проклятие, кажется, не тяготело, – заметил Ник. – Он дожил до девяноста лет, построил себе замок и сделал политическую карьеру.
Служащий кивнул, ничуть не огорчившись, и с безмятежной улыбкой спросил, чем я интересуюсь.
– Я бы хотела просмотреть архивы с тысяча восемьсот восемьдесят пятого по тысяча восемьсот восемьдесят девятый год, – ответила я. – Я ищу какие-нибудь сведения об Уильяме Флитвуде или… или о семье Риверсов. Может, был какой-нибудь доктор Риверс?
Ник странно взглянул на меня:
– Риверс? Почему Риверс?
– Да так, ничего. Догадка. Салли что-то упоминала однажды.
– Возможно, вам лучше начать поиски с книг учета смертности служащих, – сказал клерк. – Там зарегистрированы смерти всех, кто работал на Флитвудов в то время. А вы, мистер Банерджи? Чем я могу быть полезен?
– Я собираюсь сделать несколько фотографий лаборатории, – отозвался Ник, показывая разрешение, выданное нам Кристианом Гершелем перед отъездом.
Поражение, должно быть, было написано у меня на лице, потому что клерк, когда вернулся через час, тут же спросил с нескрываемым злорадством, нашла ли я каких-либо Риверсов.
– Сотни. Но не докторов.
Флитвудская компания вела годовой учет смертности сотрудников все время своей работы, с 1720 по 1890 год, когда Магда продала ее. Я наугад открыла одну из книг, относившихся к 1880-м, чьи листы гусеницы превратили в решето, и увидела длинные ряды Риверсов, записанные каллиграфическим почерком.
– Такое ощущение, что это было общее имя для половины индийцев, которые здесь работали.
Он наградил меня легкой улыбкой:
– Я тоже так думаю. Возможно, это была шутка английского делопроизводителя, неспособного произнести наши имена.
– Почему же вы не сказали мне об этом раньше?
Он и ухом не повел.
– Вы не спрашивали.
– Но…
Его лицо оставалось невозмутимым.
– Вам нужно еще время?
– Нет. Я была бы вам очень признательна, если бы вы сделали копии вот с этого. – Я протянула ему несколько заинтересовавших меня изображений и документов. – И скажите моему другу, когда он закончит, что я пошла прогуляться в дом Флитвудов.
– Дом закрыт, мадам. Когда Магда Айронстоун умерла, он остался государству в качестве музея. С тех пор там не трогали ни одного предмета. Но, к несчастью, на охрану, которая впускала бы посетителей, нет денег.
– Я не собираюсь проводить там инспекцию, – сердито ответила я, – просто хочу размяться.
Трехэтажный, украшенный галереями дом возвышался над наступавшей со всех сторон растительностью примерно в полумиле отсюда; с этого расстояния вполне можно было поверить, что он в целости и сохранности. Через пятьдесят шагов стало ясно, что если какие-либо примечательные викторианские призраки и бродили между колонн на верандах, они уже давно привыкли к общинной жизни индийцев: особняк Флитвудов превратился в трехэтажную бенгальскую деревню. На бывших лужайках паслись стада коз, на перилах развесили стираное белье, а под главным портиком величаво вышагивала белая корова, останавливаясь, чтобы расставить на мраморном полу холла ряд бурых запятых навоза. Внутри было не лучше: там свободно бродили цыплята, козы и коровы, а несколько сквоттеров устроили себе жилье. Молодой человек с радостью провел меня наверх по плавно закруглявшейся винтовой лестнице, ступая босыми ногами рядом с овощами в банках из-под консервов, заменявшими комнатные пальмы.
– Глянь на башню! – сказал он, когда мы вышли на плоскую крышу, и жестом изобразил выстрел из ружья. – В сорок седьмом году бунты из-за раздела. Много убили.
Он толкнул дверь в комнаты на верхнем этаже, и я протерла рукой пушистую от пыли поверхность стеклянного шкафчика. В получившемся окне я разглядела коллекцию рассыпающихся в прах растений и чучел колибри. Такие же шкафчики висели под потолком.
– Вы смотрите еще?
– Нет, этого достаточно.
Потерпев неудачу и перепачкавшись, я прислонилась к парапету раскаленной солнцем крыши и задумалась, это ли моя прославленная история.
– Стеклянный дворец! – Юноша, чувствуя мое настроение, пытался приободрить меня, показывая на останки огромной оранжереи, напоминающей те наброски, которые я попросила клерка отксерокопировать. – Пошли!
Мы с трудом пробрались сквозь заросший сад мимо затхлого прудика, спрятавшегося под пологом пальм, и разбудили древнего сторожа, которого, казалось, обрадовало мое появление. Все формальности свелись к тому, что он спросил: «Ваше имя?» На что я ответила: «Клер Флитвуд», – и была награждена лучезарной улыбкой.
– Мисс Флитвуд! Какое счастье наконец-то вас видеть!
– Вы ждали меня?
– Ну конечно, конечно! Ведь это дом Флитвудов.
– Ах, да. Вы же не хотели сказать…
– Пожалуйста, сюда. Наконец-то вы увидите, как хорошо я сохранил все для вас. – Старик явно заблуждался, но противоречить ему не было смысла.
Воздух внутри был густой и сладкий, словно тропический лес заключили в стеклянные стены, пальмы над нами пробивались сквозь металлическую сетку крыши, как жирафы в кустарнике, а над головой порхали яркие длиннохвостые попугаи, для которых наполнили водой две огромные раковины моллюсков. Я слышала крики девушек, плескавшихся в реке неподалеку, приглушенный стук какого-то водного транспорта, пропыхтевшего мимо.
– Я был здесь всю жизнь, с детства, – гордо произнес сторож. – С тысяча девятьсот восьмого года, когда я впервые приехал сюда с дядей.
– Расскажите мне об этом месте – Стеклянном дворце, как его назвал тот юноша.
– Об этом месте? В этом месте мистер Флитвуд проводил все свои эксперименты.
– Кто здесь работал?
Он лукаво улыбнулся.
– Вы знаете.
Я решила ничего на это не отвечать.
– Сохранились ли какие-нибудь записи?
– Старые записи потеряны или все съедены белыми муравьями, уже давно. Или они у этой новой компании, которая тут появилась.
– ЮНИСЕНС?
– Ха. – Мягкое индийское выражение подтверждения, слово, похожее на короткий язвительный смешок. – У этой дурацкой шпемс-бремс-сенс компании, ха.
– У вас тут много посетителей?
– Никто сюда не ходит. Уже много лет. – Это, впрочем, кажется, не сильно расстраивало его, этого тепличного Рипа ван Винкля. – Но мы всегда держали все для вас наготове.
– Боюсь, вы приняли меня за…
– Он, впрочем, приходил. Тот, другой.
– Какой другой?
Я вдруг заволновалась. Джек?
Мой юный гид уже давно ушел, но старик понизил голос, будто нас могли услышать.
– Вы знаете. – Он загадочно и проницательно смотрел на меня. – Искал вас. Но только один раз, так сказал мой дядя. Так давно. – Он коснулся меня своими иссохшими, костлявыми пальцами, словно по моей руке скользнула веточка, с которой опали все листья. – Тот, кого вы любили.
Спятил, подумала я, прокладывая сквозь джунгли обратный путь к двери, беспокоясь, как бы этот старик, встретивший меня с такой радостью, не открыл мне больше, чем я хотела увидеть, не оказался большой коричневой змеей, исподтишка пожирающей попугаев.
Извилистая дорожка, тянувшаяся от теплицы, когда-то, наверно, проходила сквозь остатки бордюра из цветов, теперь поглощенного грабительскими набегами сорняков; они цеплялись за мою одежду, как безумные намеки того старика. Я надеялась найти рисунок того заброшенного сада с папиной фотографии, «сада Джека», но везде царили хаос и запустение. Я обрадовалась, когда наконец достигла неровного края поляны, на которой стоял дом Флитвудов, а потом увидела Ника, ожидавшего меня на скамье, опоясывавшей большое дерево у реки.
– Где тебя носило? – спросил он.
– Извини, я немного увлеклась исследованиями. Что такое, Ник? Ты как будто встревожен. Это из-за Джека?
Мои слова, казалось, застали его врасплох.
– Что ты имеешь в виду?
– Ты говорил, что собираешься позвонить ему еще раз отсюда.
– А, я думал, ты про… Нет, я не говорил с Джеком. Линия по-прежнему не работает.
– Ты думал, я про что?
Он потряс головой.
– Я тебе потом скажу.
6
В тот вечер за ужином Ник был раздражителен и обеспокоен, и то, что мы делили стол с группой моих соотечественников-американцев, явно не улучшило его настроение. Это были люди того сорта, рядом с которыми мне хотелось заговорить с сильным китайским или русским акцентом. Они без конца обсуждали ужасы Калькутты, нищету, попрошаек, грязь и что «кто-то должен че-то сделать». Кто? – чуть не спросила я. Может, дядя Сэм, который так хорошо постарался в Лос-Анджелесе и Детройте? После того как они ушли, я быстро сказала Нику:
– Слушай, надеюсь, ты не думаешь…
– Что? Что не думаю?
Слыша боль в его голосе, я хотела сказать ему, как сильно мне нравятся он и его город, нравятся за все то, в чем они не походили на меня и на то, к чему привыкла я. Именно отличия Индии так привлекали меня, эта способность Ника быть уверенным и чувственным в той мягкой манере, какую я встречала у немногих американцев и англичан. Что-то такое, что даже американцы не могут выложить при всем народе. Я испытывала к нему эту ужасную, безнадежную нежность, и лучшее, что я могла сделать, это спросить:
– Ты когда-нибудь тоскуешь в Лондоне по Калькутте?
– Тоскуешь? – переспросил он, словно я попросила его показать регистрацию в британском паспорте. – Я могу тосковать по какому-нибудь месту, но необязательно по этому.
Город, где он имел две руки, подумала я, бросая быстрый взгляд на его протез и тут же отводя глаза.
– Мне жаль, что так вышло с этими людьми. Все, что они говорили, было… вздором…
– На самом деле я разделяю чувства наших удалившихся друзей касательно нищеты и коррупции среди индусов. – На его лице застыла недобрая улыбка. – Индусов, которые и в сравнение не идут с американцами, со всеми их соединенными историями о прекрасном далеке. Американцами, которые спустя шесть месяцев после получения грин-карты уже готовы вступить в ряды этой безупречно чистой цепочки мотелей, Америки Инкорпорейтед, акционерного общества «Америка», где вся еда – это «Макдональдс», а все культуры упакованы в крохотный «Диснейленд».
Я открыла рот и снова закрыла, успокаивая себя, что он все еще говорил с теми, другими, которые ушли.
– И потом все эти американцы тянутся к знаменитому, оригинальному, необычному, – продолжал он. – И что случается, когда они находят необычное? Они наклеивают на него этикетку, пускают в продажу, нарезают на маленькие порции и превращают в надписи на футболках. Создают логотип. Даже их имена – ты когда-нибудь замечала, как много американцев носят имена вроде Брэд Браун-младший или Даррен Смит Второй? Даже свои имена они превращают в сеть магазинов. В их роду еще и перерождений столько нет, сколько у нас, а уже уверены, что все их ранние воплощения несут в себе что-то героическое, что достойно храниться в веках.
Я сделала глоток, по-прежнему пытаясь не принимать его замечания на свой счет. Пиво имело отвратительно кислый вкус.
– Ты, похоже, много размышлял о пороках американцев, – сказала я, ненавидя дрожь в своем голосе.
– Сказать по правде, если Америка такая расчудесная, то я не понимаю, почему американцы вообще куда-то уезжают.
Внезапно пожалев о своих словах, Ник потянулся через стол и накрыл мое запястье здоровой рукой.
– Это не про тебя, Клер. Я не хотел ранить твои чувства.
Я высвободила руку.
– Нет, ты просто хотел сказать, что мне здесь не место. Вероятно, ты прав. И все-таки вот она я, здесь, и вся вспотевшая. Так что, пожалуй, поднимусь наверх посмотреть, удастся ли выжать хоть немного воды из крана Старого Света.
Он откинулся на спинку кресла, нарочно увеличивая расстояние между нами, и скрестил руки за головой.
Осторожно отодвинув стул, чтобы тот не издал какой-нибудь пошлый американский скрип, я встала и пошла в свою комнату, где несколько минут сидела на кровати, отчаянно жалея себя. Потом приняла ванну примерно в дюйме едва теплой ржавой воды, взяла фотоаппарат, вышла на шумные улицы и занялась тем, что у меня получается лучше всего. Когда через час я вернулась, Ник ждал меня в баре; он был слегка пьян и очень раскаивался.
– Прости, Клер. Я просто беспокоился из-за этой заварушки в Калимпонге, и к тому же… Джек…
– О чем ты? Что там с Джеком?
Он с трудом подбирал слова, стараясь преподнести все так, как сам этого хотел.
– Я поговорил с кое-какими ребятами из лаборатории ЮНИСЕНС, они сплетничали, не зная даже, что я знаком с Джеком… Они думают… То есть ходят слухи… – Он замолкал и начинал снова, как машина с испорченным карбюратором.
– Какие слухи?
– Уволили пару химиков помельче… Эти парни утверждали, что их уволили по подозрениям в контрабанде героина, по мелочи…
– Так, как предполагал Бен? В образцах мыла? Он удрученно кивнул.
– А Джек какое отношение имеет к этому?
– Никто и не говорит, что Джек… В опиум я бы еще мог поверить – Джек всегда оставался старым хиппи и авантюристом, это было бы в его духе. Но не героин.
– Так какая связь между ним и уволенными химиками?
– Кто-то намекнул, что он работал на калькуттской фабрике ЮНИСЕНС в то время, когда там никого не должно было быть… и в то же самое время там находились эти люди. – И поспешно добавил: – По-моему, это просто грязные сплетни, потому что Джек здесь – чужак, британец. Опять эти «мы» и «они».
– И все? В этом все обвинения?
– О, ну есть еще всякие россказни, их не стоит повторять.
Что бы там ни рассказывали, Нику от этого явно было неуютно. Его палец чертил ряды полосок на пыльном столе. Удары в Джека, подумала я; прутья решетки, заточающей его.
– Сам Джек объяснил свои задержки в лаборатории тем, что работал сверхурочно над экспериментами с хлорофиллом и должен был изучить оригинальные записи Флитвуда, которые ЮНИСЕНС не разрешает выносить из библиотеки.
– Звучит разумно. – Мне удалось втиснуть свое лицо в ободряющую маску, запихнув внутрь края подозрений и с силой нажав на улыбку, – так пытаются закрыть объемистый чемодан, сев на него. – Почему никто не сообщил в английскую ЮНИСЕНС?
– Подозреваю, по той же самой причине, по которой они первым делом заподозрили Джека: он друг директоров.
– Когда уволили тех людей?
Он быстро поднял глаза, затем вновь опустил взгляд на свои узоры в пыли, отгоняя от себя мрачные мысли.
– В конце прошлого сентября.
– Как вы вообще заговорили о Джеке, если этот случай был в прошлом году?
– Из-за моего собственного тщеславия. Они дразнили меня моей работой, и я спросил их, слышали ли они о Джеке Айронстоуне и Ксанаду, надеясь немного прихвастнуть тем, что участвую в серьезной научной экспедиции, – убого, конечно. Не успел я упомянуть, что состою в команде, как один из ассистентов, очень неприятный парень, начал отпускать ехидные замечания о настоящих мотивах Джека, побудивших его отправиться в горы. Ну и слово за слово…
Он умолк, когда появился официант, принесший блюдо с закусками – бледно-серого цвета и слегка пористыми, словно хлопья вареной губки.
– Что это, по-твоему? – прошептала я Нику.
Он понюхал блюдо, которое шваркнули перед ним на стол с обычной «грацией» и «шармом».
– Не уверен, но подозреваю, что свиные обрезки.
– Те самые кусочки свиной кожи и жира, которые едят в барах англичане?
– Довольно странная закуска для ужина, ты права, особенно в стране, где живет едва ли не больше всего мусульман в мире. – Он сунул один кусочек в рот и скривился. – Но это именно они. Отвратительно.
Теперь я, кажется, спокойно могла продолжить свой допрос:
– А можно найти тех людей, уволенных из ЮНИСЕНС?
– Один из Северного Бутана, другой из Аруначал-Прадеш, что на границе между Тибетом и Бирмой.
– Аруна… – Я запнулась на незнакомом названии.
– Аруначал-Прадеш, один из северо-восточных гористых штатов. Что-то вроде Золотого треугольника в Бирме – множество отдаленных нагорий, недоступных политическому вмешательству. Его населяют очень независимые полукочевые горные племена, для которых, как утверждают ребята из ЮНИСЕНС, опиум стал весьма ценным источником дохода.
«Неплохой кормилец», – вспомнились мне слова Джека.
– Если они полукочевые, то когда они умудряются выращивать опиум?
– Подсечно-огневое земледелие на просеках в джунглях. Химики из ЮНИСЕНС говорят, что один из уволенных принадлежит к племени, которое продает опиум-сырец странствующим китайским контрабандистам, выдающим себя за тибетцев или бутанцев. Потом эти контрабандисты продают товар наркоторговцам, которые перерабатывают его в героин. Разве что в нашем случае его перерабатывает кто-то из ЮНИСЕНС.
– Мы не можем расспросить этих уволенных или их знакомых? Не может быть, чтобы они работали в одиночку.
Вороны над нами кричали «йи-ваа! йи-ваа! йи-ваа!» – настоящий съезд туговатых на ухо гробовщиков, жадно следивших за нашим разговором.
Голос Ника звучал почти недоверчиво.
– Мы не сыщики, Клер! В любом случае опиумные банды довольно почитаемы в этой части света. Химики из ЮНИСЕНС почти с завистью вспоминали Хун Са – это главный поставщик опиума в Золотом треугольнике, и он же, вероятно, отвечает за большую часть героина, сбываемого в Нью-Йорке. На деньги от продажи опиума он организовал целое мини-государство со школами, больницами, местной промышленностью. Он собирает собственную форму налогов с контрабанды тикового дерева и драгоценных камней и гордится своей коллекцией редких азиатских орхидей. – Ник замолчал, увидев, что мимо проплывает хозяйка «Радж-Паласа» со своей ежевечерней порцией розового джина.
– Просто срам с этими орхидеями. – Она остановилась, чтобы поделиться с нами своим мнением. – Ах, мои дорогие, раньше можно было взглянуть на деревья в Бутане и увидеть, как орхидеи озаряют их веточки, точно рождественские фонарики. А теперь, говорят, уже ничего этого нет. Как это печально. Люди испортились, они все что угодно сделают ради денег. И весь этот орхидейный бизнес в Калимпонге – сплошное надувательство. Якобы в питомниках по-прежнему разводят орхидеи, а на самом деле все цветы воруют. Ну да, когда Бутан так жутко нуждается в деньгах, а эти мерзкие япошки готовы выложить двадцать пять тысяч долларов за цветок, чего еще можно ожидать?
Ник подождал, пока она не удалилась обратно в гостиницу, и только потом продолжил:
– Я не хочу слишком тщательно вникать в это дело, Клер. Кто знает, были ли те двое единственными в ЮНИСЕНС, кто принимал в нем участие?
– Ты можешь навести справки, есть ли у них здесь, в Калькутте, семьи?
– И что тогда? Думаешь, их семьи расскажут нам больше?
– Я могу пойти и поспрашивать в ЮНИСЕНС, если ты не хочешь. Люди из лаборатории не знают меня в лицо. Только так мы сможем очистить имя Джека.
– Его и не нужно очищать. Это все просто злостные сплетни, я уверен.
Он, впрочем, не был так уж сильно уверен, потому что еще через несколько минут моего зудения ворчливо согласился провести весь следующий день в поисках.
– Это означает, что тебе придется ехать одной в ботанический сад. Ты справишься сама, если я уверюсь, что у тебя надежный водитель?
Я откинула прочь все сомнения, связанные с гуркхами.
– Со мной все будет в порядке. Хозяйка сказала мне, что в Калькутте вообще никто бы никуда не ходил, если бы такие мелочи останавливали.
В ту ночь я взяла почитать перед сном один из двенадцати дневников Магды, которые привезла с собой в экспедицию. Поймите вот это, как будто пыталась сказать она, и вы поймете собственную судьбу. Бесплодное обещание столь многих историков: мало что в ее дневниках могло рассказать мне о моей семье и связать ее с Салли Риверс. Стиль Магды то и дело менялся от философского к развлекательному, а подчас энциклопедическому, но за холодной прозой ученого и красочными воспоминаниями об ушедшем веке сама женщина оставалась неуловимой. Почему? Память не музей, где нужно избавиться от одного предмета, чтобы освободить место для другого. На самом деле все мы до определенной степени корректируем наши воспоминания; изымаем из них те действия, которых стыдимся, пропускаем то, во что слишком больно вглядываться, проживаем наши жизни заново, обращаясь к прошлому. Но как автор дневника выбирает, что скрыть, а чем поделиться?