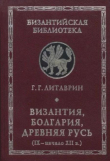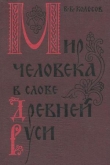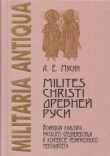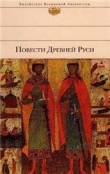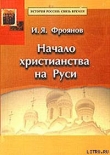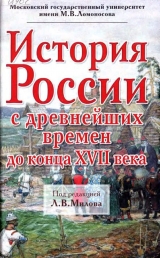
Текст книги "История России с древнейших времен до конца XVII века"
Автор книги: Леонид Милов
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 38 (всего у книги 55 страниц)
События Смутного времени еще долгие десятилетия сказывались в различных сферах жизни общества и государства. Особенно тяжелы их последствия как по глубине и масштабу проявления, так и по темпам преодоления были в хозяйственной сфере. Результатом разорения страны стал глубокий кризис в земледелии. Наиболее пострадали территории активных военных действий, уезды, лежащие к югу, западу, северо-западу от Москвы, так называемые заоцкие, рязанские, украинные города, и города от «немецкой украины». Запустевшая пашня во всех уездах России составила не менее 2 млн десятин. Во многих районах Замосковного края, исторического Центра государства, в 1614–1616 гг. по сравнению с концом XVI в., когда еще не были до конца преодолены последствия предшествовавшего хозяйственного запустения, размер пашни уменьшился более чем в 20 раз, а численность крестьян и бобылей более чем в 4 раза. В западных Верейском, Ржевском, Можайском, Старицком, Звенигородском, Рузском уездах обработавшая земля составляла от 0,05 до 4,8 %. Вотчины Иосифо-Волоколамского монастыря, расположенные в этих уездах, даже много лет спустя «все до основания разорены и крестьянишка с женами и детьми посечены, а достольные в полон повыведены, и монастырь был за Литвою разорен совсем… а крестьянишков десятков 5–6 после литовского разорения полепились и те еще с разорения и хлебца себе не умеют завесть». Спустя 8 лет во всех вотчинах монастыря посевы ржи были в 16 раз меньше посевов 1595 г.
Создаваемые с целью учета и податной оценки земли писцовые, дозорные книги конца 10 – начала 20-х годов содержат немало примеров полного запустения и разорения целых уездов. Нередки в них и такие описания деревень: «…а в тех пустошах по книгам пашни лесом поросло в кол и в жердь и в бревно… в том поместье и во всей волости и около тое волости верст по двадцети и по тридцати и по сороку и больше жильцов нет ни одного человека и тем поместьем ныне не владеет нихто, пусто, все лесом поросло».
Для этого периода характерно многократное увеличение перелога за счет сокращения пахотных угодий. Зафиксировано также резкое возрастание пашни «в наезд». Этим термином обычно обозначали полевые пашни запустевших деревень или починков. Подмеченные в источниках явления свидетельствовали о происходившей архаизации системы земледелия в районах, подвергшихся наибольшему разорению (например, поля иногда даже не боронили), а также отражали изменение структуры феодального хозяйства. При общем сокращении населения наблюдался также рост числа бобыльских дворов. В некоторых районах до 75–80 % крестьян в силу хозяйственного разорения стали бобылями, поскольку уже не имели возможности выполнять натуральные повинности и платить подати. Показателем глубины аграрного кризиса этих лет является и медленный выход из него. В ряде районов к 20—40-м гг. населенность была ниже уровня XVI в., что препятствовало восстановлению прежних размеров обрабатываемой площади земли. Даже в середине столетия «живущая пашня» в Замосковном крае составляла лишь около половины всех учтенных писцовыми книгами земель.
Затяжной характер восстановительного процесса определялся отмеченными выше объективными условиями существования земледельческого хозяйства на основной хлебопроизводящей территории страны. Большая часть урожая по-прежнему выращивалась на бедных подзолистых почвах центральных и Замосковных уездов, урожайность которых не превышала сам-2 – сам-3. Это была зона рискованного земледелия, где природно-климатические условия не только препятствовали интенсификации земледельческого хозяйства, обрекая его на простое воспроизводство, но зачастую и вовсе сводили на нет титанические усилия крестьянина.
§ 3. Финансовая система и налоговая политикаОпустошение страны, упадок земледелия, резкое сокращение численности крестьян, стихийное перераспределение податного населения серьезно сказались на состоянии государственного хозяйства. 1Пустая казна и расстроенные финансы – вот с чем сразу же столкнулся новоизбранный царь Михаил ФедоровичЛВ одном из выступлений на Земском соборе первых лет царствования Михаила нарисованная в нем общая картина выглядела удручающей: «…а в государеве казне денег и в житницах хлеба нет, потому иных городов посады и уезды и волости от полских и от литовских людей и от русских воров… разорены, и люди побиты, и денежных доходов в государеву казну взяти не с кого…» Между тем на все нужны были деньги: на усмирение не сложивших оружие отрядов казачьей вольницы, на борьбу с не желавшим отказываться от Московского царства польским королевичем Владиславом, жалованье служилым людям, усиление границ государства, укрепление центральной и местной власти, на сыск посадских закладчиков, беглых крестьян и многое другое.
Попытки сбора налогов по старым писцовым книгам для разоренных местностей оборачивалось непосильным бременем, что, впрочем, понимало и правительство, посылая в разные места дозорщиков в целях выяснения реальной картины состояния земельных угодий, их запашки и платежной способности населения. Правда, в 10-е гг. XVII в. в условиях катастрофического падения налоговых поступлений в казну центральные учреждения нередко игнорировали данные дозорных обследований, требуя платы податей с запустевших земель. При существовавшей тогда поземельной системе прямого налогового обложения, в основе которого лежало так называемое сошное письмо, решающим показателем тяглоспособности был размер действующей пашни, или «пашни паханой», «жилого». Однако учитывался также и резерв пашенных угодий, так называемого пустого, в виде запущенной в перелог земли и пашни, поросшей лесом. Зафиксированные в писцовых книгах площади хозяйственных угодий затем оценивались в единицах «сошного письма» – сохе, выти. «Соха» была фискальной единицей, содержащей количество зерна, требуемого для засева определенного участка пашни и измеряемого «четвертью бочки». Количество «четвертей» в «сохе» зависело от качества земли и категории владельцев этой земли. На служилых поместно-вотчинных землях со второй половины XVI в. «соха» содержала в себе 800 четвертей (400 десятин) доброй, или 1000 четвертей средней, либо 1200 четвертей худой земли. На церковных и монастырских землях норма «сохи» составляла 600 четвертей доброй земли, 700 средней и 800 худой. На землях, заселенных дворцовыми и черносошными (государственными) крестьянами, в «сохе» было 500 четвертей доброй земли, 600 средней и 700 худой. Очевидно, что наивысший размер податей падал на дворцовые и «черные» земли, а наименьший приходился на дворянско-боярские владения – для них количество земли, положенное в «соху», было наивысшим.
В первое десятилетие после Смуты все прямые налоги взимались с земли, т. е. на основании «сошного письма». В их числе были «данные и оброчные деньги», объединявшие различные сборы, восходящие еще ко временам княжеской дани и поборам, заменившим в XVI в. наместнические кормы. Старинная ямская повинность, прежде отбываемая только в натуральном виде, теперь для владельческих крестьян и посадских людей была заменена денежными сборами – ямскими деньгами. Население дворцовых и «черных» земель по-прежнему несло ямскую гоньбу в натуре. В 1618 г. оклад ямских денег составлял 800 руб. с сохи. Продолжались взиматься введенные в XVI в. на выкуп пленных так называемые полоняничные деньги.
Во втором десятилетии XVII в. к прежним добавились новые подати и сборы. В 1614 г. впервые был объявлен сбор стрелецкого хлеба – налога, идущего на жалованье служилым людям. Он брался со всех категорий земель натурой или деньгами. При общей тенденции роста всех налогов особенно прогрессировала стрелецкая подать. С 1630 по 1663 г. стрелецкая подать выросла в 10 раз. Это было связано с увеличивающимися военными расходами государства и постоянным возрастанием численности стрелецкого войска.
Опора на постоянные налоги оказалась недостаточной, и правительство встало на путь чрезвычайных мер – введение запросных и пятинных денег. Если запрос был добровольным займом, к которому правительству в 1613 г. призвало крупные монастыри, именитых людей Строгановых, служилых людей, то пятина представляла собой чрезвычайный обязательный налог, равный пятой части движимого имущества и доходов тяглеца. Этот сбор, впервые введенный по решению Земского собора в 1614 г., возлагался главным образом на гостей, торговое и посадское население, а также черносошных крестьян. Сначала сборщиками являлись рассылаемые по городам пятинщики, а позднее местные выборные люди, хорошо знавшие «животы» своих земляков. Плательщикам за неверные сведения о доходах, а сборщикам за злоупотребления при определении оклада и при взимании пятинных денег грозили «великая опала» и «смертная казнь». В течение 1613–1619 гг. всего было семь сборов – один запрос и шесть пятин. Постепенно пятинные деньги превратились в дополнительный налог, падавший на «соху» в сумме от 120 до 150 руб.
Проводившиеся в разных районах дозоры подготовили новое общее писцовое описание, осуществленное в 20-х гг. В него вносились сведения по всем населенным пунктам уезда с данными о количестве тяглецов, принадлежавших им дворах, землях, угодьях, промысловых и торговых предприятиях. Следствием нового описания явилось значительное уменьшение сошных окладов с посадов и уездов в районах частного землевладения. Там же при составлении писцовых книг повсеместно реализовывался новый принцип исчисления оклада, за основу которого бралась не площадь «пашни паханной», зачисляемой писцами в тягло, а так называемая живущая, или дворовая, четверть, состоящая из определенного количества крестьянских и бобыльских дворов. Сумма дворов и их сочетание в «живущей четверти», а следовательно, итоговый сошный оклад (четверть доброй пашни составляла 1/800 часть «сохи» на землях светских феодалов и 1/600 часть на церковных и монастырских землях) определялись в Поместном приказе и утверждались царем. Они были различными для разных уездов и категорий землевладения, например на светских землях по 8– 12 дворов крестьянских и 4–8 бобыльских; на церковных землях по 6–9 крестьянских и 3–6 бобыльских дворов. Как правило, при определении налогоплатежности один крестьянский двор приравнивался к двум бобыльским. Таким образом, в нашем примере и 10–16 крестьянских дворов в светской вотчине, и 7,5—12 дворов у церкви платили одинаковый налог, т. е. в монастырской вотчине в расчете на двор налог был на 25 % больше. Вместе с тем этот принцип позволил правительству найти способ привлечения в тягло бобыльской категории крестьянского населения, прежде традиционно исключаемой из системы «сошного» оклада (бобыли лишь платили фиксированный оброк). Отныне на бобылей возлагалась подать, хотя и в половинном по сравнению с крестьянами размере. В условиях массового перехода крестьян по всей разоренной стране на положение бобылей реформа системы налогообложения становилась жизненно необходимой.
Следующий этап в системе налогового обложения связан с проведением в 1646 г. новой общей переписи населения. На этот раз в ходе нее особое внимание было обращено не на земли, угодья и промыслы, а на население, причем вне зависимости от его возраста и отношения к тяглу. В итоге впервые учету подлежали все лица, не имевшие своего хозяйства, а жившие в домах тяглецов, за их «хребтом» («захребетники» и «соседи и подсоседники»). В ответ на многочисленные челобитья служилых людей в переписные книги заносились также беглые крестьяне, ушедшие со своих мест в течение действовавшего в это время 10-летнего срока урочных лет. Тем самым переписные книги, как и книги писцового описания 20-х гг., становились основанием их крепости и возврата прежним владельцам. В финансовом отношении правительство использовало переписные книги 1646 г. для подворного собирания «запросных денег» на военные нужды и «полоняничных» денег.
Осуществлявшийся на протяжении десятилетий постепенный переход к подворному обложению был завершен в 1679 г., когда двор стал окладной единицей при исчислении важнейшего из прямых налогов – стрелецкой подати. Единый налог, помимо собственно стрелецких денег, включил данные, оброчные, «полоняничные» и все мелкие сборы. Отныне двор становился счетной единицей при определении суммы оклада стрелецких денег, падавших на тот или иной посад, уезд или волость. Его величина устанавливалась по уточненным данным новой валовой переписи 1678–1679 гг. Разверстка же оклада по тяглецам осуществлялась, как и прежде, на основании мирской раскладки «по животам и по промыслам» при сохранении принципа коллективной ответственности мира за исправность платежей. Эти традиционные основы податных взаимоотношений власти и налогоплательщиков хоть как-то позволяли правительству собирать налоги, размер которых никак не ориентировался на тяглоспособность населения. Тяглые же общины в условиях возрастающего податного пресса использовали эти принципы в качестве защитного механизма от полного разорения. Тем не менее наличие хронических недоимок, несмотря на всю жестокость их выколачивания при помощи правежей, было неискоренимым явлением. Правительство время от времени вынуждено было их прощать, но недоимки накапливались вновь. Налоговая реформа сопровождалась списанием недоимок по старым окладам. Ставки стрелецких денег, падавших на двор как окладную единицу, как и при сошном обложении, были различны – рубль, полтора и выше.
§ 4. Феодальное землевладение и хозяйствоПравительство первого Романова не только восприняло от своих предшественников, но и значительно усилило двщэянский характер налоговой политики.
В условиях хозяйственного запустения правительство, стремясь поддержать хозяйство служилых людей, т. е. дворян, поверстанных поместьями и составлявших ядро военных сил Московского государства, осуществляет массовую раздачу земель. Поместья требовались служилым людям из уездов, отошедших к Польше по Деулинскому перемирию, а также особенно пострадавших во время военных действий. Массовыми земельные раздачи становятся сразу после освобождения Москвы от интервентов. Наиболее активно они шли в 20-х, а во второй половине столетия – в 80-х гг. Их фондом были черносошные, т. е. государственные земли, которые к началу XVII в. еще оставались в Замосковном крае, в Новгородской и Псковской землях, господствовали в Поморье, в Вятском и Печорском краях, имелись в Заоцком, Тульском районах, Поволжье. К середине XVII в. землевладение «черных» волостей центральных уездов поглощается феодалами. В руки дворян, особенно приближенных к царскому дому, поступают также земельные фонды из дворцового ведомства. Показательны, например, темпы роста населенных земельных владений царского «дядьки» Бориса Ивановича Морозова, ставшего главой правительства с воцарением Алексея Михайловича (1645–1676). Если в 1638 г. он владел 330 крестьянскими дворами, то в 1647 г. их число возросло до 6034, а в начале 50-х гг. значительно превысило 7 тыс., а число крестьян достигло 34 тыс. душ мужского пола. Его землеи дворовладение складывалось благодаря щедрым пожалованиям бывшего воспитанника. Но к концу века Морозовы владели лишь тремя тысячами душ мужского пола.
Важным моментом в географии феодального землевладения явилось проникновение дворянского землевладения в область Дикого поля, осваиваемого крестьянством и служилыми людьми по прибору, т. е. в украинные и польские города. Однако до 70—80-х годов XVII в. в этих районах не было большого дворянского землевладения. Это объясняется как отсутствием здесь достаточного крестьянского населения, так и политикой правительства. В целях защиты землевладения служилых «по прибору», игравших важную роль в обороне южных границ государства, правительство пресекало проникновение крупного феодального землевладения в южные, пограничные со степью уезды.
Земельная политика царя Михаила Федоровича (1613–1645) ставила своей задачей стеснить свободное обращение земель между служилыми людьми. Пока основу вооруженных сил составляло дворянское ополчение и была потребность в сохранении городовой корпорации служилых людей как основы организации поместного войска, правительство издает указы, запрещавшие московским чинам приобретать земли на южной окраине государства (1637) и переход поместий и вотчин уездных служилых людей к служилым людям думных и московских чинов (1639). В 40-х гг. правительство даже отписало все поместные и вотчинные владения столичных людей и монастырей, расположенные в южных пограничных уездах, компенсировав их потерю за счет земли в других местах.
В 70-80-х гг. с постепенной заменой поместной армии полками нового строя и обеспечением безопасности южных границ в вопросах землевладения прослеживаются новые тенденции: земля становится предметом купли-продажи и таким образом переходит из рук в руки, меняя владельцев, а затем и статус. Служилые люди столичных и других чинов «по отечеству» после появления засечных черт начинают приобретать в южных уездах «порозжие» земли, покупать и менять земли приборных служилых людей и захватывать их насильственно. Сюда они переводят из своих замосковных владений крестьян, испомещают беглых и закабаленных приборных служилых людей. Становление на южных землях крепостнического хозяйства было характерной чертой развития феодального землевладения во второй половине XVII в.
Эволюция форм земельной собственности.В XVII столетии существенные изменения происходят в структуре земельной собственности. Особенно ярко это проявлялось в превращении поместья как обусловленного службой землевладения в наследственное вотчинное владение. Поместный принцип владения землей, ограниченный сроком несения исправной службы, противоречил хозяйственным интересам землевладельцев, а следовательно, и фискальным запросам казны. На практике поместье сохранялось за служилым человеком не только до его смерти, но и в дальнейшем обычно передавалось его сыновьям.
Важным шагом на пути обретения поместьем статуса вотчины стали указы 1611–1618 гг., запрещавшие передачу освободившихся поместий кому-либо, кроме родственников прежнего владельца. В результате их практической реализации сформировался новый взгляд на поместье как владение родовое. В 1634 г. это прежде чуждое поместью понимание получило юридическое закрепление в новом термине «родовое поместье». Возникает право «прожиточного поместья», по которому вдова или дочь получала часть поместья в личное прожиточное пользование. Указ 1642 г. запрещал вдовам служилых людей передавать их «прожиточное» поместье в чужой род.
В XVI в. в целях уменьшения чересполосицы поместных владений и более эффективного их хозяйственного использования допускалась мена земельных участков, но при условии равенства их размеров и качества. Менять можно было «четь на четь», «жилое на жилое» или «пустое на пустое». В XVII В.усилилась мена землей, причем уже без соблюдения ограничительных условий, и ее купля. В 1674 г. право продажи своих поместий получили отставные помещики и вдовы. Не отказываясь в принципе от поместной формы наделения землей, правительство уступало требованиям дворянства и предоставляло им большую свободу в распоряжении поместьями.
Одновременно закрепляются новые каналы приобретения вотчин. В разные годы правительство, награждая служилых людей за «осадное сиденье» 1610 и 1618 гг., по случаю завершения войн и заключения мирных договоров осуществляло массовые пожалования поместий в вотчины, а также, нуждаясь в деньгах, прибегало к продаже для поместных земель прав вотчины («продать в вотчину»). В итоге, помимо вотчин жалованных, появились выслуженные и купленные. В целом вотчинное землевладение по темпам роста намного опережало поместное: за 20—70-е гг. XVII в. удельный вес поместий упал с 70 до 41 %.
В то же время численность вотчинного фонда в эти годы мало изменилась. В 1627 г. общее количество вотчин достигло семи с небольшим тысяч. В 1646 г. их численность сократилась до 6,8 тыс. И только к 1678 г. массовые раздачи и перевод в вотчины увеличил этот фонд до 10 тыс. вотчин. Вместе с тем сильно изменялась населенность вотчин. Количество крестьянских дворов в вотчинах в 1627–1646 гг. возросло с 78 тыс. до 127 тыс., а к 1678 г. – до 154 тыс. крестьянских дворов. Динамика населенности самих дворов еще более резкая. В 1627–1646 гг. был рост с 94 тыс. душ мужского пола до 341 тыс., а в 1646–1678 гг. – до 586 тыс. душ мужского пола. Вместе с женским населением это составляло около 1,2 млн человек. Важно отметить, что в общем количестве вотчин в середине и конце столетия преобладали мелкие вотчины с ничтожным количеством крестьян. В 1646 г. число владений с населением от 1 до 10 дворов составляло 65 %, а в 1678 – 72 %. В среднем же в каждой вотчине было около 5 дворов, а мужского населения в 1646 г. – около 13 душ мужского пола, а в 1678 г. – около 20 душ мужского пола. Возможно, многие вотчинники имели еще и поместья. Число же крупных вотчин было сравнительно невелико. В 1646 г. их было около одной тысячи при среднем размере в 78 дворов (214 душ мужского пола). В 1678 г. количество их возросло почти до 1400 вотчин, каждая из которых имела в среднем 90 дворов (около 300 душ мужского пола). Однако крупнейшие землевладельцы имели вотчины во многих уездах и резко выделялись количеством своих крепостных. Ряд знатнейших родов с середины века резко увеличили число своих крепостных (Голицыны: в 1646 г. – 3700 д.м.п., в 1678 г. – 12500 д.м.п.; Долгорукие, соответственно, 1300 и 14 тыс. д.м.п.; Хитрово: 583 и И тыс. д.м.п.; Пожарские: 3,9 тыс. и 6 тыс. д.м.п.; Пушкины: 4 тыс. и 8 тыс. д.м.п.; Прозоровские: 2 тыс. и 8 тыс. д.м.п.; Репнины: 1,7 тыс. и 6 тыс. д.м.п.; Ромодановские – 2 тыс. и 8,7 тыс. д.м.п.; Салтыковы: 5 тыс. и 12,6 тыс. д.м.п.; Шереметевы: 8,7 тыс. и 7,6 тыс. д.м.п.). Лишь немногие резко уменьшили число своих крепостных крестьян: Воротынские – с 14,6 тыс. до 5,4 тыс. д.м.п.; Одоевские – с 8,5 тыс* до 2,5 тыс. д.м.п.
Новейшее исследование обширного комплекса писцовых книг России 1620—1640-х гг. выявило существование не только юридических, но и хозяйственно-экономических различий между поместьем и вотчиной. Вотчина оказалась более устойчивым по сравнению с поместьем типом хозяйствования. В обстановке тяжелого аграрного кризиса Вотчины лучще противостояли запустению, быстрее восстанавливались, имели лучшие условия для развития крестьянского и владельческого хозяйства. Сказывались различия в организационно-хозяйственной роли вотчинника и помещика (в поместье она была почти незаметной), в уровне эксплуатации, который в поместье был выше, в обеспеченности рабочей силой. Феодал-вотчинник широко задействовал труд своих холопов и «деловых людей», активно использовал все возможные ресурсы своего хозяйства, включая систему патронирования. Более мелкие, чем поместные «дачи», вотчины были лучше населены, в них энергично расширялись пашни.
Поэтому не случайно во второй половине XVII в. происходил поворот господствующего класса к вотчинно-служилой форме феодального землевладения, дающей наибольший по сравнению с поместьем простор для хозяйственной деятельности. В то же время следует заметить, что, несмотря на явное стремление владельцев поместий превратить их в вотчины и избавиться от экономической неэффективности поместий как формы хозяйства, ярко обнаружившей себя в годы кризиса, буквально все правительства России, оберегая общество от новых потрясений, не форсировали обратного преобразования поместий в вотчины. Слишком важна была условная система землевладения для политического укрепления системы неограниченной самодержавной власти формирования дворянства как основы незыблемого государственного единства. В конечном счете обретение поместьями статуса вотчины растянулось на более чем столетний период. Во второй половине XVII в. вотчинное землевладение уже явно преобладало в центральных регионах государства. Из 10 тыс. вотчин в окраинном Черноземье к концу века было чуть более 2 тыс. В то же время огромнейшее количество поместий сосредоточивалось на периферии страны. Важно подчеркнуть, что к концу XVII в. до 80 % крестьянских дворов и населения вотчинных владений числилось «по московскому списку», т. е. принадлежало столичной прослойке господствующего класса страны. (Для социума с ограниченным объемом совокупного прибавочного продукта характерна его концентрация в столице, в руках управленческой верхушки, и оттеснение провинции на третьи роли, что находило свое выражение и в особенностях структуры господствующего класса.
Формы ренты как показатель характера экономики.
Основными формами феодальной ренты были отработочная, продуктовая и денежная. Барщинные и оброчные повинности разнообразились в зависимости от природных условий, от масштаба и состава хозяйственной жизни владений. В XVII в. основными видами отработочной ренты («изделий» – барщины), как и в предшествующее время, была работа на владельческой пашне и сенокосе, в огородах и садах, по возведению и ремонту усадебных строений, мельниц, плотин, копанию и чистке прудов, сооружению приспособлений для рыбной ловли. Распространенной практикой было содержание крестьянами распределяемого между ними в принудительном порядке господского скота и птицы. Правда, подобный прием, обременяя крестьян, мало что давал для развития животноводства в хозяйстве феодала: обычными были низкая плодовитость и падеж скота. Основные барщинные работы выполнялись на крестьянских лошадях.
Как и в предыдущие столетия, в ряду разнообразных видов барщины особое место занимает полевая барщина. При очень коротком сезоне летних работ оторвать крестьянина для работы на господской пашне от его собственной пашни, с которой он едва успевал кое-как справляться, было поистине непосильной задачей. На ee решение ушло два с лишним века, но после Смуты она снова возникла в полной мере. Правда, теперь положение было кардинально иным – крестьяне стали крепостными, и проблемой был лишь вопрос о размерах пахоты на господина. В монастырских вотчинах к началу XVII в. полевая барщина прочно вошла в быт земледельцев и достигла ощутимой величины. В основной части селений Троице-Сергиева монастыря она была 1,5–2,4 десятины в трех полях на двор. В 30—40-х гг. XVII в. в селениях Покровского Суздальского монастыря господская пашня равнялась 1,4–1,5 десятины на двор в трех полях. По данным писцовых книг 20)– 30-х гг. XVII в. исследователями установлены среднеуездные размеры господской пашни в ряде районов Центральной России – Замосковном крае. В расчете на двор она составляла от 2 до 3,5 десятины в трех полях, что для крестьянина было тяжелым бременем. Особенно если учесть, что сами крестьяне этих районов обрабатывали на себя в среднем на двор 2–2,3 десятины в трех полях что совершенно недостаточнодля нормального воспроизводства жизни крестьянской семьи. А был еще и оброк деньгами, и «столовые запасы».
Во владениях крупных феодалов (Б. И. Морозова, Я. К. Черкасского, И. Д. Милославского, Н. И. Одоевского, Ю. И. Ромодановского и др.), в хозяйстве которых земледелие сочеталось с промыслами (поташным, солеваренным, винокуренным), их обслуживание также входило в барщинные работы крестьян. В целом трудно перечислить все разнообразие работ и повинностей крестьян, составлявших «изделье»: из барского хлеба крестьяне изготовляли крупы, сухари, солод, вино, из пряжи ткали холсты, из сел и деревень на центральный двор доставляли на собственных подводах «столовые запасы», сено, дрова, строительные материалы.
Барщинные работы, заставлявшие крестьянина полностью отрываться от собственного хозяйства («в пространстве и во времени»), предполагали наличие принуждения в наиболее грубой форме. Существовали различные способы разверстки барщинных повинностей – по числу дней в неделю в зависимости от экономического состояния крестьян или по размеру барской пашни, обрабатываемой пропорционально количеству тяглой земли, которая имелась во владении крестьян. Последний способ, по вытям, был предпочтительнее для зажиточных и «семьянистых» крестьян.
Продуктовая рента, включающая в себя как продукты земледелия и скотоводства, так и изделия домашней промышленности, как никакая другая, способствовала консервации натурального характера экономики. Наиболее распространенной формой оброка был 5-й сноп, т. е. помещику отдавалась пятая часть урожая. Крестьяне поставляли также «столовый запас» (мясо, масло, яйца, битая и живая птица, грибы, ягоды, орехи) и изделия домашней промышленности (холст, сукно, деревянные изделия и др.). Кроме того, в состав оброка входили продукты крестьянских промыслов, развитых в той или иной местности. Например, крестьяне нижегородских и арзамасских вотчин Б. И. Морозова изготовляли удила и седельные пряжки, деревянные блюда, братины и ложки. Крестьяне воровских владений А. И. Безобразова поставляли оси, лопаты, оглобли, лыко; его же суздальские крестьяне вносили хомуты, рогожи, кули, а кашинские крестьяне – дуги, корыта, готовые срубы.
На фоне повсеместного распространения отработочной и продуктовой денежный оброк в XVII в. за редким исключением еще не играл самостоятельной роли и чаще всего сочетался с барщинными повинностями и натуральными платежами. Лишь в некоторых тверских, вологодских, нижегородских селениях промыслового хозяйственного направления (так называемых непашенных селах), принадлежавших все тем же Б. И. Морозову, Я. К. Черкасскому, А. И. Безобразову и другим феодалам, имевшим многочисленные владения в различных уездах, крестьяне в основном платили денежный оброк.
На протяжении всего XVII в. еще не было дифференциации владений по формам изъятия прибавочного продукта (феодальной ренты), что свидетельствовало об отсутствии серьезных изменений в системе общественного разделения труда. Обработанные Ю. А. Тихоновым данные о 365 имениях междуречья Оки и Волги показали, что не только в первой, но и во второй половине XVII в. в 80–90 % имений наблюдалось сочетание разных форм ренты с непременным элементом барщины. Это является свидетельством того, что восстановление хозяйственной жизни и во второй половине XVII в. не привело к разрушению натурально-патриархального характера сельскохозяйственной экономики.
Организация вотчинного хозяйства.Характерней чертой владений светских и духовных феодалов XVII в. была их разбросанность по многим уездам. Например, боярин Б. И. Морозов имел земли в 19 уездах, боярин Н. И. Романов – в 15 уездах, Троице-Сергиев монастырь – в 40 уездах, а правящая династия – в 100 уездах. Даже у помещиков средней руки и вовсе мелких служилых людей редко когда их владения были сосредоточены в одном уезде. Это явление было результатом постепенного накопления земельных владений, сохранения в течение длительного времени ограничительных мер по мобилизации земли и распространенной практики чересполосного «испомещения» служилых людей. В этих условиях, а также в силу того, что занятые на службе помещики редко жили сами в своих владениях, особую роль в их управлении играли приказчики. В крупных хозяйствах приказчики, управлявшие отдельными селами и деревнями, подчинялись главной администрации, находившейся в Москве или на центральном дворе владельца. Полномочия сельских приказчиков определялись «наказами» и «памятями» владельца, инструкции которых следовало неукоснительно соблюдать. В круг обязанностей приказчиков входили хозяйственные дела, сбор ренты и государственных податей, суд и расправа над населением.