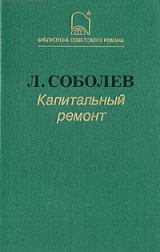
Текст книги "Капитальный ремонт"
Автор книги: Леонид Соболев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 31 страниц)
Громак выругался вяло и неостроумно.
– Приказали бросить, – сказал он потом и махнул рукой. – А ну их к матери, не поймешь, чего им надо! Пусти, в кубрик пройду, заморился. Сердце у меня болит, тварь, стронул его, что ли…
Он пошел в нос, но из кочегарки вылезла другая голова, курносая и смеющаяся.
– Орел и есть, – сказала она вполголоса. – Верно говорят: «Русский матрос везде орлом: в бою орлом, в строю орлом, на стульчаке – тоже орлом, а под адмиральским орлом – сам мокрая курица…»
– Ну, чего надо? Пристали! – огрызнулся Громак зло.
– А я ничего, – сказал кочегар, усмехаясь. – Смотрел на тебя и смеялся: чисто ученый пес, ей-богу! Позабавил господ, а потом тебя сапогом под хвост, – пошел, мол, боле не требовается… Еще под винтовкой настоишься!.. Поди, поди, отлежись, авось мозги на место встанут!
Громак лег в кубрике навзничь на рундук, смотря вверх внезапно уставшими глазами и удерживая стук перетруженного огромного сердца. Простая человеческая обида бродила в нем, приобретая от слов кочегара необыкновенный оттенок.
– Баре, мать их за ногу! – сказал он вдруг вслух.
В кубрик долетел взрыв оркестра, но он не пошевелился. Торжество продолжалось без него.
Подъехало ландо в четверке белых лошадей, и пожилой француз в мундире и шляпе с плюмажем пронес на пристань свои короткие седые усы, желтую кожу сухого лица и звание посла Французской республики. Морис Палеолог прибыл для встречи президента. Это обозначало скорое прибытие яхты, предоставленной царем для дорогого гостя.
Она показалась на повороте Невы в двенадцать минут второго. Черная, с золотым украшением на носу, с золотой резьбой по борту, яхта бесшумно скользила по реке – единственно молчащая среди грохота салютов, единственно нагая среди пышных трехцветных драпировок, единственно движущаяся среди общей неподвижности. На невысокой её мачте (единственно прямой среди согнутых в поклонах спин) развевался только один флаг – флаг Французской республики, флаг верной союзницы России. Русские пушки стреляли в него сейчас холостыми залпами так же дымно и громко, как все прошлое столетие, под Бородино, под Лейпцигом, под Севастополем они стреляли в этот же флаг чугунными ядрами.
Так – в дыме залпов, в грохоте орудий, в сверкании штыков и сабель, в подобострастном окружении эполет, киверов, военных мундиров, во всем этом зловещем блеске и шуме консервированной войны – так появился в российской столице он
великий государственный муж, страж европейского мира, год назад бескровно обуздавший безумные аппетиты Германии, покусившейся на Французское Марокко…
«Речь»
…патриот, восстановитель пошатнувшейся военной мощи как во Франции, где её подорвала внутренняя радикально-социалистическая политика, так и в России, забывшей одно время, что театром действия франко-русского союза является не Восток, а Европа…
«Temps»
…с избранием которого в депутаты связан любопытный анекдот о том, что отец его, простой фермер, уговорил политического противника своего сына снять свою кандидатуру в палату, за что старик целый день косил поле соперника…
«Петербургская газета»
…борец за народную трезвость, кою он, в бытность свою еще министром народного просвещения, насаждал во Франции путей внедрения лекции о вреде питий…
«СПб Епархиальные ведомости»
…блестящий адвокат, видный экономист, тонкий собеседник, владелец уютного замка на юге Бретани, где его очаровательной женой собрана редкая коллекция фарфора…
«Столица и усадьба»
…приезд которого знаменует новый фазис альянса между двумя столь различными по духу и по режиму, но столь близкими по своим общегосударственным интересам странами…
«Eclaire»
…истинно-демократический президент, послушный выразитель воли свободного французского народа…
«День»
…в устах которого слова приобретают такую силу, значение и властность, что все вскоре замечают, как император слушает его с покорным и серьезным вниманием, а я убеждаюсь, что многие из этих обшитых галунами сановников думают про себя: «Вот как должен был бы говорить настоящий самодержец…»
Морис Палеолог
…чья карьера – «типичная карьера буржуазного дельца, продающего себя по очереди всем партиям в политике – всем богачам „вне“ политики…»
Ленин
полный человек с лицом мелкого лавочника, во фраке с андреевской лентой, владелец акций военных и металлических заводов, президент Французской республики – Раймон Пуанкаре.
Не бархатный ковер лег под его ноги на пристани в городе Санкт-Петербурге. Это легла императорская Россия. Армия её склонила перед ним знамена почетного караула. Православие осенило чудотворной иконой. Банкиры согнулись в дугу. Торговля и промышленность руками городского головы поднесли ему хлеб, лен и леса России в стройном символе каравая, лежащего на шитом полотенце на резном деревянном блюде. Самодержавный двуглавый орел, вцепившись в орден Андрея Первозванного (пожалованный вчера царем), забился под отворот его фрака в недвусмысленной близости к подбитому шелком карману. Пристань качнулась: Раймон Пуанкаре вступил на нее всей тяжестью многомиллиардных займов, одолженных французскими банками российскому самодержавию и российскому капитализму. Хозяин приехал в свою большую нескладную деревню требовать отчета от полупьяного старосты Романова Николая.
«Марсельеза» гремела над всей столицей. На пристани, на набережных, на мостах, на рабочих окраинах – везде плескались в солнечных лучах её бодрые звуки, рея над цилиндрами, шляпками, знаменами, над войсками, над полицией, над огромными толпами рабочих на Выборгской стороне, на Путиловском шоссе, за Московской, за Невской, за Нарвской заставами.
Город ликовал в этот прекрасный день. Все высыпали на улицу. Трамваи не ходили. Магазины не торговали. Пекари не пекли булок. Заводы не работали. Фабрики стояли. Около двухсот тысяч рабочих было на улицах, не считая нарядных толп на набережной. Ликование было всеобщим. Подкидываемые в воздух восторженным населением, мелькали на солнце цилиндры, зонтики, флажки, цветы, камни, булыжники, нагайки, городовые, стекла витрин, вывески… Не было возможности пробраться по улицам: они были запружены сюртуками, дамскими платьями, вицмундирами, экипажами, оркестрами, казаками, рабочими, жандармами, сваленными столбами, избитыми приставами, опрокинутыми трамваями, баррикадами, ранеными, убитыми.
Салют был оглушительным. Стреляла вся столица из края в край. Корабли в Неве – стреляли. Крепость у Троицкого моста – стреляла. Городовые на Лиговской улице – стреляли. Казаки на Нейшлотском переулке – стреляли. Жандармы на Путиловском шоссе – стреляли. Девять рабочих завода «Айваз», загнанные полицией на чердак дома № 12 по Тобольской улице, – стреляли. Околоточный и два городовых, сбрасываемые в воду с Сампсониевского моста, стреляли…
Раймон Пуанкаре, окутанный пороховым дымом, прижимал руку к сердцу. Столица улыбалась в ответ мраморным рядом своих дворцов, поблескивая золотыми коронками соборов, улыбалась, пытаясь сохранить хорошее лицо в плохой игре. Скрытые от гостей плотной стеной жандармов, заставы били ей в спину зловещими пестрыми волнами бросивших работу людей. Окраины сжимали ей горло страшным охлаждающимся кольцом остановившихся заводов; их черные трубы обступили столицу со всех сторон, угрожающе поднятые в небо, как занесенные для удара дреколья и палки разъяренной толпы, напирающей на усадьбу. Проспекты передергивались быстрыми судорогами конных отрядов, мечущихся от завода к заводу, от заставы к заставе. Телефоны в градоначальстве били непрерывный набат. Четвертый день в городе пахло революцией.
Россия ходила беременная революцией, ходила почти на сносях, злая, истеричная, беспричинно жестокая, как женщина, не желающая рожать. Революция надвигалась из мглы веков, зачатая историей, неотвратимая и естественная, как неотвратимо рождение ребенка, пусть ненавидимого с самого момента его зачатия, пусть проклинаемого при каждом своем шевелении. Последнее время, с Ленского расстрела, эти толчки стали особо нестерпимыми: стачки и забастовки потрясали пышное зрелое тело империи непрерывной цепью схваток, указывающих на приближение неотвратимых сроков. Домашние средства не помогали: ни припарки Государственной думы; ни патентованные конституционные капли, разведенные в аптеке у Полицейского моста; ни горячие ванны карательных отрядов; ни плотный бандаж охранки; ни облегчающие погромные пиявки Союза русского народа; ни даже ржавая русско-японская игла, которая, неудачно переломившись в двух местах – на Мукдене и на Цусиме, так и не вызвала желанного выкидыша, – ничто не могло остановить естественного роста ненавистного плода. Он рос в утробе царской России, неразрывно с ней связанный законами исторического развития, питаясь вместе с ней её же пищей, живое внутри живого, новая жизнь, обрекающая старую на смерть… Родственники хватались за голову, посматривая на империю, беременную революцией. Скандал грозил не только позором, но и потерей наследственного имущества: в России все не как у людей, дитя родится наверняка ужасным, диким, не поддающимся никакому воспитанию!.. Ведь вот же в приличных домах бывали скандалы, но как-то обходилось: Франция, перемучившись в родах и смяв королевские лилии, разрешилась, однако, вполне благовоспитанной Третьей республикой; королевская Англия родила преучтивое парламентское дитя. А этот чудовищный ребенок, не успев еще родиться, собирается вцепиться в локоны милой французской девушке, бранит английского мальчика и кричит совершенную непристойность о социальной революции и о пролетариях всех стран!..
Единственным выходом была хирургическая операция. Только широким ножом войны можно было искромсать еще в утробе ненавистный плод, извлечь его мертвые клочья в потоках крови. Но, уже раз обманувшись в этом крайнем средстве, царская Россия не хотела рисковать. Эта операция должна была быть поставлена на европейскую ногу: под глубоким наркозом идеи объединения славянства, с усиленным питанием всего организма золотым франком, под внимательным присмотром лучших парижских гинекологов, неплохо набивших руку еще на Парижской коммуне. Такая операция могла иметь все шансы на успех…
– Вот зачем приехал сюда господин Пуанкаре, наймит французских банкиров! Вот почему так раболепно приветствуют его сейчас на пристани царская знать, фабриканты и помещики – вся эта свора, за огромные золотые займы нанятая французским капиталом на побегушки! Их интересы встретились…
Пятьсот с лишком рабочих завода Лесснера слушали молча и хмуро. Егор Тишенинов стоял над ними, забравшись на бочку у самых ворот, рыжий, худощавый, усталый. Залатанная выцветшая тужурка висела на нем мешком, зеленые брюки пузырились на коленях, раздутые жестоким ревматизмом студенческой нищеты. После каждой фразы он смыкал губы, и желваки на его скулах вздувались, как будто он стискивал слова во рту в тугую звенящую пружину, и, когда он опять раскрывал рот, они вылетали в воздух упруго и далеко. Ясный, яростный, целеустремленный – он говорил уже пятую минуту, и его слушали, не перебивая. Мальчишка на воротах, изогнувшись, смотрел вдоль набережной, подстерегая появление казаков; но казаки не появлялись – снимать охрану центра города для разгона одного из десятков митингов было невозможно.
– Война – вот что привез он с собой на броненосце! Война, выгодная французским промышленникам, – они ведь вложили огромные деньги в военные заводы. Война, выгодная и нашим Тит Титычам, – эти только и мечтают, как бы избавиться от германского ввоза товаров в Россию. Война, выгодная и царскому самодержавию, – оно всю свою армию отдать готово за то, чтобы разорвать петлю, которую мы стягиваем на его шее. Война вырвет и из России, и из Франции, и из той же Германии передовых рабочих – тех, кто организовался в партии и союзы, – и пошлет их на фронт…
– Ну, всех не заберут, на заводе тоже люди останутся, – сказал стоявший у ворот пожилой рабочий и обернулся, ища сочувствия.
Сосед покосился на него и ответил нехотя:
– У кого лишняя сотняжка есть, спору нет, безусловно останется.
– Ты это про что?
– А так…
– А ты мои сотняжки считал? – с напором спросил первый, но тот отвернулся усмехаясь.
Тогда из того угла, где стояла молодая женщина в синем платье, поминутно поправлявшая на голове платок и слушавшая не столько Тишенинова, сколько говорки кругом, в разговор вступил еще один.
– Счесть нетрудно, коли огородик есть да коровка к нему прикуплена, сказал он в пространство, посасывая западающие в рот сивые усы.
Первый, тоже смотря перед собой, огрызнулся:
– Свой заведи, тогда и считай!
– Завел бы, да заводилок нет. Все в штрафы ушли.
– А ты бы с мастером чаи распивал, как он, глядишь, живо накопишь, – с задором подхватила женщина и сразу повернулась всем лицом к пожилому в полной готовности вступить с ним в едкий и оживленный спор. Но тот замолк и длинно сплюнул в сторону. Тогда женщина вдруг спохватилась и испуганно обернулась:
– Еленка-то, господи, куда подевалась?
Еленка – беловолосый шарик в ярко-красном платьице – была далеко. Между рядами высоких сапог, растущих из земли, как голые стволы деревьев, она пробиралась в поисках подобного себе существа, так же блуждающего в этом дремучем лесу. Сапоги приятно пахли дегтем. Уж заредели их мощные стволы и яркий простор двора замелькал через опушку леса, как чьи-то большие руки подхватили её кверху, и она начала обратное путешествие – уже по воздуху.
Очутившись на руках матери, она быстро разобралась в событиях, происходивших над вершинами леса; здесь они были много интереснее, чем внизу. Двор оказался сплошь занятым головами, как в церкви. В окошке во втором этаже то и дело показывался лысый человек в сбившемся на сторону галстуке – тот самый, который по субботам выдавал матери деньги. Где-то за ним все время звонил тоненький веселый звонок, и человек тогда оглядывался, взмахивал руками и исчезал, как петрушка, которого показывали бродячие актеры. Кроме того, во дворе оказался тощий человек с превосходными золотыми пуговицами на зеленом пиджаке и в зеленых же штанах, забравшийся на бочку. Он негромко рассказывал что-то неинтересное, и все его слушали. На воротах же сидел мальчишка, которому, наверное, было еще лучше видно происходившее, и острая зависть к нему заслонила на время все остальные переживания.
Зеленый же человек продолжал кричать в голос, все время взмахивая перед собой рукой:
– Вам затуманят мозги словом «отечество»! Вас заставят убивать таких же, как вы, рабочих Германии и Австрии! Вашими же руками будут душить революцию! Потому что, убивая на фронте рабочих и крестьян другой страны, вы будете помогать правительству этой страны давить революцию, как, убивая вас, рабочие Германии будут помогать царизму расправиться с назревающей революцией. Вот в чем выгода войны для всех без исключения правительств богачей и помещиков! Вот о чем сговариваются нынче русский самодержавный царь и ставленник французских банкиров – республиканский президент!..
Глухой пушечный залп, донесшийся до завода по величавой глади Невы, поставил за этой фразой убедительную тяжелую точку. Тишенинов поднял руку.
– Слышите, товарищи? – крикнул он. – Вот первые залпы по революции! Они страшнее выстрелов на Лене, страшнее ружейной трескотни на Дворцовой площади… Они бьют по рабочему классу всей Европы, а может быть, и всего мира, они уничтожают нас не десятками, а миллионами! Долой тайные сговоры царя с республикой капиталистов! Долой войну, да здравствует рабочая революция!.. Она растет, она идет по всей России. Харьков, Москва, Тифлис, Баку, Лодзь, Иваново-Вознесенск… Еще четыре дня тому назад царские пристава расстреливали путиловских рабочих, примкнувших к бакинцам… А сегодня в одном Петербурге бастует больше двухсот тысяч, а жандармы не могут заставить их работать. Снимайте рабочих, усиливайте армию революции, останавливайте заводы, закрывайте магазины! Задушим царскую власть без хлеба, без света, без поездов, без телеграфа!.. Меньшевики кричат вам об экономических требованиях, – мы говорим вам о политических. Лозунгом всероссийской забастовки должно быть: контроль над фабрикантами, землю крестьянам, долой самодержавие, да здравствует республика! Но не республика господина Пуанкаре, работающего заодно с царем, а республика демократическая, с правительством из самих рабочих и крестьян!..
Когда по непонятной для Еленки причине все разом зашумели и двинулись к воротам, она поняла, что сейчас-то и начинается самое интересное. Мальчишка сполз по столбу ворот так стремительно, что она только ахнула, и побежал вперед, мелькая голыми пятками. Зеленый человек, соскочив с бочки, улыбался и сразу со всеми говорил, пробираясь в передние ряды. Кто-то поднял там над головами палку, и на ней весело заиграл флаг того же цвета, что и её платье.
Еленка, полураскрыв рот, смотрела на это кипенье людей, и так, с полуоткрытым ртом и блестящими от удовольствия глазами, она выплыла на руках матери на улицу вместе с толпой, сожалеюще оглядываясь на тех, кто остался во дворе, не принимая участия в этой общей игре.
Оставшиеся смотрели вслед уходящим без улыбок. Кучки их были мрачны и неразговорчивы. Потом, уже из самых ворот, Еленка увидела, как к ним подошел лысый петрушка, тот, что выглядывал из окна, и они что-то говорили ему, разводя руками и покачивая головой.
У Литейного моста лесснеровцы наткнулись на препятствие. Сильный отряд конной полиции и казаков высился на горбе моста водоразделом между центром и окраиной. Казачий есаул, скучающе повернувшись в седле, смотрел назад, на французское посольство; набережная там казалась цветником: алые мундиры лейб-казаков опоясывали пеструю клумбу толпы; медные трубы оркестра сверкали на солнце золотыми точками, ожидая приезда президента. Есаул смотрел, чертыхаясь: какие бы празднества ни случались, всегда попадешь в наряд «для содействия чинам полиции»… Везет атаманцам!..
Полицмейстер, грузный и пожилой полковник, величественный и огромный, как памятник Александру III, застыл рядом на тяжелом вороном коне, смотря вниз под уклон моста. Цепь городовых преграждала Нижегородскую, останавливая даже одиночек и пропуская на мост только хорошо одетых господ, извозчиков с седоками и горничных, бежавших за булками в город (все лавки Выборгской стороны с утра не открывались, опасаясь камня в стекло). Забастовавшие рабочие кучками стояли на улице, бездействуя, пересмеиваясь, поглядывая в сторону моста. Дойдя до них, лесснеровцы тоже рассыпались по кучкам, и полицмейстер усмехнулся: этот распад толпы на кучки выдавал её нерешительность и отсутствие вожаков. Разгонять же эти кучки было занятием пустым и бессмысленным, вроде попыток поймать мух в горсть: сгонишь с одного места – они сядут на другое. Полковник Филонов признавал действия только наверняка.
У посольства раздался взрыв криков, и по воде ясно долетели до места первые такты «Марсельезы». Она играла в трубах оркестра, как шампанское, искрясь фанфарами и потрескивая барабанной дробью, как электрическими разрядами. И полковник и казачий есаул невольно расправили плечи, слушая её победный рефрен, воинственный и блестящий, как атака гусаров. Это был замечательный гимн, лучший национальный гимн во всем мире, подымающий сердца, горячащий умы, зовущий к победе.
Этот замечательный гимн прошел за столетие престранный путь. Когда-то горячая, как кровь баррикад, и сверкающая, как нож гильотины, «Марсельеза» вела революционные войска против аристократической коалиции. Она взрывала замки феодалов и швыряла их в ворох королевских лилий вместе с головой Людовика XVI. Конвент накинул на её мятежные крылья плотный шелк трехцветного знамени, и «Марсельеза» из гимна революции сделалась гимном нации, подобно тому, как родившее её третье сословие из революционного народа стало реакционным правительством. Вот она ведет армию «патриотов» к Седану в тщетной попытке укрепить трон Второй империи. Вот уже под героические её звуки версальцы вступают в горящие улицы Парижа, приканчивая коммунаров. Вот бравурные её фанфары вместе с саблями экспедиционных армий и крестами миссионеров врезаются в колонии, прокладывая дорогу ростовщическому капиталу Третьей республики. И вот – в Тунисе, в Алжире, в Индокитае, в Марокко, в Гвиане, на Мадагаскаре, на Таити – везде через серебряные трубы военных оркестров она лжет на весь мир о свободе, равенстве и братстве в республике концессионеров и рантье, лжет так, как могут лгать только французские адвокаты с депутатской трибуны: звонко, красиво, с гасконской героикой, с патриотическим пафосом.
А здесь, под хмурой сенью российской короны, тебя поет еще русская революция под залпами карательных отрядов, поет, готовясь к первому этапу борьбы, к разрушению абсолютизма, поет на баррикадах Пресни, на Путиловском шоссе, – поет, уже прислушиваясь к иному гимну, еще малоизвестному, еще не заменившему ритма твоих восьмушек неуклонной поступью широких своих четвертей, как не заменил еще Февраля – Октябрь… Будет время – и ты сшибешься с этим новым гимном в решительной схватке, как два жестоких врага, – ты, увядшая, изменившая смысл, отставшая в беге историй и потому обреченная на гибель революционная когда-то песня!..
Но знойный июль тысяча девятьсот четырнадцатого года еще обволакивает столицу дымом своих лесных пожаров, дымом салютов на Неве и залпов на окраинах, и столица зовется еще Санкт-Петербургом, а огромная нищая страна Российской империей, и армия стоит еще против народа.
«Марсельеза» вспыхнула на углу Финского переулка ярко и неожиданно, как язык пламени из притушенного костра, колыхнулась, качнулась, охватила всю Нижегородскую улицу, сливая кучки в плотную толпу, и, опережая её медленное движение, врезалась в полицмейстерский мозг сквозь седую старческую поросль больших и вялых ушей. Полковник Филонов шевельнулся в седле и изумленно поднял брови: цепь городовых распалась, беспрепятственно пропуская к мосту толпу. Что они – с ума сошли?..








