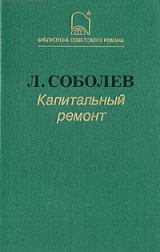
Текст книги "Капитальный ремонт"
Автор книги: Леонид Соболев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 31 страниц)
Миноносцы дымят и вздрагивают от проворачиваемых машин. В канцелярии «Генералиссимуса» старший баталер и старший писарь, злые от спешки и духоты, заканчивали писать пищевые и денежные аттестаты на двадцать восемь нижних чинов, списываемых с корабля согласно приказу по бригаде…
Юрий Ливитин заглянул в кают-компанию; она пустовала. На корабле происходило что-то необычайное, это было видно даже непосвященному глазу. Офицеры бродили по палубе, то и дело скрываясь в люках. Николай провел часа полтора в каюте мичмана Морозова и вышел оттуда, насвистывая. Юрий знал, что это означало у него сдерживаемое волнение и злость. Разговор с ним не клеился. После третьей томительной паузы Юрий обиделся:
– Мне интересно, при чем здесь я? У вас что-то происходит, а я виноват…
Он встал и почувствовал себя глубоко несчастным: вся гордость быстрого сближения с офицерской семьей и ощущение собственной взрослости исчезли. Ну конечно, он мальчишка, молокосос, которому нельзя даже намекнуть на то заманчиво-жуткое и серьезное, чем озабочен Николай и все офицеры.
– Да, ты приехал не очень кстати, – согласился Ливитин, тщательно приглаживая отвернувшийся карман кителя. – Денек не из особо удачных, если бы не ты, я, пожалуй, напился бы нынче, как юнкер.
Юрий присел на койку. Обида и ощущение отчужденности заменились острым любопытством: Николай взволнован! Было жутко, интересно, и казалось, что вот-вот произойдет что-то страшное и неожиданное, как выстрел на балу. Настоящий военный корабль показывал наконец свое лицо, не видное из корпуса и с берега. Вот он – суровый долг флотского офицера, на мгновение приоткрывшийся из-за завесы блестящей и веселой жизни! Такой ждет Юрия служба. О ней еще ничего не рассказывал Николай, это не шуточки и анекдотики. Юрий почувствовал внезапный прилив преданности и геройства.
– А что такое готовится? – спросил он как можно небрежнее.
– Ничего не готовится, что тебе в голову взбрело? – ответил Николай и вновь засвистал.
Юрий вспыхнул и встал.
– По крайней мере, ты, может быть, будешь любезен сообщить мне, каким образом я доберусь отсюда до Питера? – спросил он холодно. – У меня отпуск кончается.
Лейтенант посмотрел на него сбоку и вдруг рассмеялся.
– Ты безбожно молод, Юрка, – сказал он обычным тоном, – совершенный мальчишка! Расти в приятных иллюзиях, пока не увидишь жизнь такой, какая она есть… А что до отъезда – ты прав. Посиди тут, я тебе оказию сосватаю.
Он вышел. Томительное ощущение одинокости и тревоги овладело Юрием. Ему вдруг захотелось домой. Не на «Аврору», не в корпус, а именно домой – в уверенную тишину обыкновенной комнаты.
Юрий оглядел каюту. Блестящая и кокетливая, она теперь показалась ему ловушкой. Только тонкие переборки отделяли его от всего корабля; за ними по кораблю ходил страх.
Он был непознаваем, неясен, непонятен, – но он был. Страх проскальзывал сквозь обычную небрежную веселость офицерских разговоров. Он был в насвистывании Николая и в его неразговорчивости. Страх окружал каюту, врываясь в нее вместе с гулом вентиляторов, вытягивающих спертый воздух матросских кубриков, – и, как этот гул, он имел корни там же.
– Чепуха, – подбодрил себя Юрий, присаживаясь к столу, но вдруг вздрогнул: синий стальной зрачок глянул на него из полуоткрытого ящика стола.
Револьвер всегда казался Юрию некоторой отвлеченностью. Это была условная смерть, скорее символ смерти, нежели орудие ее. Маленький браунинг для человека из общества (даже для штатского) был такой же обязательной и такой же бесполезной принадлежностью туалета, как галстук или трость. Но этот браунинг был иным. Тревога и страх, бродившие на корабле, материализовались, приобрели форму и вес. Юрий взял его в руки с неприятным чувством.
Нечто унизительное было в браунинге на военном корабле. Корабли дерутся орудиями и торпедными аппаратами, и эта недальнобойная и слабая игрушка была, очевидно, не для морского боя.
– Можно? – сказал вдруг в дверях голос, и Юрий поднял глаза.
Мичман Морозов стоял в дверях и, как Юрий смог заметить, был сильно не в себе. Он был опять мрачен, бледен и явно нетрезв.
– Пожалуйста, брат сейчас придет, – сказал Юрий, вставая и внутренне морщась.
Морозов вошел и, качнувшись, сразу упал в кресло.
«Сапог и есть», – подумал Юрий презрительно; механиков звали «сапогами», намекая на черные погоны Инженерного училища и на черную кость. – «Чего Николай с ним связался? Подумаешь – дружба…»
Разговаривать Морозов решительно не хотел. Он сидел в чужом кресле в чужой каюте в мрачном раздумье. Пауза была неловкой и томительной. Греве или Веткин давно бы сумели разбить её шуткой, и осколки засверкали бы легким, удобным разговором, – а этот молчит, как пень! Юрий обозлился.
– Простите, я вас оставлю, – сказал он с предельной холодностью, вставая и кладя браунинг на койку; к столу через Морозова добраться было невозможно.
– Пожалуйста, – сказал Морозов равнодушно и опять погрузился в молчание.
Юрий прошел в кают-компанию. За роялем Греве и Веткин, дурачась, играли в четыре руки собачий вальс. Веткин сбивался, и Греве хохотал над ним так заразительно, что Юрий улыбнулся тоже.
Чувство тревоги здесь исчезло. Кают-компания жила полной вечерней жизнью. Отец Феоктист, сложив на животе руки, осклабясь, слушал веселую болтовню мичманов. Старший артиллерист стучал костями трик-трака, и уже на угловом диване составилась вечерняя беседа лейтенантов. Бронзовый рыбак над ними меланхолично держал фонарь, и свет его дробился в разноцветных ликерных рюмках.
Юрий вздохнул. Жизнь, очевидно, наладилась, в уезжать расхотелось.
Брат поднялся ему навстречу с дивана, где он говорил с Шияновым.
– Ну, собирайся, – сказал он, подходя. – Через полчаса катер. Старший офицер устроил тебя на «Бдительном», они прямо в Кронштадт идут… Попрощайся с ним и поблагодари.
Юрий подошел к Шиянову. Тот полулежал в углу дивана, далеко запрокинув свою узкую голову, и отбивал сухими длинными пальцами такт собачьего вальса. Белые уголки его воротничка были невозмутимо свежи: после суда он переменил белье и вместе с ним – настроение.
– Разрешите поблагодарить вас, господин кавторанг, за то исключительное радушие, которое я встретил на «Генералиссимусе», – сказал Юрий, кланяясь, и внутренне похвалил себя за вполне светскую фразу. Шиянов тотчас встал: гость вне чинов, и флотское гостеприимство обязывает. Он сказал несколько незначащих любезных слов, пожал Юрию руку и снова откинулся на диван, просияв уголками воротничка.
Юрий подошел к роялю. Лейтенант Греве прервал игру и простился с Юрием со своей обычной безразличной любезностью.
Веткин был теплее.
– До свиданья, блестящий гардемарин, надежда российского флота, сказал он. В глазах его пробежал смешок, и он задержал Юрину руку. – Вы на меня не сердитесь?
Юрий густо покраснел. Он снова почувствовал себя, как тогда ночью на палубе. Сейчас было хуже: смотрели не матросы, а офицеры. Смешок в глазах Веткина был опасен: неужели вот сейчас, жестоко забавляясь, он расскажет со всегдашним милым остроумием позорную историю о том, как гардемарин вылез на палубу в сиреневых кальсонах и в тельняшке?
– Что у вас за тайны мадридского двора? – спросил старший Ливитин. – В чем дело, Юрий?
Юрий пробормотал что-то несвязное. Веткин рассмеялся.
– Не ревнуйте, Ливи! Позвольте мне иметь с вашим братом маленькую тайну. Клянусь, она не угрожает вашей фамильной чести!
Он тряхнул Юрину руку.
– Право, не сердитесь, Юрий Петрович. Жизнь – великолепный анекдот, не правда ли?
Юрий облегченно вздохнул. Интимный дружеский тон, установившийся между ним и лейтенантом, мог только льстить его самолюбию. Сердиться на Веткина было невозможно.
– Правда… только мне было не до смеху…
Оба опять понимающе фыркнули, и Юрий, поклонившись остальным офицерам, пошел к дверям под прыгающий мотив собачьего вальса. В коридоре лейтенант спросил все еще улыбающегося брата:
– На что Веткин намекает?
Сейчас признаться было уже легко, и Юрий рассказал ночное происшествие. Лейтенант расхохотался тоже.
– Веткин, ей-богу, остроумен! Умеет же человек во всем находить анекдот!.. А тебе наука – не шляйся по верхней палубе не по форме одетым, сказал Ливитин, открывая свою дверь, и вдруг остановился. Высокая и большая его фигура заслонила собой каюту, и Юрий услышал только его внезапно изменившийся голос:
– Идиот! Положите эту игрушку, сейчас же! Ну!
Он шагнул вперед, и теперь Юрий смог увидеть бледного Морозова. Тот опускал браунинг на стол, рука его тряслась.
– Выпейте воды, фу, стыд какой! – сказал лейтенант, и Юрий ревниво уловил в его тоне теплые ноты. Так когда-то Николай утешал его в огорчениях детства.
Следовало, собственно, деликатно уйти, но любопытство превозмогло. Юрий решительно вошел в каюту, закрыл дверь и, деловито налив в стакан воды, сунул его Морозову. Этим он включился в события, решившись не уходить во что бы то ни стало.
– Ну, в чем дело, Петро-Петруччио? – спросил лейтенант. – Юрий, защелкни замок, здесь драма… Вы совсем больны, Петр Ильич, что с вами?
Морозов поднял на него свое круглое мальчишеское лицо. Бледное, курносое, оно жалко дергалось, и Юрий про себя пожал плечами: мальчишка, хоть и мичман по третьему году!
Морозов молча кивнул на стол. Лейтенант взял бумагу и, пробежав её глазами, свистнул. – М-да, – сказал он, кладя бумагу на стол, – не так хорошо, как здорово! Но вы-то тут решительно ни при чем!
– Я подлец, Николай Петрович, и мне надо стреляться, – сказал Морозов отчаянно, и по тону его нельзя было понять, спьяна или всерьез он это говорит. Юрий проворно схватил браунинг и переложил его на койку, подальше от Морозова, и, подчеркнув этим свое право вмешательства, взял бумагу.
Фиолетовые буквы были казенно ровны и невыразительны. Юрий читал их быстро, одновременно прислушиваясь к разговору, опасаясь, что брат спокойно отнимет бумагу. Приговор осветил ему весь тревожный день:
Суд особой комиссии, назначенный приказом начальника бригады линейных кораблей от 24 сего мая, в составе…
– Подлость – понятие сугубо относительное, – сказал Ливитин, садясь на койку. – Объяснитесь!
…признал виновным в том, что они 24 сего мая, согласившись между собой противиться распоряжениям начальства…
– Я должен был догадаться, что Шиянов и Греве топят людей, выгораживая себя!.. Я говорил вам, что пустяками этот суд не кончится…
…стоя во фронте в числе более восьми человек…
– Да, приговор довольно циничен, – согласился Ливитин, – но при чем все же вы?
…при этом суд признал, что вышеописанное противодействие могло иметь вредные для службы последствия, и установил…
– Не циничен, а чудовищен! Подл!.. Ваш болван Сережин выгнал их наверх, и из-за каких-то синих штанов…
…приговорил: унтер-офицера 2-й статьи Карла Вайлиса и кочегара 2-й статьи Матвея Езофатова к лишению всех особенных… и по состоянию присвоенных прав и преимуществ…
– Не из-за штанов, а из-за последствий, – поправил Ливитин, – из-за неуместной строптивости.
…к отдаче в исправительные арестантские отделения сроком на пять лет…
– Так последствия эти были вызваны не ими, а трусостью Греве и Шиянова! Почему Греве не позвал сразу меня? Я бы сумел повернуть дело безболезненно! Матросы мне верили… до сих пор! А теперь…
Морозов отчаянно махнул рукой.
– Рубикон был перейден, претензия во фронте, как известно, разбирается не ротным командиром, – сказал Ливитин наставительно.
Кочегаров первой статьи Бориса Афонина, Антипа Вильченко, Доминика Венгловского… в числе двадцати человек…
– Кого вы убеждаете? Себя? – нервно повернулся в кресле Морозов. – Дело не в дисциплинарном Рубиконе, а в том, что мы боимся матросов…
– Тише, – поднял руку лейтенант, – не затрагивайте не дозволенного начальством!
…к отдаче в дисциплинарные батальоны или роты сроком на один год и шесть месяцев…
– Да, боимся! – горячо воскликнул Морозов. – И в этом все несчастье! Мы в каждом их шаге видим начало бунта, восстания, революции… И сами ведем их к бунту бессмысленной жестокостью, сами!.. Шиянов, Греве, я, вы…
– Исключите меня, сделайте одолжение, – попросил Ливитин, – мое дело служба, и боле ничего.
– Ширма! Вы прячетесь!
Кочегаров 2-й статьи Павла Ефремова, Павла Кузнецова… Егора Советова – к содержанию в военно-исправительной тюрьме морского ведомства на восемь месяцев…
– Не спрячетесь, Николай Петрович, за службу! Мы сами эту службу создаем, как какого-то мрачного божка, и приносим ему в жертву матросов…
– Ну, здесь пошли обличения, – сказал насмешливо лейтенант и сел поудобнее. – У вас необыкновенно высокая душа, мичман Морозов, просто приятно!
Кочегара первой статьи Филиппа Дранкина и учеников-кочегаров, матросов второй статьи… считать по суду оправданными.
– Николай Петрович, – сказал Морозов, мучительно морщась, – зачем вы всегда строите из себя циника? Ведь я знаю, что вы отлично понимаете все эти обличения и в душе соглашаетесь с ними!..
– Не только понимаю, но вполне разделяю трагедию вашей высокой души, сказал лейтенант, тщательно приминая папиросу. – Трагедия – совершенно по старику Станюковичу: жестокий старший офицер и прекраснодушный порывистый мичман. Последний мучается несправедливостью и – как это? – «бледный, с горящими глазами, он подошел к старшему офицеру. „Позвольте вам заметить, господин кавторанг, что вы подлец“, – сказал он, волнуясь и спеша. Офицеры ахнули, Шиянов жалко улыбнулся. Мичман, медленно подняв руку, опустил её на щеку старшего офицера и, зарыдав, выбежал из кают-компании». Вечером мичман, натурально, стреляется, только попросил бы – не в моей каюте и не из моего револьвера.
– Вы все шутите, – сказал Морозов уныло, – а мне на душе так паршиво. Черт знает, какая подлость!.. Я выйду в отставку!
– Для начала отслужите за училище, вам, кажется, еще три года осталось? – усмехнулся лейтенант. – А потом – советую в сельские учителя. Схема ясная: «от ликующих, праздно болтающих, обагряющих руки в крови, уведи меня в стан погибающих…»
– Прощайте, – сказал Морозов, решительно вставая, красный и злой.
– Сядьте и сохраняйте спокойствие, – усадил его силой лейтенант. Никуда вы сейчас не пойдете. Вы находитесь в состоянии аффекта, в котором человек очень свободно может заехать в морду старшему офицеру и трагически кинуться за борт. Я вас понимаю: вам хотелось бы, чтобы я прижал вашу многодумную голову к своей груди и восхитился бы вашими переживаниями. Ах-ах, какая, мол, тонкая натура! Сядьте и примите холодный душ. Юрий, дай ему папиросу!
Юрий положил на стол приговор.
– А знаешь, Николай, – сказал он, доставая портсигар, – действительно что-то неладно. Уж очень жестокий приговор, мне тоже как-то не по себе.
– Вот еще подрастающий борец за правду! – кивнул на него Морозову лейтенант. – Оба вы – слепые щенки, и черта ли я с вами вообще вожусь? Но один – мой брат, а другой – друг. Поэтому слушайте и мотайте на ус.
Юрий присел на край койки.
– Прежде всего, во избежание недоразумений, поставим точки над «i»: Шиянов – трус, Греве – бездушный карьерист (по терминологии того же Станюковича), и оба, естественно, подлецы. Но дело вовсе не в их подлости… Как, по-вашему, командир – тоже подлец?
– Н-нет, – сказал Морозов неопределенно, – почему же? Ему Шиянов так все рассказал…
– По вашей логике – он тоже подлец: он должен был выйти к команде, а он не вышел.
– Правда, – сказал Юрий.
– Очень приятно. А адмирал?
Морозов махнул рукой.
– Этот кочегаров и в глаза не видел! Ему дали дознание, сфабрикованное Веткиным и Гудковым по рецептам Шиянова. Из-за этого дознания меня на суд не вызвали, так ловко повернул дело Веткин…
– Зачислим в подлецы Веткина и Гудкова, а также все-таки и его превосходительство. Оно же могло проникнуть в суть дела?
– Могло, – опять согласился Юрий.
– Брат более последовательный либерал, чем вы, Петруччио! Итак, кто же не подлец? Один мичман Морозов? Неверно. Он умолчал и не поднял вовремя шума.
– Вот в этом-то и дело, – вздохнул Морозов в отчаянии.
– Прошу принять в вашу компанию подлецов и меня, – сказал Ливитин с поклоном, – я знал эту историю и мог попросить катер. Мое выступление на суде было бы эффектным. А я этого не сделал, ergo [17]17
Следовательно (лат.).
[Закрыть]– я подлец.
– Правда, – сказал Юрий, фыркнув.
Лейтенант еще раз поклонился.
– Мерси! Итак, получается, что подлецы – все офицеры, а кроткие их жертвы – матросы. Но что из сего проистекает? Предположим, что все офицеры не были бы подлецами, – то есть лейтенант Греве выслушал бы претензию, кавторанг Шиянов снял бы наложенное им взыскание, мичман Морозов сохранил бы невинность, командир благословил бы сию кроткость агнцев, а адмирал пригласил бы всех устроителей этой мирной справедливости на парадный завтрак… Какая счастливая Аркадия!
Лейтенант даже вздохнул.
– И дошла бы сия Аркадия до морского министра. И написал бы морской министр на розовой бумаге поздравительное письмо участникам торжества: в ознаменование, мол, умиротворения на флотах и полного согласия между офицерами и матросами отдаю, мол, под суд за бездействие власти адмирала, командира, старшего офицера, лейтенанта Греве, правившего вахтой, и мичмана Морозова как ротного командира… И вот подняли бы опять гюйс – и повезли бы миноносцы в Кронштадт перечисленных лиц. А вместе с ними – прислушайтесь, Петруччио! – повезли бы опять-таки и кочегаров, кои выразили претензию, стоя во фронте в числе более восьми человек…
– Значит, все дело в этой мертвой цифре: «восемь»? – сказал Морозов раздраженно. – А если бы их было семь?
– Тогда вообще ничего бы не было, – рассмеялся Ливитин. – Бунта бы не было! Бунт бывает – обратите ваше внимание – лишь при числе бунтующих более восьми человек!
– Что за чепуха? – обиделся Юрий.
– Не чепуха, а законы Российской империи, – строго сказал лейтенант и усмехнулся. – Вы желаете существовать, мичман Морозов? Желаете, надеюсь. Так будьте любезны хранить законы и поддерживать их чистоту. Ибо государство, из коего вынут хоть один закон, немедленно обратится в груду анархических развалин… Вот в чем сила мистической цифры «восемь»!
– Вы говорите, что вы не революционер, – сказал Морозов спокойно. Хмель сошел с него вместе с волнением: одно, очевидно, питало другое. – А по-моему, о вас надо сообщить в жандармское управление… Если я вас понял правильно, вы предлагаете изменить систему законов Российской империи?
Лейтенант Ливитин осторожно стряхнул пепел и кивнул головой.
– Вы необычайно проницательны, Петр Ильич, это совершенно моя мысль.
– Значит – надо делать революцию?
– Тем, кого беспокоят эти законы, – да…
– А вам?
– Меня они не беспокоят. И вас, смею заверить, не беспокоят. И его, лейтенант кивнул на Юрия, – и его не будут беспокоить… Они беспокоят тех, кого они давят.
– То есть матросов?
– Не только матросов, – сказал Ливитин, удобно вытягивая ноги, – примерно семь или восемь десятых населения нашей цветущей страны…
Морозов даже оглянулся на дверь.
– Тогда революция неминуемо должна быть?
– Всенепременно и обязательно, – охотно подтвердил лейтенант.
Юрий, уже давно хмурившийся, наконец взорвался:
– Если продолжать твою логику, выходит, что надо самому стать революционером, иначе эта неминуемая революция тебя раздавит!
– А это – как на чей вкус, – улыбнулся лейтенант. – Меня лично эта профессия не шибко восхищает: хлопотно и пахнет каторгой… И кроме того, ничего не может быть гаже фигурки российского революционного интеллигента: брошюрки, сходки, хождение в народ и горящие глаза, благородные речи о страдающем меньшом брате, – словом, революция на полный ход до первого классного чина в департаменте или первого гонорара за полезную адвокатскую деятельность. И тогда – просвещенный либерализм и лицемерные воздыхания… Петруччио, не сердитесь: не вы один, подавленный мировой несправедливостью, трагически хватались за пистолет. Только потом все эти прекраснодушные самоубийцы благополучно примиряются с мировой несправедливостью, получив казенное место и приличное жалованье… Слякоть!
– Однако многие из них пошли на виселицу за революцию, – горячо перебил Морозов. – Это – тоже слякоть? При всем вашем цинизме вы не смеете унижать подвижничество народовольцев, декабристов, лейтенанта Шмидта…
– Не галдите вслух, мичманок, здесь военный корабль, – сказал Ливитин серьезно. – Я не про них. Никому не возбраняется бесплодно лазать на Голгофу, бесплодно, потому что все равно революцию сделают не они. Революция придет снизу, мимо вашего героического фрондерства. И будет эта революция совсем не такой, какой вы себе её представляете; не дай бог, если она случится в нашем поколении, благодарю покорно…
– Если вы так отчетливо видите приближение революции, – ехидно вставил Морозов, – тогда будьте последовательным: давите ее, чтоб дотянуть благополучно свое поколение.
– Почитайте, Петрусь, «Историю Пугачевского бунта», господина Пушкина сочинение, почитайте и взгляните революции в лицо. Она будет страшна и истребляюща. Пугачев был умный мужик и смотрел в корень: бей бар и господ, а после, мол, разберемся, что к чему! Вы знаете, какая сила поперла за ним на этот клич? Сообразите, чем вы эту силищу удержите? Не этим ли? – Он подкинул на ладони браунинг и пренебрежительно швырнул его на койку. – Самоутешение идиотов! Девять зарядов и девять сотен Митюх – арифметика убедительная. Предоставим Шияновым и Греве верить во всемогущество этого талисмана… Задача жизни, мои юные друзья, заключается не в том, чтобы сдерживать перстом жернова истории, а в том, чтобы между этими жерновами найти свое место. Всякое поднявшееся на дыбы зерно будет размолото в муку. А то, которое найдет свою ямочку, уляжется в нее и не будет подыматься в возмущении – будет благополучно крутиться… Вот вам философия непротивления, исправленная и дополненная лейтенантом Ливитиным. Открой дверь, Юрик, это, наверное, о катере докладывают.
Но в открывшейся двери стоял боцман Нетопорчук. Он был красен от волнения и напряжен заранее.
– В чем дело, боцман? Ко мне? – спросил Ливитин.
– Дозвольте, вашскородь, доложить…
– Дозволяю.
– Дозвольте, вашскородь, прощенья просить, как я обознался с вашим братцем, господином гардемарином, – начал Нетопорчук хрипло, моргая глазами. – Так что, вашскородь, они, значит, вышли ночью оправиться и не по форме одеты были…
– Знаю, – сказал Ливитин, и Нетопорчук переступил с ноги на ногу.
– Так что окажите милость, вашскородь, простите за глупость… Кальсонов сперва на них не было видно, я потом разглядел, что кальсоны господские… Разве бы я позволил?..
– У него проси прощенья, не у меня, – сказал лейтенант, отводя глаза. Морозов тоже опустил голову, тщательно приглаживая уголки приговора.
Нетопорчук, затосковав и багровея до шеи, повернулся к Юрию.
– Простите за глупость, господин гардемарин, – проникновенно сказал он, подымая на него глаза.
Юрий покраснел. Взрослый человек, серьезный и печальный, смотрел в глаза преданно и виновато. В этом было какое-то позорное и гадкое ощущение, точно кто-то целовал ему сапоги, а он старался отдернуть ногу.
– Я ничего… я даже не помню… Ступай, пожалуйста, – ответил Юрий, неловко путаясь в словах.
– Тогда дозволите идти, вашскородь? – спросил Нетопорчук, облегченно вздыхая.
– Ступай, – кивнул ему лейтенант и потянулся за папиросами.
Нетопорчук вышел. Неловкое молчание повисло в каюте. Все трое не хотели смотреть друг другу в глаза. Лейтенант медленно закуривал; спичка почти догорела, когда он щелчком швырнул её в пепельницу, и тогда мичман Морозов резко встал.
– Как все это подло… мерзко… гадко… – сказал он, морщась, раздельно кидая слова, как плевки, и складывая приговор дрожащими пальцами вдвое, вчетверо, в восемь и в шестнадцать раз. – Ужасный, организованный абсурд! Николай Петрович, как вы можете…
– Войдите! – громко крикнул лейтенант, и Морозов замолчал, не находя пальцами кармана.
– Катер подан, вашскородь, приказано доложить, – сказал рассыльный с вахты, вытянувшись в двери.
– Хорошо, ступай, – ответил лейтенант, вставая. – Ну, собирайся, Юрий, поцелуемся! Петруччио, я прошу вас не уходить из моей каюты. Вам некуда идти и незачем…
В катере Юрию стало грустно. Он сидел один в кормовой каретке, слушая негромкий рокот машины. «Генералиссимус» бесшумно и плавно отступал назад, слабо освещенный последними косыми лучами огромного солнца, сплюснутого у горизонта, и было нельзя различить на корме высокую фигуру брата. Может быть, он спустился уже в кают-компанию.
Юрий вздохнул. Она снова просияла перед ним всеми люстрами, лампами, белыми кителями, серебром и скатертью стола – волшебным видением праздничной, чудесной жизни, далекой целью нудных и утомительных трех лет несвободного гардемаринского прозябания. Настоящий корабль, сверкнувший ему тремя днями великолепной флотской службы, маня, отходил вдаль. Он медленно поворачивался, меняя очертания (катер огибал линкор с носа), и мачты его быстро сходились. На момент они слились в одну, и тогда «Генералиссимус» потерял свою огромную длину: он грузно расселся вширь, оплывая броней с башен и рубок книзу, как будто она не могла сдержать своей собственной тяжести и медлительно стекала к бортам, как незастывшая краска, наслаиваясь и утолщаясь темно-голубыми своими потеками. Низкий, неподвижный и грозный, он уставился пустыми глазницами якорных клюзов в воду перед собой, и казалось, что тусклое тонкое её стекло было прогнуто у бортов спокойной и непомерной его тяжестью. На баке, где тонко торчал гюйсшток с разноцветным гюйсом, было безлюдно. «Генералиссимус» молчал, и молчание лежало на рейде.
Внезапно корабль вскрикнул высоким, жалобным, протяжным криком. Звук родился непонятно откуда. Казалось, это кричал сам корабль, и то, что голос его был слаб и высок, было неожиданно страшным. Чистый, тонкий вопль повис над тишиной рейда, продержался несколько секунд, потом упал на октаву вниз, и печальные, медлительные квинты начали безнадежную жалобу на неизвестном языке.
Это была обыкновенная повестка – сигнал, играемый на горне за четверть часа до спуска флага. Юрий слышал её в плаванье каждый день, но никогда еще она не рождала в нем такой печальной тревоги, как сегодня. До сих пор сладко трогавшая его чувствительность и вызывавшая неопределенные мечтания, сегодня она была неприятно томящей. Большой, могучий корабль, отступающий вдаль, очевидно, плакал неуклюжими и страшными мужскими слезами, и от этого стало неуютно. Юрий решительно встал, приписав этот горький осадок исключительно своей грусти от расставания с «Генералиссимусом», и вышел из каретки на борт катера, чтобы отделаться от неприятного впечатления.
Вдоль кожуха безобразной грудой лежали сундучки и какие-то корзинки, сваленные как попало. Крючковой среди них стоял одиноким столбом на пожарище.
– Что это за багажный вагон? – спросил Юрий шутливо и достал было портсигар, чтобы угостить крючкового папиросой и в разговоре забыть о тоскливом крике корабля.
Крючковой посмотрел на него сбоку, не поворачивая головы.
– Приказано сдать на «Бдительный». Осужденных вещи.
Юрий смешался. Тон крючкового был серьезен. Шутки его матрос не захотел принять, и это было унизительно. Он повернулся, небрежно насвистывая, чтобы сохранить достоинство, и взглянул вперед.
«Бдительный» вырастал впереди узким и хищным своим телом. Игрушечный трапик в четыре ступеньки был важно спущен с борта и гордился медными своими стойками и толстыми фалрепами, обшитыми красным сукном, совсем как у больших. На палубе было пусто. У среднего люка неожиданно и волнующе возникла фигура часового. Острый штык его торчал в небо. Наличие этого штыка в совсем не положенном месте палубы было понятно, неприятно и зловеще.
Этот штык, плач повестки, сундучки и корзинки, гюйс на пустынном баке молчаливого «Генералиссимуса», браунинг Морозова, приговор слились в неразрывную цепь ассоциаций, и она давила сердце тревожным и неловким ощущением. Пустяки, походик будет! На миноносце, набитом бунтовщиками-кочегарами!..
Но над трапиком, встречая катер, белым ангелом-хранителем склонился розовощекий мичман. Юрий узнал в нем Петрова, который год назад в корпусе был унтер-офицером его отделения. Поэтому (и потому еще, что приезд Юрия был предварен семафором лейтенанта Ливитина) его приняли на миноносце, как родного, и Петров тотчас провел его в кают-компанию. Она была светлой и душистой, крохотной, как бонбоньерка, и необыкновенно уютной. Круглый стол занимал почти всю её площадь, над диванами вокруг него нарядно и весело сверкала эмалевая краска выжженных по ореховой панели орнаментов и картин в билибинском вкусе – витязи, жар-птицы, Иван-царевичи и Елены Прекрасные, собственноручный подарок кают-компании от старшего офицера. В одной из кают, двери которых выходили прямо к круглому столу, бросался в глаза необычайный абажур: с подволока, охватывая тонким прозрачным батистом яркий матовый шар лампы, свисали дамские кружевные панталоны с голубой ленточкой, продернутой в прошивке.
Петров, спустившись вместе с Юрием, представил его сидевшим за столом командиру, старшему офицеру, ревизору и механику (сам он был здесь вахтенным начальником и штурманом). Офицеры радушно протягивали Юрию руки, называя себя и одновременно не забывая гостеприимства.
– Старший лейтенант Петров-Третий, – сказал командир. – Чайку? С коньяком?..
– Мичман Петров-Девятый, прошу любить и жаловать, – подхватил ревизор и подвинул к Юрию сахарницу. – Вы до Кронштадта с нами? К подъему флага будем, адмирал торопит.
– Лейтенант Петров-Седьмой, – сказал механик, а старший офицер сперва крикнул в буфет:
– Вестовые, стакан! – и потом протянул Юрию руку в свою очередь. Лейтенант Петров-Пятый. Ночевать, не обессудьте, придется на диване…
Коллекция Петровых поразила Юрия, и, плескаясь в умывальнике в свете кружевных панталон (хозяином этой каюты оказался Петров-знакомый), он спросил его об этом вполголоса.
– А вот подите ж, – мрачно сказал Петров. – Я по старшинству выбрал минную дивизию, явился к адмиралу нашему в штаб, представляюсь. «Петров? Отлично. На „Бдительный“!» Приезжаю, у них лица вытянулись: еще Петров?.. А потом флажок [18]18
Флаг-офицер, штабной офицер для поручений.
[Закрыть]по пьяному делу пояснил: адмиралу моча в голову ударила, подбирает по фамилиям. К нам – Петровых, а на «Бурном» – Ивановых набрал. Только там командир подгадил, Гобята по фамилии, всю музыку ему портит.
Юрию хотелось рассмеяться, но унылое лицо Петрова (дыне Петрова-Четырнадцатого) этому мешало. Он спрятал лицо в полотенце, а Петров продолжал:
– Сволочь адмирал. Он традицию насаждает, а нам хоть плачь! Телеграммы путаем, письма; и служба ни к черту, матросы ржут… Да у нас ничего, а вон на «Лихом» лейтенант Курочкин стреляться хочет: к нему адмирал командиром Куроедова ляпнул… Пойдем чай пить до похода, у Третьего коньячишко неплохой…








