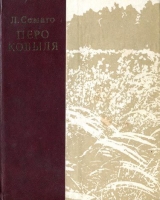
Текст книги "Перо ковыля"
Автор книги: Леонид Семаго
Жанр:
Природа и животные
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 14 страниц)
Призраки песчаной пустоши

Горячее степное лето с бездождьем и суховеями дошагало до своей вершины. Солнце с утра превращало песчаное левобережье Хопра в настоящее пекло. Никли и сохли травы на открытых местах, и лишь душистый чабрец все пышнее расцветал сиренево-розовым цветом, да висел медовый дух над густыми зарослями качима перекати-поля. Днем не было слышно в белесоватом небе ни щурок, ни жаворонков, и лишь изредка безмолвие сморенной зноем равнины оживляли голоса полевых коньков. Множество переплетающихся цепочек и строчек разных следов и следочков на пыли в песке говорили о том, что живого вокруг много, но прячется оно от дневного зноя, где может.
И вот наконец из-за хоперских крутояров медленно и грозно начала выползать чудовищная туча. Разбухая, как гигантский взрыв, она заняла полнеба и вдруг выбросила из своей многокилометровой утробы такой водопад, что на укатанных дорогах между невысокими дюнами в несколько минут разлились озерца. Лишь под вечер очистилось небо и, блеснув первой звездой, стала раздвигаться полоска догоревшей зари, отражаясь, как в темных зеркалах, во всех дорожных лужах. В одной из них четко вырисовалась перевернутая фигурка стройной, длинноногой птицы, наклонившейся к воде. Постояв немного, птица унеслась в темноту подступившей ночи, мелькая зигзагами белых полос на крыльях. И, смешиваясь с печальным тюканьем проснувшихся сплюшек, в ту же сторону унеслось протяжное и какое-то всхлипывающее стенание – крик степного кулика авдотки.
До утра метался в темноте голос невидимой и странной птицы, то словно просящий о помощи, то зовущий в невидимую даль, то как бы встревоженный непонятной опасностью. Все реже раздавался он на рассвете и прозвучал в последний раз с первым лучом солнца. Звуки голоса авдотки трудно передать буквами и трудно спутать с другими. Слышится в них и сипловатый плач, и безнадежно-тоскливый, грустный зов, и несдерживаемый надрывный возглас. Птица не одноголоса, но этот крик слышен в местах ее обитания чаще всех прочих.
Встреча с авдоткой – дело случая. Можно тысячи раз слышать ее голос и не увидеть ни разу ни ее саму, ни яйца, а птенцов – тем более. Она – обитательница песчаных и глинистых пустынь, степей, пустошей, долинных безлесных дюн, морских побережий, бесплодных земель. В СССР северная граница ее ареала тянется от озера Зайсан и Прибалхашья на северо-запад, к южным берегам Балтики. Но если в редких, низкорослых саксаульниках Казахстана или в нижнем Поволжье это обычная птица, то уже на среднем и верхнем Дону – одна из случайных. Не охота, не распашка целины и залежей сделали здесь авдотку редкостью, а разведение на пустошах леса: огромные пространства ее исконных местообитаний заняты сплошными массивами сосны.
Авдотка – птица не из мелких. По размеру и весу ее, пожалуй, можно сравнить с самым крупным из европейских голубей, вяхирем. Но в ней нет голубиной плотности. Ни одна из самых лучших фотографий авдотки не передает той стройности, подтянутости и особой легкости, идеальной обтекаемости корпуса, которые присущи спокойно настроенной птице. Когда самец, патрулируя участок вокруг гнезда, останавливается на сторожевом бугорке и, застыв, как изваяние, осматривает местность, трудно найти более изящное создание природы.
На первый взгляд, авдотка кажется головастой. Но, пожалуй, не голова великовата, а глаза огромны. И клюв больше, массивнее и крепче, чем должен быть у кулика такого роста. Самое замечательное и удивительное в облике степного отшельника все-таки глаза. Из дневных птиц подобные глаза разве только у ястреба-тетеревятника, из ночных – у болотной совы. Огромные, ярко-желтые, они выдают затаившуюся авдотку днем шагов за полтораста. Это глаза ночной птицы, хотя ни разу не приходилось видеть ее дремлющей при дневном свете. Козодой, сова в лесной тени прикрывают глаза, почти зажмуриваются, авдотка не прищуривается и при ярком солнце. Днем птица выглядит головастее, чем ночью, потому что на свету она ерошит перо на лбу. Коротенькие перышки над глазами наподобие узеньких козыречков защищают их от прямых солнечных лучей, но не придают авдотке выражения суровости, как у хищных птиц.
Такими огромными становятся глаза у авдотки смолоду, когда она из птенца превращается в крылатую птицу. А птенцу, которому в любой миг по приказу или самостоятельно приходится затаиваться, нельзя иметь большие, тем более яркие глаза, которые могут выдать его врагу. Закрывать их, зажмуриваться тоже нельзя: надо быть начеку. Поэтому у многих куликов птенцы выглядят подслеповатыми, у некоторых глаза замаскированы темной полоской, которая тянется от клюва.
Когда куличонок впервые становится на ноги, пошатываясь от неуверенности, кажется, что старается он уравновесить туловище и голову, на которую приходится треть его объема, что вот-вот она перетянет, и ткнется птенец коротким клювом в землю. А глаза малы и какого-то неопределенного, песчаного цвета. Чуть прищурившись, смотрит птенец хмуроватым, тяжелым взглядом на солнечный мир, и пока не сменит пуховый наряд на платье из пера, не станет взгляд у него ни яснее, ни дружелюбнее. Но выражение птичьих глаз редко соответствует истинному характеру, ибо чаще всего оно зависит от цвета радужки, а не от наклонностей или настроения их обладателя.
Только на свои глаза полагается авдотка и днем и ночью. Самец, охраняя территорию, пока самка на гнезде, не поднимается на крыло, а осматривает местность со сторожевых бугорков и кочек, то вытягиваясь на них во весь рост, то наклоняясь к земле, чтобы приблизить горизонт. Видимо, поле зрения у него круговое, потому что, не поворачивая головы, сторож мгновенно замечает любое движение впереди, сбоку, позади себя. Безлунной ночью авдотка на расстоянии пятьдесят-шестьдесят метров замечает движение, которое человек с острым зрением едва различает в пяти шагах. И это еще не все о глазах авдотки: в темноте они у взрослых птиц светятся в неярком отраженном свете бледно-красным светом, немного слабее, чем у козодоя. В ночной степи это свечение можно принять за отблеск заячьих глаз, которые у русака тоже отсвечивают красным, но ярче.
Увидеть ненапуганную авдотку в крейсерском полете засветло удается значительно реже, чем сову, охотящуюся при солнце. Поэтому о полетном мастерстве ночного кулика можно лишь догадываться, слыша его крики над степью да видя мелькающие в свете автомобильных фар белополосые крылья. Авдотка – и ходок, и бегун. Короткие перебежки у нее очень стремительны, и порой кажется, что на одном месте птица незаметно спряталась, а на другом в ту же секунду появился ее двойник. Так самец, охраняя участок, постоит-постоит на сторожевом бугорке, и вдруг нет его, словно кончилась смена и лег дозорщик отдохнуть, а на соседнем бугорке встал на вахту его сменщик. Но такую резвость птица проявляет лишь при коротких перебежках. Если приходится бежать несколько десятков метров, то в ее движениях появляется какая-то неуверенность: шаги становятся короче, бег замедляется, и в конце концов птица или улетает, или ложится, затаиваясь.
Авдотка способна оценивать степень риска, и не всякая опасность заставляет ее спасаться бегством или покидать гнездо днем. Она, как и ворона, одинаково узнает человека и пешего, и конного, и сидящего в автомобиле. Идущего стороной лишь проводит взглядом. Если человек идет в ее направлении, отойдет с его пути и затаится невидимкой на земле. А затаивается так, что стоит на несколько секунд отвести от нее взгляд, и, если рядом не было приметных кустиков, камешков, кочек, ее приходится отыскивать заново.
К животным авдотка относится по-разному. На зайца, наверное зная, что он вегетарианец, не обращает внимания, даже когда тот пасется рядом с гнездом. Не боится ворону и сороку – бичей мирных птиц. На пролетающих мимо канюка или коршуна лишь посмотрит внимательным взглядом. Видимо, знает, как защититься от тетеревятника. Одна пара тетеревятников, на чьей огромной охотничьей территории жили авдотки, довольно часто приносила на гнездо взрослых куропаток и ни разу – авдотку или ее птенца. Создается впечатление, что птица эта не только смела и осторожна, но и сообразительна. В этом убеждает и способ защиты яиц и птенцов. От яиц или затаившихся птенцов мать быстро отбегает в сторону и затаивается. Застать ее на гнезде врасплох невозможно. Поэтому у нее нет никакой необходимости притворяться раненой или увечной, как в таких случаях поступают многие ее сородичи. Если врасплох был застигнут ее птенец, ростом уже с бекаса, он проворно убегает от опасности, а мать, которая до этого момента не проявляла видимого беспокойства за его судьбу, мгновенно отвлекает внимание на себя. Она бросается в противоположную сторону, падает, распластываясь на открытых местах, разворачивает вздернутый хвост, раскидывает по земле крылья с белыми полосами, вскакивает, пытаясь бежать, спотыкается, падает снова. Не заметить этого представления, не соблазниться легкой добычей невозможно. Птенец тем временем исчезает. Потом, когда минует опасность, мать отправляется разыскивать его, потому что сам он ни за что не встанет. Отец никогда не принимает участия в этом представлении, хотя внимательно наблюдает за развитием событий со стороны. Возможно, что его безучастность только кажущаяся, что он готов рисковать собой, но лишь тогда, когда действия самки не принесут результата и хищник продолжит преследование птенца. Однако такой ситуации мне не приходилось видеть ни разу.
Днем в тех местах, где живет авдотка, особенно в самую жару, ей охотиться, пожалуй, не на кого. Для нее короткие ночи добычливее длинных дней. Ночами не только в степи, но и в пустыне выходят из прохладных подземелий сверчки, мокрицы, медведки. Четвероногой мелкоте тоже лучше не встречаться с ночным охотником. Авдотка хотя и кулик, но с наклонностями хищника. Ее крепкий, острый клюв годится для ловли не только жуков и улиточек. И в неволе прирученная птица предпочитает мясной корм всему прочему. К воде по вечерам авдотка прилетает не столько для того, чтобы поохотиться на других жаждущих, а чтобы напиться самой. Ведь день-деньской под палящим солнцем без единой капли во рту. К дневной охоте авдотка переходит, когда подрастают птенцы, которым, чтобы нормально расти, корма нужно намного больше, чем они смогут сами добыть за короткую июньскую ночь.
Жизнь авдотки во многом остается тайной, которую скрывает не только ночь, но и сама птица, не позволяя подсматривать за собой даже в самые темные часы. Почти все представления о ее поведении сложились из наблюдений, во время которых птица была скована в своих действиях, видя или чувствуя присутствие человека. Я однажды целые сутки просидел в тесном фанерном коробе неподалеку от ее гнезда и был уверен, что ни сама наседка, ни сторож-самец ни на секунду не забывали обо мне, хотя могли видеть только объектив монокля, вставленного в специально прорезанное отверстие. Они оба постоянно были настороже, но уйти не могли: из яиц выклевывались птенцы.
Эта пара загнездилась на пустыре в ста шагах от колхозного коровника, в неглубокой котловине с реденькими кустиками жестколистого житняка и метельчатой полыни. Пустошь была настолько непривлекательной для скота, что станичное стадо всегда обходило ее стороной. Однако насиживающая авдотка может в одиночку отвернуть корову от яиц или маленьких птенцов. Чуть выступив навстречу рогатому чудищу, птица расставляет крылья и с шипением крутится перед коровьей мордой. Неожиданность, угрожающие звуки, горящие глаза, клюв, как короткая пика, резкие выпады производят на корову нужное впечатление, и она, забыв о достоинстве, пятится или даже шарахается от маленькой смелой птицы.
Гнездо было найдено тогда, когда в обоих яйцах уже попискивали птенцы, в скорлупе были большие трещины, и до появления на свет двух новых жизней, может быть, оставались не часы, а минуты. Было уже за полдень, и беспокоило то, что птенцы могут выбраться из своих темничек ночью, как это бывает часто у ночных птиц. Был у меня с собой инфракрасный монокль, но пуховых птенцов и через него не рассмотреть: они как сгусточки дыма. Однако я видел, как днем родился птенец козодоя, как вылупился совенок, как освободился от скорлупы птенец ночной цапли кваквы. Могло повезти и с авдоткой.
На маленьком грузовичке-вездеходе, бросив в кузов два листа фанеры и какой-то старый ящик, мы всемером приехали на пустошь и в несколько минут соорудили из этих листов что-то вроде бочки без днища и крышки, поставили в нее ящик, прорезали отверстие для монокля, прокололи шилом две дырочки для глаз и успели найти обоих авдоток, которые неподвижно лежали в разных местах (не за это ли было у авдотки еще одно народное название «лежень»?). Я остался в бочке, а шестеро уехали. Это обмануло птиц, и как только грузовик перевалил за соседний бугорок, самка подбежала к гнезду и сразу легла на яйца, словно боясь, что перегрелись они под солнцем.
Следом подбежал самец и молча остановился клюв против клюва, как бы спрашивая взглядом: «Ну, что они там?» Наверное, получив и ответ через взгляд, он повернулся и медленно пошел обратно. Никогда, ни до этой встречи, ни после нее не приходилось мне видеть, чтобы так ходили птицы. Осторожно выставляя ногу вперед, самец как слепой, вдруг оказавшийся без поводыря и посоха, прощупывал лапкой чуть ли не каждый сантиметр песка, а потом так же переставлял другую. Цапля подкрадывается к добыче быстрее. Лишь отойдя на полтора метра (за пять минут), он перешел на нормальный шаг и побежал к сторожевому бугорку, больше не приближаясь к гнезду.
В поведении наседки как будто ничего не изменилось по сравнению с теми днями, когда насиживание только начиналось. Но под вечер, когда в степи появились тени, начала спадать жара, самка встала, отошла на несколько шагов для короткого туалета и долго стояла, как изваяние, не спуская глаз с яиц, которым вполне хватало тепла песка и воздуха. Поза птицы выражала ожидание, желание увидеть, как и кто выберется из яиц.
За это время около ее гнезда побывали хохлатый жаворонок, полевой конек, удод и здоровенный заяц. Жаворонок, собирая корм для своих птенцов, подошел вплотную к яйцам и чуть не подпрыгнул от неожиданности, поставив острый хохолок торчком в положение «Внимание!», но тут же засеменил дальше, не оборачиваясь больше на непонятный писк: дела. Потом подбежал тонконогий конек, насторожился, постоял минуту, вглядываясь в огромные для его роста яйца, в каждом из которых он уместился бы целиком (яйца авдотки вдвое крупнее яиц вяхиря при одинаковом весе птиц). Наседка не сделала ни шага в сторону любопытного соседа, а когда тот подошел к яйцу вплотную и, чуть склонив головку, стал слушать, она спокойно легла на песок, где стояла. Уже на закате третьим посетителем был удод, на которого большое впечатление произвел пристальный авдоткин взгляд, и хохлатый сосед деловито прошагал мимо. Ровно два часа лежала и стояла в стороне самка и, лишь когда стало свежеть, снова легла на яйца.
А я, устав от неподвижного сидения на полуразвалившемся ящике, решил записать виденное и сменить положение, но когда снова посмотрел на гнездо, авдотки на нем не было. Сторож стоял у дорожной колеи, а самка исчезла. Вернулась она с явной опаской уже в сумерках. Мне подумалось, что это была ее первая отлучка на охоту, но потом я убедился, что с расстояния в тридцать шагов птица замечала мои движения внутри короба, и как только я отводил от нее взгляд, вставала и отбегала за кустик житняка. Когда уже почти совсем стемнело, я поднял над краем фанеры палец, и авдотку словно в мгновение ока сдуло с места, только замелькали полосы на крыльях и растворились в темноте. А в полночь, когда я отыскал на пустоши зеленые огоньки птичьих глаз, у меня не было уверенности, что они не видят направленный на них инфракрасный луч.
Первый птенец вылупился до рассвета, к утру обсох и уже вставал на ноги. Второй увидел солнце ровно в полдень. Мать лежала на гнезде как ни в чем не бывало, и казалось, что ее единственным развлечением было наблюдать за путешествием муравьиного льва, менявшего голодное место на уловистое. Невидимый в песке, он вычерчивал перед ее клювом замысловатую бороздку, пока снова не оказался в старой воронке. Как будто ничто не извещало ее о скором конце бессменного сидения на гнезде, только иногда вздрагивала птица чуть-чуть, а большие глаза становились еще больше от чувства тревоги: а вдруг кто-то услышит слабое попискивание, которое раздается под ней.
Рождение второго птенца было невидимо, мать только начала вздрагивать чаще и сильнее, будто ее подталкивали снизу. Значит, выбрался и второй и старался лечь поудобнее, как лежат птицы. Самка приподнялась, огляделась, схватила большую часть пустой скорлупы и торопливо отбежала с ней метров на двадцать и так же торопливо стала бить ее о песок, ломая на мелкие кусочки и разбрасывая их между реденьких травинок. Одни обломки упали окрашенной стороной наверх, другие белели яркой изнанкой, но ничем не напоминали скорлупу, которой они были все вместе минуту назад. Авдотка вернулась к гнезду и проделала то же самое с крышечкой скорлупы, но отнесла ее поближе и ломала не так старательно. А самые мелкие осколки просто отбросила от ямки.
Птенец подсох немного, пока мать бегала со скорлупками, и у него развернулись кончики пушинок на спине и на голове. Не верилось, что он, такой головастый, большеногий, с короткими крылышками, мог уместиться в такой тесной и неудобной упаковке, какой было яйцо. Самка уже не ложилась, а стояла над обоими птенцами, прикрывая их своей тенью. Первому не лежалось. Рядом с еще не обсохшим братцем он выглядел солидным, пушистым крепышом. Уверенно вставал на ноги, топтался вокруг матери, брал коротким клювиком камешки, обломки сухих былинок. Он явно искал какое-то занятие и, может быть, попробовал бы схватить жука или мокрицу, окажись кто из них рядом. Но все-таки силенок у него было маловато, и вскоре он упал у ноги матери.
Прошло еще несколько минут. Мать без особой настороженности, чуть склонив голову набок, посмотрела на парящего коршуна и отошла чуть-чуть от гнезда-ямки. Оба птенца, уже запомнив облик двуногого, высокого существа, встали тоже, дошагали до нее и снова улеглись в тень. Короткий отдых и еще один небольшой переход. Потом еще. Под почти отвесными лучами теней мало, и невозможно различить, куда направились следы от легких трехпалых лапок. Яркий глаз матери выдал новое место отдыха, уже около кустика чахлого молочая, где крошила она последнюю скорлупку. Голова к голове, тесно прижавшись друг к другу, немного прикрыв глаза, лежали на песке два одинаковых птенца. Лежали как бесцветные комочки сухой ветоши: дунет ветерок – и не останется от них следа.
Мать переводила их с места на место простым приемом: встанет, отойдет шагов на пять, остановится, и оба малыша, как могут, перебираются к ней, в ее тень, и все дальше и дальше отходят они от того истоптанного пятачка, который был гнездом. И за каждый такой переход оба птенца обязательно что-то потрогают клювом, подержат, не пытаясь проглотить, потому что пока еще не проголодались.
Отец увидел своих близнецов только под вечер. Днем он маячил на сторожевых бугорках, мелькал среди редких кустиков, подолгу лежал у старой тропинки, но ни разу не приблизился к птенцам. Малыши к вечеру держались на ногах настолько уверенно, что могли делать коротенькие перебежки, не теряя устойчивости при остановке. И чем сильнее сгущались сумерки, тем оживленнее становились сонливые днем птенцы. Темнота скрыла их от наблюдения, и не помог даже инфракрасный луч. Светились зеленым светом глаза взрослых, четко были видны их светлые, стройные силуэты, но малышей не удавалось разглядеть рядом с ними ни в темноте, ни в луче сильного прожектора.
К концу июня, то есть за месяц, птенцы почти догнали в росте мать, полностью переодевшись в наряд взрослых птиц. Однако из-под родительской опеки они еще не вышли. Правда, отец заметно охладел к выводку, и близнецов чаще приходилось видеть только в сопровождении матери. Она была по-прежнему заботливой, предупреждала их об опасности, и они подчинялись ее сигналам. А она, словно веря в их опыт, уже не представлялась раненой, а только старалась не терять их из виду.
Жерлянка

Застоялась в придорожной мелкой канаве вода июльских грозовых дождей, зацвела, подернулась ржавым налетом, на котором ржаной соломиной можно рисовать и писать, как на школьной доске. Все написанное и нарисованное на ней исчезает бесследно, не исчезают лишь три пары черных, похожих на рачьи, глаз. Только когда пошевелишь соломиной около них, исчезают и они, не оставляя следа на коричневой пленке. И где-нибудь еще на затянутом ряской озерце чуть приметно дрогнет зеленый ковер, и мгновенно скроются под ним те же самые глаза. И в ямке, что осталась на сыром лугу от коровьего копыта, хватило места обладательнице тех глаз – жерлянке.
Три жерлянки, которые отсиживались в канаве, были глинисто-ржавого цвета, как и поверхность воды в ней. Те, что под ряской прятались, оказались зелеными с темными пятнышками, а в ямке от коровьего копыта сидела почти черная, как болотная грязь. Не светлеет и не темнеет окраска спины у слепого животного, потому что мир для него погружен в вечную ночь. У зрячих она то серая, то с желтизной, то иного цвета, смотря какое под ними дно, какая вода. И только пузечко и у взрослых, и у недавно обретших четыре ноги, в любую погоду и на любом фоне одинаковое – иссиня-черное, будто вороненое, с ярко-оранжевыми пятнами и разводами, за которые дано жерлянке книжное название – краснобрюхая. Но исстари в наших местах называли жерлянок за голос, не видя самих, бычками.
Это не похожее ни на лягушку, ни на жабу бесхвостое существо и есть один из тех знакомых незнакомцев, голоса которых слышали все, но не видел почти никто. Голос тих и приятен на слух. Кажется, что его легко и просто воспроизвести с первого раза. Но это далеко не так, потому что многие односложные и однотонные звуки природы под силу повторить только самым талантливым пересмешникам из птичьего мира. Но и они не в состоянии передать тот поразительный эффект, когда с озерца, степного прудика, речного затончика или просто снеговой лужи звучит весенний хор таинственных невидимок. Тихое стенанье-уканье сливается в один общий, непрерывно звучащий стон, в котором не различить отдельных голосов. Слабые и тихие, они вместе слышны ясными вечерами за километр. В их звучании, несмотря на некоторую заунывность, есть какая-то особая музыкальность и певучесть. И сами жерлянки будто бы не любят громких криков: когда на одном болоте с ними орут, надсаживаясь, озерные лягушки, все жерлянки собираются где-нибудь в дальнем уголке.
Укают они, как жабы и лягушки, только в воде, и водный простор многократно усиливает их голоса. Одинокого певца на легкой ряби, среди старого мусора и травки заметить невозможно, как ни присматривайся. Зато на чистой воде и в безветрие он как на ладони: словно поплавок, лежит на одном месте и меланхолично укает. Вздрогнет, выпятив вперед горлышко, будто с натугой выдавит свое «уннк», и в тот же миг, как крошечный фонарик, вспыхнет у него на подбородке оранжевое пятнышко, которым он, наверное, сигналит своим. Поющая жерлянка лежит на воде, накачав сама себя воздухом до предела, как пузырь. Стоит ей заподозрить действительную или мнимую опасность, как она без малейшего усилия мгновенно скрывается под водой, выпустив часть воздуха, и на поверхности остаются лишь черные, словно рачьи, глаза. Если все спокойно, то через несколько минут, снова накачав себя воздухом, всплывет жерлянка и начнет укать в прежнем темпе.
Не только надувается поющая жерлянка, но и раскисает от воды: ни дать, ни взять – гриб моченый. Ее ноги и туловище распухают и становятся не просто дряблыми, а будто налитыми слизью, в которой нет твердой опоры. Однако на суше нормальный вид возвращается к ней очень быстро. И происходит это превращение не от долгого сидения в воде. Летом, осенью и даже зимой жерлянку можно сколько угодно долго против ее воли держать в аквариуме, и она нисколько не размокнет, а останется бодрой и подтянутой.
Врагов у жерлянок немного, потому что ее ядовитая кожа отбивает у неопытных охотников на всю жизнь желание ловить их. И только ужи и цапли, кажется, нечувствительны к этому яду. Но яд – последнее средство защиты, он действует тогда, когда жертва уже в пасти хищника и даже убита им. Зато ее гибель спасает жизнь другим жерлянкам, потому что хищнику бывает вполне достаточно одного урока, одной ошибки, чтобы больше ее не повторять. Кроме яда, у жерлянки есть две системы предупреждения нападения. Одна – способность изменять окраску в тон фону и становиться невидимой, вторая (она применяется как крайнее средство) – предостережение врагу: меня, мол, в рот брать нельзя! Животное особым образом поджимает все четыре лапки и, сплющиваясь до толщины монеты, выгибается так сильно, что становится виден пугающий, контрастный узор брюшка, или переворачивается на спину. Подобным образом расцвечены крылья бабочек пестрянок, которых не трогает никто. Кстати, у многих дневных бабочек действуют те же три защитные системы, что и у жерлянки: окраска маскирующая, окраска предупреждающая и яд.
В воде жерлянки сторонятся не только озерных лягушек, но и зеленых жаб, весеннее пение которых негромко и приятно на слух. Их трели звучат даже робко и слышны лишь вблизи, но жерлянки избегают их соседства, ибо близость безобидных жаб для них смертельна. Не переносят жерлянки слабенький жабный яд и погибают почти мгновенно. Достаточно в банку к десятку здоровых жерлянок подсадить небольшую жабу, как через несколько минут те будут мертвы. В поведении же самой жабы не изменится ничего. Она будет спокойно сидеть или лежать среди убитых ею жерлянок. Значит, дело не в голосе. Значит, жабья кожа выделяет в воду вещество, опасное для тихих бычков.
Весной к воде жерлянки приходят рано, пожалуй, третьими по счету – после остромордых лягушек и чесночниц. Но собираются не все вдруг. Те, которые поближе к воде зимовали, появляются раньше, в первый же теплый вечер, те, которым скакать дальше, тратят на дорогу несколько ночей. Иногда эти дальние, встретив на пути подходящую снеговую лужу в травяной низинке, там и остаются, скликая к себе тех, кто еще не прошел мимо. Остаются в воде надолго, до лета, а некоторые задерживаются до солнцеворота. Этим одиночкам не надоедает укать целыми сутками, не получая ответа. В некоторых местах это одинокое стенанье придает какую-то таинственность окружающему пейзажу.
Тихие голоса сородичей они слышат лучше, чем мы, и собираются иногда вместе в самых неожиданных местах за километры от реки или озера, например на новых прудах, где прежде их не было слышно.
Неторопливые, коротконогие, жерлянки с такой быстротой заселяют новые водоемы, плодятся на них такими темпами, что создается впечатление, будто не своими ногами дошли, а кто-то специально или случайно занес их сюда. Выходит, что к родному болотцу или озерцу у них нет прочной привязанности, как у других земноводных. Да и к качеству воды они не требовательны: иногда собираются в такую мутную лужу, где даже на палец в глубину ничего не видно.
Мне ни разу не приходилось видеть жерлянку на суше днем, хотя, казалось бы, коль терпит свет солнца по два-три месяца, не прячась, то может и охотиться днем. К тому же и маленькие глаза у нее не совсем ночного строения, но и не дневного. Зрачок – не узкая вертикальная щель и не круглый, а с вырезкой на верхней стороне и заостренный книзу, как крошечное черное сердечко. Охотится это животное ночью на суше, но подходящую по росту добычу может брать и на воде днем.
Воду покидают жерлянки лишь осенью. Ища убежища на зиму, забираются в глубокие щели, в чужие норы. Однажды в конце ноября раскапывали жилье слепыша и на глубине трех с лишним метров вдруг встретили живую жерлянку. Она вышла из слепышиного хода, сделала несколько коротких скачков и, словно испугавшись света и холода, повернула назад. На такой глубине, конечно, никакой мороз не достанет. Но тех, кто пытается перезимовать в укрытиях помельче или просто зарывшись под мох, он может выморозить. Вот почему после февраля 1969 года, когда в бесснежном лесу земля промерзла на глубину два с половиной метра, на весенних зорях не было слышно жерлянок. Но кое-кто из них все-таки уцелел, и снова звучит и в Хреновском бору, и в Каменной степи, и на Усмани по озерам, болотам и лужам немного заунывное, но мелодичное «унн... унн... унн...», сливаясь в один звенящий звук.








