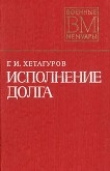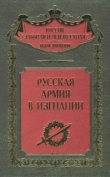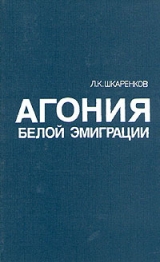
Текст книги "Агония белой эмиграции"
Автор книги: Леонид Шкаренков
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 21 страниц)
В 1923 и весной 1924 г. среди русской эмиграции вновь поползли слухи об интервенции в Советскую Россию. Наиболее озлобленная и оголтелая часть эмиграции восприняла известие о смерти В. И. Ленина как сигнал для возобновления своих авантюр. «Скоро в поход», – объявил бывший донской атаман генерал П. Н. Краснов. В эмиграции он развил «кипучую» деятельность /35/
В «открытых письмах» казакам-эмигрантам Краснов пытался уверить их, что великий князь Николай «полон жизненной силы» и «уже сейчас приступил бы к работе» (т. е. к вооруженной борьбе с Советской властью. – Л. Ш.), но дело в том, что не было у князя ни одной десятины русской земли, на которую он мог бы опереться48.
Тем временем 31 августа 1924 г. в Кобурге великий князь Кирилл сам провозгласил себя «императором всероссийским». Еще до этого в газете «Вера и верность» был опубликован приказ Кирилла о сформировании корпуса императорской армии. С большой самоуверенностью он объявил, что в течение года вернется в Россию. Высший монархический совет стал оспаривать «Манифест» Кирилла с точки зрения толкования ст. 185 (о престолонаследии) основных законов Российской империи49. Более откровенно выступил В. В. Шульгин, который заявил: «Императорский титул сейчас не помощь, а препятствие для эмиграции».
Во всей этой возне вокруг «императорского трона» было много ярмарочного бума, но присутствовал здесь и расчет на поддержку со стороны реакционных кругов ряда держав, заинтересованных в активном выступлении против Советской республики. Обанкротившиеся лидеры «белого движения» не успокаивались. Они пытались извлечь для себя пользу из всякой передвижки власти в Европе, будь то падение правительства Ллойд Джорджа в Англии, назначение Пуанкаре премьер-министром во Франции или установление в Италии фашистской диктатуры Муссолини. Сохранилась копия конфиденциального письма Врангеля, где он возлагает большие надежды на ослабление действия Рапалльского договора, на изменение отношения германского правительства к Советской республике50.
Известно, что, подписав 16 апреля 1922 г. во время Генуэзской конференции договор в Рапалло, Советское правительство использовало противоречия между капиталистическими державами и прорвало кольцо экономической блокады вокруг Советской России. Попутно Рапалльский договор нанес удар той части российской контрреволюции, которая рассчитывала на усиление в Германии национально-консервативных кругов.
Объективная обстановка толкала Германию на путь мирных взаимоотношений с Советской Россией. Как отметил советский историк А. С. Ерусалимский, в этом сближении «были заинтересованы не только широкие массы немецкого народа, но и влиятельные круги господствующих классов, нуждавшиеся в выходе из внешнеполитической изоляции, а также в том, чтобы получить заказы и загрузить промышленные предприятия»51. Такова была политическая реальность. «Нехорошее время наступило для нас»52, – записал в своем дневнике фон Лампе, когда был заключен договор в Рапалло. И хотя германское правительство не приняло тогда мер для прекращения антисоветской /36/ деятельности эмигрантов, оно не могло уже открыто помогать подготовке новой интервенции.
После Рапалло активизировались монархисты во Франции, возглавляемые А. Ф. Треповым – предпоследним царским премьер-министром. Им хотелось бы нанести, по словам Фолькмана, «как можно скорее решающий удар против большевиков», поскольку они предвидели признание в ближайшем будущем Советской России также и Францией53.
На Генуэзской конференции Г. В. Чичерин сделал заявление о преступных планах новой войны против Советской республики и передал секретариату конференции документ о подготовке выступления врангелевских и других отрядов с польской и румынской территорий. Вслед за этими разоблачениями последовало раскрытие врангелевского заговора в Болгарии.
О «врангелиаде» в Болгарии нужно сказать особо. Политическая борьба приняла здесь самые острые формы. В ходе этой борьбы врангелевские штабы и буржуазные партии встретились с сопротивлением болгарского народа под руководством Коммунистической партии.
Болгарские и советские историки достаточно подробно исследовали события 1922 г. в этой стране. Разоруженная по Нейискому мирному договору 1919 г., Болгария не имела права на объявление всеобщей воинской повинности. Ее вооруженные силы составляли всего 6,5 тыс. человек, включая и полицию. Более многочисленная врангелевская армия, вступив на территорию Болгарии, заключала в себе опасность для находившегося в те годы у власти правительства А. Стамболийского, сформированного мелкобуржуазной аграрной партией – Болгарским земледельческим народным союзом (БЗНС). Это правительство провело некоторые реформы, носившие демократический характер. Внутренняя реакция принимала все меры к тому, чтобы свергнуть правительство БЗНС. В этом ей активно помогала белая эмиграция.
«С первого дня появления врангелевской армии в Болгарии, – пишут Г. И. Чернявский и Д. Даскалов, – Коммунистическая партия приступила к проведению широкой агитационно-пропагандистской и организационной кампании, направленной на разоблачение действительных целей врангелевцев, на разложение белогвардейской армии. Такая кампания велась как легальными, так и нелегальными способами»54.
Парламентская группа БКП выступила с запросом, на заседании Народного собрания Болгарии 26 декабря 1921 г. Коммунисты заявили, что размещение врангелевской армии является актом, враждебным по отношению к Советской России и Советской Украине, требовали установления с ними нормальных дипломатических отношений, репатриации русских беженцев.
Через несколько дней Высший партийный совет БКП принял резолюцию «Против размещения врангелевских войск в Болгарии и за установление связей с РСФСР». В этом документе /37/ подчеркивалось, что размещение контрреволюционной армии Врангеля в Болгарии направлено против независимости и свободы болгарского народа. БКП выражала озабоченность той опасностью, которую представляли врангелевцы для Болгарии не только в политическом, но и в экономическом отношении, увеличивая в стране безработицу и экономические трудности.
С помощью местных организаций БКП в Софии, Пловдиве, Плевене, Старой Загоре, Горной Оряховице были созданы нелегальные группы по разложению врангелевской армии. Ими была проделана большая работа по разоблачению замыслов контрреволюции. В эту работу были вовлечены и некоторые офицеры врангелевской армии. Достаточно сказать, что в Тырново большую помощь БКП оказал офицер Николай Черюнов, работавший в штабе генерала Кутепова. Членам нелегальной организации удалось установить, что начальник врангелевской контрразведки полковник Самохвалов ведет по поручению Врангеля переговоры с болгарской фашистской организацией «Военная лига». 17 и 31 марта 1922 г. в Софии коммунисты организовали многотысячные митинги. Выступали руководители БКП Г. Димитров, С. Димитров, Хр. Кабакчиев, Т. Луканов. Они призывали к борьбе против предательства буржуазии, за изгнание врангелевских войск, за братский союз с Советской Россией. Массовые митинги прошли по всей стране. Под давлением общественности 6 мая полиция произвела обысков канцелярии полковника Самохвалова, где был обнаружен тайный архив врангелевской разведки. 9 мая правительственная газета «Победа» сообщила, что раскрыта сеть военного шпионажа. После этого был произведен ряд арестов и выслано из Болгарии более ста видных врангелевцев, в том числе генералы Кутепов, Шатилов, Вязьмитинов.
Орган болгарских коммунистов газета «Работнически вестник» 16 мая опубликовала манифест «К трудящимся Болгарии». Компартия вновь обращалась с призывом к борьбе за немедленное разоружение врангелевской армии и изгнание за пределы страны ее штабов. Состоявшийся 4–7 июня 1922 г. IV съезд БКП отметил, что развернувшееся под руководством Коммунистической партии мощное народное движение помешало подготовке государственного переворота.
Раскрытие реакционного заговора в Болгарии создало условия для сближения БКП и БЗНС. Но БКП не сумела в то время выработать правильное отношение к БЗНС55. Отсутствовала общедемократическая платформа, вокруг которой могли бы объединиться все антифашистские силы. Вместе с тем действия болгарского правительства против врангелевцев были очень непоследовательными: при его попустительстве они сохранили оружие и военное имущество. Несмотря на изгнание группы белых генералов, врангелевские штабы продолжали оставаться в стране. Вместо закрытых белогвардейских газет «Русское слово» и «Свободная речь» начала выходить не менее реакционная /38/ газета «Русь». В Софии сохранилось и вело закулисную работу бывшее русское посольство.
17 августа Врангель предписал генералу Миллеру, которого он направил в Болгарию, вступить в переговоры с буржуазными и военными партиями по вопросу о сформировании нового кабинета министров (вслед за переворотом и занятием армией крупнейших центров, «при условии официального признания русской армии и готовности Болгарии стать исходным пунктом для войны против Советской России»)56. После того как этот документ был опубликован газетой «Земеделско знаме» в сентябре 1922 г., по всей стране снова прокатилась волна народных выступлений, организованных БКП. Коммунисты призывали трудящихся быть готовыми уничтожить «это стадо стремящихся к власти волков». Но белогвардейцы также активизировались, готовились к схватке, пользуясь попустительством болгарских властей.
25 декабря бывший лидер октябристов А. И. Гучков писал Врангелю из Берлина: «Вопрос ставится таким образом – если мирными способами, политическими и дипломатическими, нельзя сделать из Болгарии сколько-нибудь сносного приюта для контингентов Русской Армии, если дальнейшее пребывание в этих условиях… ведет неизбежно к полному распылению последних остатков той организованной силы, которая будет так нужна… то не надлежит ли прибегнуть к противоположному методу и насильственным захватом страны обеспечить себе такое правительство, такой строй и такую обстановку, при которых Русская Армия могла бы найти в Болгарии дружественную и покорную территорию на весь период своего выжидательного зарубежного существования?»57
Отвечая на им же поставленный вопрос, Гучков уверял генерала Врангеля, что насильственный переворот является единственным и последним средством спасти русские контингенты в Болгарии, «Сегодня переворот еще возможен, – восклицал автор письма. – Теперь или никогда!» По мнению Гучкова, охотников воспользоваться плодами успешного переворота найдется больше, чем нужно. А что касается западных держав, то они не окажут противодействия, если будут поставлены перед совершившимся фактом и если вновь созданный режим внушит им доверие по составу деятелей и по их торжественным заявлениям. Правда, предостерегал Гучков, Сербия и Румыния, особенно Сербия, могли бы порядочно спутать все карты, если бы они увидели в перевороте и в смене власти в Болгарии угрозу себе и своим закрепленным правам. Но здесь уже задача главнокомандования «русской армии», «которая произведет переворот, и новой болгарской власти, которая на нем создастся, своими заявлениями и первыми шагами своей деятельности рассеять эти подозрения и опасения…».
Гучков призывал в глубочайшей тайне разработать план действий и в первую очередь связаться с оппозиционными болгарскими /39/ группами. Кое-что было именно так и сделано. Вскоре активную деятельность развил так называемый Русско-болгарский комитет, образованный в январе 1923 г. под председательством реакционного политического деятеля Хр. Кунева. В него входили и представители русских белогвардейцев.
Врангелевцам вновь были переданы склады военного имущества, в Болгарию вернулись многие из тех, кто был выдворен из страны в мае 1922 г.
Торжественная встреча была устроена бывшему русскому послу Петряеву. Болгарское правительство снова разрешило врангелевскому командованию пользоваться суммами из «русского денежного фонда».
1 марта 1923 г. состоялось совещание врангелевских генералов, в котором принимали участие представители Русско-болгарского комитета. Были приняты меры для возвращения офицеров и солдат в места расквартирования частей. Все эти мероприятия находились в определенной связи с подготовкой фашистского переворота в Болгарии. Белогвардейские отряды приняли участие в перевороте 9 июня 1923 г., когда законное правительство Стамболийского было свергнуто болгарской реакцией. И во время сентябрьского народного восстания 1923 г. врангелевцы участвовали в его подавлении в некоторых районах страны. Чернявский и Даскалов указывали на их действия в составе карательных отрядов, но отметили также и случаи выступления на стороне восставших, как это сделали члены русской коммунистической группы и Совнарода («Союза возвращения на Родину») в Старой Загоре.
Между тем на международной арене происходили важные изменения. В 1924 г., который в истории международных отношений известен как год признаний Советской республики, дипломатические отношения с СССР установили Франция, Англия, Италия, Австрия, Греция, Норвегия, Швеция, Дания, Мексика, Китай. И не случайно представители белоэмигрантских группировок самого различного толка обратили свои взоры на Америку. Они искали там помощи. В ноябре 1924 г. в США отправилась жена великого князя Кирилла – Виктория Федоровна, пытаясь найти поддержку у заокеанских финансовых кругов58. Представители русских эмигрантских торгово-промышленных кругов С. Н. Третьяков, Н. X. Денисов и другие также надеялись получить американские кредиты, но для финансирования великого князя Николая Николаевича. А в качестве гарантии они предлагали свое бывшее имущество в России59. Отражением общей ситуации было и заявление Врангеля о необходимости сохранения армии под видом объединений и союзов. 1 сентября 1924 г. он объявил о создании РОВС (Российского общевоинского союза). Продолжая уповать на организацию вооруженной интервенции, Врангель пытался применять И «новую тактику», поддерживая так называемую «работу внутри России». /40/
3. «Новая тактика»
Вопрос о «новой тактике», различных ее проявлениях и формах широко обсуждался в белоэмигрантских кругах. Уже в первые дни после разгрома Врангеля в Крыму кадетская парижская газета «Последние новости», до того безоговорочно его поддерживавшая, выдвигает требование об извлечении уроков из поражений белых армий. 21 декабря 1920 г. П. Н. Милюков, выступая в Париже перед группой членов кадетской партии с докладом «Что делать после Крымской катастрофы?», заявил: «Рассчитывать на возможность улучшения политики военного командования после стольких неудачных опытов мы, очевидно, более не имеем права»1. Он призывал к освобождению от «белого догматизма», к отказу от старых, не оправдавших себя методов борьбы. Правда, Милюков сразу же делал оговорку, что не осуждает ни армию как таковую, ни вооруженную борьбу. «Я лишь считаю, – писал он одному из своих корреспондентов, – невозможным продолжение вооруженной борьбы под командой Врангеля, его офицерства и его политиков-чиновников»2.
В течение двадцати последующих лет Милюков редактировал «Последние новости», и большая часть передовых статей была написана им самим. Именно в этих статьях получили отражение его идейные, программные и тактические установки. Милюков прежде всего считал нужным подчеркнуть, что перемена тактики вовсе не означает перемену цели борьбы. И он пользовался каждым случаем, чтобы критиковать тех, кто уповал только на «белые штыки». «Принимавшие непосредственное участие в вооруженной борьбе, – писал Милюков, – психологически не могут оторваться от своего прошлого, хотя события и выбросили их в совершенно иную жизненную обстановку. Они все еще считают возможным продолжать борьбу в старой форме, не успев сознать, что объективные условия делают это совершенно невозможным»3. Что же касается русского народа, то он, оказывается, не является инертной массой, над которой можно проделывать те или иные «опыты освобождения». Это, по мнению Милюкова, главный вывод из всего печального опыта гражданской войны.
Ведя полемику со своими оппонентами, Милюков предпринял некоторый экскурс в историю кадетской партии. Идеология этой партии, по его словам, никогда не была идеологией революционной. С момента образования «партии народной свободы», и в 1905–1907 гг., и позже, в годы войны и уже начавшейся революции, писал он, «мы стояли на позициях необходимости предотвращения революции…»4. Ведя переговоры с Треповым и Столыпиным о создании парламентского кабинета, внося в Думу земельный законопроект Герценштейна, предлагая ряд социальных реформ, партия, по словам Милюкова, указывала власти способы предотвратить революцию. Этой цели служило /41/ и создание «прогрессивного блока» в Думе, и то, что кадеты пошли на коалицию с «социалистическими партиями» в 1917 г., надеясь «совместными усилиями спасти Россию от крайностей максимализма». Но увы, вынужден был признать кадетский лидер, события оказались сильнее. Теперь, уже в условиях эмиграции, Милюков вновь призывал к сотрудничеству с группами (прежде всего правыми эсерами), которые, как он заявлял, «могут быть приемлемы для народа».
В Берлине, Лондоне, Белграде, Константинополе, Софии среди кадетов образовалась оппозиция Милюкову. В газете «Руль» было опубликовано заявление разошедшихся с Милюковым видных кадетских деятелей И. Петрункевича, Ф. Родичева, Н. Астрова, графини С. Паниной. Они писала, что все «началось из-за отношения к армии, эвакуированной из Крыма, и вступления на путь соглашения с социалистами… Расхождение на этой почве создало резко враждебные настроения и решительное осуждение «новой тактики»»5.
Остатки кадетской партии раскололись на «правых» и «левых» со своими собственными центрами н органами печати. Те и другие оставались непримиримыми врагами Советской республики, но между ними шел спор о способах и формах антисоветской борьбы. Одни считали необходимым всемерно поддерживать командование разбитой белой армии, с которой связывали свои надежды на возвращение в Россию; другие, в том числе «демократическая группа» Милюкова (в нее входило сначала около 20 человек, в том числе члены ЦК кадетской партии М. М. Винавер, Н. К. Волков, П. И. Гронский, И. П. Демидов, А. И. Коновалов, В. А. Харламов), заявили, что в борьбе с большевиками поддержку от Европы и Америки может получить только «объединенная русская демократия, вышедшая из мартовской революции» 1917 г.
Новый 1921 год Милюков и некоторые его единомышленники встречали в Париже вместе с правыми эсерами. Кто-то из них предложил тогда тост – «за слово, начинающееся с буквы «к», – «коалиция»». Милюков потом разъяснял: «Нас объединило с эсерами признание необходимости продолжения борьбы с большевиками и отрицание прежних методов борьбы»6. Это сотрудничество «левых» кадетов с правыми эсерами получило свое оформление на совещании 33 бывших членов Учредительного собрания, которое проходило в Париже 8 – 21 января 1921 г. Там выступил А. Ф. Керенский. Мы возвращаемся, объявил он напыщенно, «на путь здорового национального и государственного творчества». Участники совещания сразу же показали, куда направлено это «творчество». Во имя якобы защиты интересов России они призывали иностранные державы объявить недействительными все соглашения, заключенные ими с Советским правительством. Европа слушала, писал об этих призывах германский историк Ганс фон Римша, но не обращала на них никакого внимания7. /42/
Совещание образовало что-то наподобие руководящего органа: была избрана исполнительная комиссия – как бы в противовес попыткам Врангеля создать такой орган. По словам Римши, ее члены продолжали идти по тому же пути, который в марте 1917 г. привел к созданию Временного правительства. Главным в деятельности комиссии стало обсуждение международного положения России. Входившие в комиссию кадеты П. Н. Милюков, М. М. Винавер, А. И. Коновалов, В. А. Харламов, эсеры Н. Д. Авксентьев, В. М. Зензинов, А. Ф. Керенский, О. С. Минор и др. занялись «разбором» договоров Советской России с Англией, Польшей, Персией и Афганистаном. Четыре заседания заняло, например, обсуждение англо-советского договора. Говорили высокие слова о российской демократии, о «чести России», о защите ее «имущества и достояния». Однако бесплодность деятельности комиссии вынуждены были признать даже ее члены. Вскоре они объявили свою работу законченной.
Комиссия направила Милюкова и Авксентьева в Америку. Они привезли туда меморандум, подписанный П. Рябушинским, А. и П. Гукасовыми, С. Лианозовым, Н. Денисовым и другими российскими капиталистами, пытаясь таким образом воздействовать на «общественное мнение», убедить американских финансистов не торопиться с возобновлением торговли с Советской Россией. Побывав в государственном департаменте США, Милюков и Авксентьев обнаружили полное совпадение своих взглядов с точкой зрения американских официальных кругов8. Позже в «Правде» было опубликовано письмо Л. Мартова, которое он послал членам ЦК меньшевиков во время совещания «учредиловцев». Раскрывая некоторые подробности закулисной кампании по созданию коалиционной комбинации, Л. Мартов писал, что Керенский, Авксентьев, Минор и др. осуществляли здесь идею парижских кадетов о «национальном центре» на основе коалиции. «Словом, эсеры выйдут очень замаранными и облегчат кадетам интригу с созданием хотя бы и недействительного политического представительства России, но такого, которого вполне достаточно, чтобы дать Антанте формальный повод не признавать представительства Советской власти»9.
В то время за рубежом, особенно в белоэмигрантских кругах, не было недостатка в пророчествах насчет скорого падения Советской власти. Наиболее откровенно, может быть, эти настроения выразил фабрикант П. П. Рябушинский с трибуны торгово-промышленного съезда, состоявшегося в мае 1921 г. в Париже. Он заявил: «Мы смотрим отсюда на наши фабрики, а они нас ждут, они нас зовут. И мы вернемся к ним, старые хозяева, и не допустим никакого контроля»10.
Съезд был созван по инициативе созданных за границей Российского финансового торгово-промышленного союза (Торгпром), Всероссийского союза промышленности и торговли, а /43/ также Комитета частных коммерческих банков. По некоторым данным, Торгпром объединял свыше 600 крупных капиталистов. Многие из них эмигрировали еще до Октябрьской революции, успев захватить с собой разные ценности. Они и здесь, за границей, продолжали заниматься привычной для себя деятельностью, принимая участие в операциях банковских акционерных предприятий. Торгпром кроме Парижа открыл отделения в Нью-Йорке, Лондоне и некоторых других центрах капиталистического мира. В зависимости от сферы своих интересов эмигрантские дельцы – члены Торгпрома – разбились на секции: финансовую, горнозаводскую, транспортную, нефтяную, домовладения и др. Формулируя задачи Торгпрома, председатель съезда Н. X. Денисов заявил: «Настало время выявить вовне общее лицо торгово-промышленного класса, определить его значение как фактора государственного строительства, решить, что именно в настоящих условиях он может и должен предпринять для осуществления целей возрождения хозяйственной жизни родины на началах свободы и частной собственности»11. Главная забота заключалась как раз в последних словах о правах собственности.
Восстановление прав собственности – вот на чем, по словам Рябушинского, нужно было настаивать. Он ратовал за установление контактов с «новой нэпманской буржуазией» в России, за объединение «двух могучих сил буржуазии»: торгово-промышленного класса и интеллигенции, называя Милюкова одним из ее лидеров12. Милюковцы также подчеркивали свою близость к торгово-промышленным кругам13.
Представители торгово-промышленного класса, как они себя называли, начали кампанию лжи против Советской России. Они приветствовали на своем съезде «мудрую и дальновидную политику правительств Франции, США, Швейцарии, Югославии», которые отказывались тогда от всяких сношений с Советской властью. Было объявлено, что Торгпром, взявший на себя «представительство общих интересов русской промышленности и торговли за границей», будет разъяснять правительствам иностранных государств «опасные последствия заключения торговых договоров с Советской Россией»14.
Попытки найти какую-то лазейку для того, чтобы способствовать реставрации буржуазных отношений в Советской России, приобретали иногда самую фантастическую форму. В декабре 1921 г. стало известно, что находящийся в эмиграции крупный заводчик А. Путилов предложил проект восстановления России при помощи иностранных кредитов. Согласно этому проекту, за рубежом создавался эмиссионный банк. Гарантированные европейским капиталом денежные знаки, выпущенные этим банком, должны были заменить обесцененные советские дензнаки. По мнению Путилова, «в приемлемой для большевиков форме произойдет вмешательство в их управление страной: /44/ сначала в сфере финансов, а потом, ставя новые требования при каждом авансе, постепенно можно будет овладеть всем правительственным аппаратом»15. Как будто все легко и просто.
В. И. Ленин внимательно следил за белоэмигрантской прессой, отмечая, что она прилагала все усилия к срыву торговых договоров с РСФСР и политики концессий. Он писал, что определенная часть белогвардейской буржуазии «превосходно понимает значение концессий и заграничной торговли для Советской власти»16. Несомненно, это был один из характерных элементов «новой тактики» контрреволюций. В данном вопросе различные группировки белой эмиграции были единодушны: съезд монархистов в Рейхенгалле, совещание бывших членов Учредительного собрания в Париже, торгово-промышленный съезд, Русский парламентский комитет и другие – все они выступали с протестами по поводу каждого нового факта признания Советской России. Это было одно из реальных проявлений столкновения интересов русских и иностранных капиталистов.
Примечательна в этой связи запись, сделанная несколько позже в протоколе заседания парижской группы партии кадетов. В ней отмечалось, что делегация русских торгово-промышленных кругов из Парижа побывала в Берлине. В беседах с членами делегации видные германские банкиры и промышленники откровенно высказывались, что «без России они жить не могут и в Россию немедленно пойдут. Но они заявляют, что не имеют желания идти в Россию вместе с русскими промышленниками, так как капиталов ни у них, ни за ними нет, что при их помощи концессий в России не добудешь»17.
Примерно тогда же представители деловых кругов 12 государств собрались во французском городе Бордо для обсуждения вопросов «защиты» интересов иностранного капитала в России. Они пытались использовать кампанию, начатую белой эмиграцией против развития экономических связей с Советской республикой, чтобы навязать Советскому правительству невыгодные условия соглашения. «К счастью, – писал по этому поводу редактор газеты «Известия» Ю. Стеклов, – и те и другие считают без хозяина»18.
Несмотря на антисоветскую кампанию, в 1921–1924 гг. из-за рубежа поступило более 1200 предложений на концессии19. Однако Советское правительство проявляло большую осторожность при заключении договоров. В своеобразных условиях Советской России, вынужденной строить социализм в капиталистическом окружении, концессии были одной из форм госкапитализма, т. е. такого капитализма, пределы которого устанавливались и ограничивались Советским государством, сохранявшим в своих руках все командные высоты в народном хозяйстве. В то же время Милюков, один из лидеров партии, которая в годы гражданской войны вдохновляла и поддерживала всех военных диктаторов, пытался из-за рубежа предложить «новые решения» основных вопросов внутренней политики: аграрного, /45/ национального, государственного устройства. До революции он выступал за выкуп части помещичьих земель, а теперь заявлял о признания права крестьян на землю, о готовности защищать их интересы от притязаний «старого поместного класса». После того как этот класс в нашей стране был ликвидирован, «изменила свой фронт», писала по этому поводу «Правда», милюковская буржуазная стратегия, повернув от союза с помещиком к союзу с деревенским кулаком20.
По мнению американского историка У. Розенберга, замысел Милюкова «повернуть партию влево», разработать «народную» политику имел совершенно определенную цель: «вызвать массовые бунты внутри России»21. С таким заключением можно согласиться в этом смысле, что одним из главных моментов в «новой тактике» контрреволюции была ставка на «преодоление большевизма изнутри», на его «разложение внутренними силами». Творцы «новой тактики» пророчили гибель Советской власти, надеясь на обострение внутренних противоречий между классами рабочих и крестьян и ослабление диктатуры пролетариата, развитие в стране социальной напряженности.
В. В. Шульгин, один из тогдашних «теоретиков» «белого движения», пропагандист возрождения белой армии, принялся убеждать Милюкова отказаться от своих планов. «Быть может, вы увлеклись планами эсеров и эсдеков по взрыву большевиков «изнутри»? – писал Шульгин Милюкову. – Быть может, вы верите в спасительность этих восстаний, по поводу которых вновь заболевший манией величия Александр Федорович (Керенский. – Л. Ш.), как говорят, «принимал поздравления» в Париже. Не увлекайтесь, Павел Николаевич, восстаниями. Во-первых, бабушка еще надвое сказала, чем эти восстания кончатся, а во-вторых, если бы они и кончились благоприятно для восставших, что дадут они вконец измученной России?»22
Отвечая Шульгину, Милюков тоже не остался в долгу: «Вы сами не представляете себе то, что сделали вы с этой русской армией… Понимаете ли вы, что если она лила свою кровь и несла свои тяжкие жертвы напрасно; что если она в результате своих трудов оказалась не в Москве и Петрограде, а на Лемносе и в Галлиполи, то виноваты в этом вы, Василий Витальевич. Не вы один, но вы первый»23.
Потом в защиту Шульгина выступил Струве. Началась очередная перебранка лидеров белоэмиграции, которая всегда была характерной чертой жизни русского «зарубежья», бесплодно спорившего о способах «спасения» России.
Между тем на почве разногласий по тактическим вопросам происходил дальнейший раскол не только у кадетов, но и среди эсеров и меньшевиков. Как писал Ем. Ярославский, эсеры разбились тогда на 7–8 групп, говоривших будто бы на разных языках24.
Сами эсеры, в частности В. М. Чернов, связывали деление своей партии на разные течения и группировки с той борьбой, /46/ которая обозначила их раскол еще в 1917 г. и после Октябрьской революции. В эмиграции оказались почти все лидеры правого крыла партии эсеров (А. Ф. Керенский, Н. Д. Авксентьев, В. В. Руднев, И. М. Брушвит, М. В. Вишняк, В. М. Зензинов и др.), которые стояли за широкую коалицию с буржуазными партиями. Ушли из партии и образовали самостоятельную группу – так называемую «Крестьянскую Россию» бывшие эсеры А. А. Аргунов и С. С. Маслов.