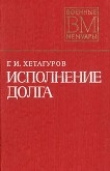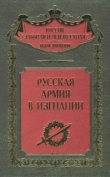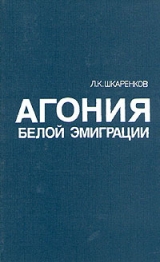
Текст книги "Агония белой эмиграции"
Автор книги: Леонид Шкаренков
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 21 страниц)
Ждали, когда Япония сумеет без больших потерь захватить советский Дальний Восток. Дальнейший ход событий внес существенные поправки в эти планы.
2. Коренной перелом в ходе войны и эмиграция
Победы Красной Армии на фронтах Великой Отечественной войны оказали на эмиграцию решающее влияние, заставили многих ее представителей пересмотреть свои позиции. События на фронтах наложили свой отпечаток и на поведение рядовых эмигрантов из «низов» и, несомненно, отразились на настроениях многих эмигрантских «деятелей» самых разных политических убеждений. После Сталинградской битвы, по словам Мейснера, люди, способные нормально рассуждать, верить в победу Германии уже не могли1. Многие же начали это понимать значительно раньше. Причем эти процессы коснулись не только русских эмигрантов, но и выходцев из России – эмигрантов других национальностей.
Наиболее, может быть, примечательной является эволюция взглядов П. Н. Милюкова. Незадолго до смерти, в 1943 г., находясь на юге Франции, Милюков написал статью, разошедшуюся во многих экземплярах, отпечатанных на ротаторе и на машинке. Она тайно была распространена среди русских эмигрантов. Статья была написана в форме полемики с находившимся в это время в Америке известным эсером М. В. Вишняком, который выступил в «Новом журнале» с «обоснованием» необходимости отрицательного отношения к Советской власти. Милюков признал и заявил в своей статье, что за разрушительной стороной русской революции нельзя не видеть ее творческих достижений. Революция – органическая часть русской истории, писал он, и «четвертьвековой режим большевиков не может быть простым эпизодом». Милюков, правда, пытается еще найти в советской системе признаки эволюции, но делает это уже совсем не так, как раньше, не решаясь даже упоминать о каких-то «уступках капитализму».
Среди разных вопросов, которые затрагивались в этой полемике, был и вопрос о значении советско-германского договора 23 августа 1939 г. Отвечая своему оппоненту, Милюков писал, что договор дал возможность выиграть еще полтора года для подготовки к войне, которую Сталин считал неизбежной: «Неужели же Вишняк хотел бы, чтобы вся тяжесть союзной войны против могущественной армии Гитлера легла тогда, как /190/ отчасти происходит и сейчас, на одну недовооруженную еще Россию?» И то, что СССР, по словам Милюкова, обнаружил тут больше «дипломатического искусства», то это не вина его, а заслуга. Далее речь шла об отношении к власти армии и населения в Советском Союзе. Этот народ в худом и в хорошем связан со своим режимом, заявил Милюков, огромное большинство народа другого режима не знает. С другой стороны, представители и свидетели старого порядка доживают свои дни на чужбине.
Будучи антибольшевиком, как он сам напоминал, Милюков тем не менее в отличие от своего оппонента признал положительное значение деятельности большевиков во многих направлениях. В этой связи он писал о достижениях большевиков в таких областях, мак укрепление государственности, развитие экономики, создание армии и военной индустрии, необходимого аппарата управления. Ссылаясь на наблюдения очевидцев, Милюков приводил в своей статье свидетельства о том, что в России «народ изменился, стал гораздо развитее, сообразительнее». Советская власть «для них все. Она их вывела в люди, и они ничего другого не хотят». Весьма примечательным было сделанное Милюковым в ходе полемики заявление, что советский гражданин гордится своей принадлежностью к режиму. «Он не чувствует себя «рабом» и проявляет большую самостоятельность в поведении. А главное, он не чувствует над собой палки другого сословия, другой крови, хозяев по праву рождения».
Говоря о поведении советских солдат на фронте, Милюков писал о чудесах проявляемой ими храбрости. Упорство советского солдата, по его словам, коренилось не только в том, что он идет на смерть с голой грудью, но и в том, что он равен своему противнику в техническом знании и вооружении, не менее его развит профессионально. Конечно, в них (русских солдатах), продолжал Милюков, ссылаясь опять на впечатления очевидцев, есть много поначалу для нас непонятного, и нужно сказать, что условия русской жизни мы не знали совсем.
По мнению Милюкова, победы Красной Армии обязывали пересмотреть прежние оценки. «Бывают моменты – это еще Солон заметил и в закон ввел, – когда выбор становится обязательным. Правда, я знаю политиков, которые по своей «осложненной психологии» предпочитают отступать в этих случаях на нейтральную позицию. «Мы ни за того, ни за другого». К ним я не принадлежу… Когда видишь достигнутую цель, лучше понимаешь и значение средств, которые привели к ней… Ведь иначе пришлось бы беспощадно осудить и поведение нашего Петра Великого»2.
Статья Милюкова – известного политического деятеля и кадетского лидера – произвела определенное впечатление на умы эмигрантской массы. Но и независимо от этой статьи коренной перелом в ходе войны вызвал усиление антифашистских /191/ настроений в рядах эмиграции, активизацию ее участия в движении Сопротивления.
Соблюдая строгую конспирацию, группа русских эмигрантов – 9 человек – собралась 3 октября 1943 г. в Париже на квартире Г. В. Шибанова. На этом собрании было положено начало деятельности Союза русских патриотов во Франции. В прошлом гардемарин, в эмиграции Шибанов работал шофером такси, а после войны в Испании, где он сражался на стороне республиканцев, попал в лагерь для интернированных. Когда началась война с Германией, он оказался на франко-бельгийской границе в рабочей роте, укомплектованной из иностранцев. Бежал оттуда в Париж, вступил там в 1941 г. в группу Сопротивления. Шибанов стал одним из руководителей Союза русских патриотов, и ему была поручена организация лагерных комитетов среди советских военнопленных, оказание содействия в создании советских партизанских отрядов. Союз был тесно связан с французским Сопротивлением и сам являлся его русской организацией (так же, как были в Париже армянская, польская, итальянская и другие организации Сопротивления).
Союз имел свой печатный орган – «Русский патриот» и предназначенную для советских военнопленных и партизан нелегальную газету «Советский патриот». Их первые номера вышли к 7 ноября 1943 г. Шибанов вспоминает, как трудно было наладить издание нелегальных газет. Нужны были пишущая машинка, ротатор, восковки, краска, бумага. Все это помогли найти русские эмигранты – участники Сопротивления. В типографии «Русского патриота» печатались также листовки и прокламации, которые распространяли среди эмигрантов и в лагерях военнопленных3.
Члены Союза русских патриотов оказывали помощь в организации побегов советских военнопленных, укрывали бежавших, снабжали их питанием и одеждой, выполняли обязанности связных и переводчиков. Вот один из примеров такой деятельности. Русский эмигрант член Французской коммунистической партии Михаил Гафт, работавший на сахарном заводе вблизи города Амьен, узнал, что там скрываются два советских военнопленных, бежавших из лагеря. Ими оказались старший лейтенант В. К. Таскин и рядовой И. Ф. Фомичев. С помощью Гафта они были переправлены в Париж и сначала жили здесь нелегально на квартире русского эмигранта П. А. Ильинского. Таскин активно включился в работу газеты «Советский патриот», а потом стал руководителем штаба советских партизанских отрядов на востоке Франции. С конца 1943 г. в этой газете публиковались сообщения о действиях советских партизанских отрядов во Франции, а их было в это время более 50. Одним из них командовал лейтенант Г. П. Пономарев, бежавший из фашистского плена. Помощь ему оказали Шибанов и Гафт. Они снабдили Пономарева картой, пистолетом и направили его в /192/ район Нанси, где, как им было известно, в лесу скрывались советские военнопленные4.
М. Я. Гафт и другой русский эмигрант, И. И. Троян выполняли обязанности связных. Много раз они отправлялись на поездах, попутных автомашинах, частично пешком из Парижа в Нанси и обратно. Они везли с собой подпольную литературу, газеты, инструкции лагерным комитетам, а то и мины и оружие. Бывший врангелевец, эвакуировавшийся в 1920 г. из Крыма, И. И. Троян целиком порвал со своим прошлым. Участник гражданской войны в Испании, член Французской компартии, он пользовался репутацией смелого, готового выполнить любое задание подпольщика. В мае 1944 г. при выполнении очередного боевого задания Троян был схвачен гестаповцами. Он проявил непоколебимую стойкость перед казнью. «Никто из тех, кого знал Троян, – свидетельствует В. К. Таскин, – и с кем он был связан, немцами не был арестован»5.
В воспоминаниях и других публикациях, посвященных участию советских военнопленных и русских эмигрантов в движении Сопротивления во Франции, имеются различные примеры их героизма и самопожертвования. На острове Олерон, оккупированном фашистами, действовала подпольная группа, в которую входили русские эмигранты В. Л. Андреев и В. Б. Сосинский. Недавно, в связи с 40-летием Победы в Великой Отечественной войне, В. Б. Сосинский был награжден медалью «За боевые заслуги», а ранее получил французский орден Почетного легиона.
Когда началась война, он был призван во французскую армию, потом немецкий плен – три года провел в тяжелых условиях лагеря для военнопленных около Потсдама. На острове Олерон Сосинский оказался в 1943 г. Небольшой остров был превращен гитлеровцами в укрепленный район, стал составной частью так называемого Атлантического вала. Численность его гарнизона доходила до двух тысяч солдат и офицеров. Получилось так, что на тяжелых работах по строительству укреплений и обслуживанию артиллерийских батарей немецко-фашистское командование использовало советских военнопленных, а также насильно угнанных советских граждан. Именно из них образовалась группа смельчаков, которую возглавил Владимир Антоненко – советский парень из Мозыря. Ему не было тогда и 20 лет, но он уже участвовал в партизанском движении в Белоруссии и, прежде чем попасть на Олерон, прошел муки немецких лагерей.
После войны В. Б. Сосинский и В. Л. Андреев рассказали о героях Олерона, о том, как они, русские эмигранты, стали вместе с советскими гражданами участниками французского Сопротивления на острове. Им удалось провести смелые операции. На глазах у немцев был взорван большой склад боеприпасов. Не все остались живы. В. Антоненко геройски погиб 30 апреля 1945 г., в день освобождения острова от фашистов. Капитан /193/ Леклерк, один из руководителей Сопротивления, дал такой отзыв о деятельности подпольщиков на Олероне: «Считаю своим долгом отметить, что я особенно доволен действиями русских партизан, которые оказали нам большие услуги во время высадки, дали максимум военных сведений и дезорганизовали тыл противника»6.
На Юге Франции в городе-курорте Ницце еще в июне 1941 г. была создана Русская патриотическая группа. После освобождения от фашистских оккупантов здесь на базе этой группы образовался Союз русских патриотов Юга Франции.
В материалах посольства СССР во Франции сохранилось письмо членов этого Союза полномочному представителю Союза Советских Социалистических Республик во Франции. Оно датировано 6 октября 1944 г. Сейчас нельзя установить, сколько было членов Союза, но в его руководящий орган – комитет входило 9 человек, и некоторые из них состояли в Коммунистической партии. Обращаясь к советскому послу, председатель Союза русских патриотов Юга Франции И. Я. Герман и секретарь Союза Л. Л. Сабанеев по поручению русских патриотов, сражавшихся на юге в рядах французских организаций Сопротивления, приветствовали свою «великую и горячо любимую Родину». Они писали (приводим почти без сокращений текст письма, обнаруженного в Архиве внешней политики СССР): «…мы глубоко скорбили, что в момент вероломного нападения национал-социалистской Германии на нашу Родину мы физически лишены были возможности быть в рядах доблестной Красной Армии.
Но мы помогали нашей Родине, работая в подполье. И нас, патриотов, не сломили ни застенки правительства Виши, ни убийства гестапо.
Сердцем, душой и своей жертвенностью мы всегда были с нашим народом. С восторгом, изумлением и гордостью мы следили за гигантской борьбой нашего народа.
В этой борьбе за Родину и за общечеловеческую культуру героическая Красная Армия и ее славный вождь Сталин покрыли себя бессмертной славой – они первые нанесли врагу сокрушительный удар.
Эти годы борьбы явились решающими в жизни и во взглядах русских патриотов за рубежом. Стало ясно, что путь один: к объединению и слиянию с Родиной, и долг один: отдать все свои силы на восстановление Родины и для посильного ей служения…»7
Это письмо, отражающее дух времени, было послано уже после освобождения Франции от фашистских оккупантов, а до этого были, конечно, неудачи, провалы, аресты членов Союза, но борьба продолжалась.
Участник Сопротивления Г. В. Шибанов после войны вернулся на родину и Указом Президиума Верховного Совета /194/ СССР был награжден орденом Отечественной войны I степени. Он рассказал потом о двух заключительных операциях, в которых ему и другим членам Союза русских патриотов пришлось участвовать в момент освобождения Парижа. По поручению Гастона Ляроша, уполномоченного национального фронта Сопротивления по работе среди эмигрантов, они участвовали в августе 1944 г. в захвате резиденции созданного фашистами управления по делам русской эмиграции (его начальник Жеребков успел, правда, бежать) и освобождении здания советского посольства на улице Гренель.
Гастон Лярош сам был русским по происхождению, его настоящее имя Борис Матлин. В двухлетнем возрасте (он родился в 1902 г.) родители увезли его из России во Францию. После войны Лярош написал книгу «Их называли иностранцами», в которой рассказал об участии во французском Сопротивлении эмигрантов из разных стран, в том числе выходцев из России8.
О некоторых из них, об их делах мы здесь уже писали. Не случайно, видимо, получилось так, что эмигранты, которые были бойцами интернациональных бригад в Испании, активно участвовали в антифашистской борьбе в годы второй мировой войны. Назовем еще А. Н. Кочеткова, Н. Н. Роллера, Б. Л. Журавлева, Н. С. Качву. В Сопротивление шли разные люди: Ж. Знойко-Боровский – сын известного шахматиста; писатель А. П. Ладинский (вернувшийся потом в Советский Союз) – автор нескольких исторических романов; С. С. Чахотин – крупный ученый, в прошлом один из идеологов сменовеховства, также возвратившийся после войны на родину; A. М. Петров – известный инженер-кораблестроитель; К. А. Радищев – один из представителей молодого поколения эмиграции (ему было 22 года, когда он был замучен в застенках гестапо, Указом Президиума Верховного Совета СССР посмертно награжден медалью «За боевые заслуги») и многие другие.
За мужество и отвагу, проявленные в борьбе против гитлеровской Германии, группа соотечественников – бывших эмигрантов или выходцев из эмигрантских семей – в разное время была награждена орденами и медалями СССР, главным образом посмертно. По данным, которые приводит Л. Д. Любимов, только во Франции погибло более 100 русских эмигрантов – участников подпольной борьбы с немецкими фашистами9.
Среди тех, кто принял мученическую смерть, были и женщины – княгиня В. А. Оболенская, Е. Ю. Кузьмина-Караваева («мать Мария»), Ариадна Скрябина (дочь известного композитора), М. А. Шафрова-Марутаева, А. П. Максимович и др. B. А. Оболенская посмертно была награждена орденом Отечественной войны I степени, а также французскими орденами Почетного легиона, Военным крестом с пальмами и медалью Сопротивления. Когда мы читаем воспоминания тех, кто знал Оболенскую, то перед нами предстает образ молодой, стройной, /195/ красивой женщины. Участвуя во французском Сопротивлении с августа 1940 г., она выполняла сложные задания, вербовала добровольцев для де Голля. Когда ее арестовали, гитлеровцы предложили сохранить ей жизнь в обмен на сотрудничество. Оболенская отказалась, на допросах держала себя с исключительным мужеством, следователь прозвал ее Княгиня Ничего Не Знаю.
С. В. Носович, тоже эмигрантка, дочь бывшего сенатора, участница Сопротивления, арестованная вместе с Оболенской, но оставшаяся в живых (смертная казнь была заменена ей каторжными работами) и награжденная потом орденом Почетного легиона, рассказывала: «Допрашивали нас пять гестаповцев с двумя переводчиками. Играли они главным образом на нашем эмигрантском прошлом, уговаривали нас отколоться от столь опасного движения, шедшего рука об руку с коммунистами. На это им пришлось выслушать нашу правду. Вики [Оболенская] подробно объяснила им их цели уничтожения России и славянства. <<Я – русская, жила всю свою жизнь во Франции, не хочу изменить ни своей родине, ни стране, приютившей меня. Но вам, немцам, этого не понять». На их тупую антисемитскую пропаганду она отвечала: «Я – верующая христианка и поэтому не могу быть антисемиткой»»10. Ее вывезли в Берлин и поместили в тюрьму Моабит. Только после войны стало известно, что В. А. Оболенская была казнена 4 августа 1944 г. Ей было тогда 33 года.
Героиня французского Сопротивления «мать Мария» (Е. Ю. Кузьмина-Караваева, по мужу Скобцова) в молодости (она родилась в 1891 г.) была поэтессой, хорошо знала А. Блока и А. Белого, о которых написала воспоминания. В эмиграции она стала монахиней. Во время оккупации укрывала в Париже бежавших из лагерей советских военнопленных, помогала нуждающимся соотечественникам, спасала еврейских детей. Ее квартира превратилась в общежитие, стала антигитлеровским центром. Кузьмина-Караваева погибла в лагере Равенсбрюк 31 марта 1945 г. По рассказам, она пошла в газовую камеру вместо другой заключенной – молодой женщины. Е. Ю. Кузьмина-Караваева также награждена посмертно орденом Отечественной войны.
В Тулузе установлен памятник участнице Сопротивления А. Скрябиной, погибшей на боевом посту. Анна Максимович, ставшая во Франции известным врачом, активно боролась против фашистов и была убита в лагере смерти. Известны героические подвиги М. А. Шафровой-Марутаевой – дочери эмигранта, матери двоих детей. На улицах Брюсселя она совершала отчаянно смелые нападения на гитлеровских офицеров. Допросы и пытки после ареста не сломили ее воли. Шафрова-Марутаева была казнена в кельнской тюрьме11. Прошли годы, и 19 июня 1978 г. посол Советского Союза в Бельгии передал на хранение /196/ мужу М. А. Шафровой-Марутаевой орден Отечественной войны I степени, которым она была награждена посмертно.
Некоторые авторы отмечают и такое направление активности русских эмигрантов – участников Сопротивления, как работа по разложению власовцев. Для «русского Парижа», писал американский историк Джонстон, быстро стало очевидным, что Власов является не кем иным, как «нацистской пешкой». В 1944 г. власовцы, чтобы искупить свою вину, массами переходили на сторону партизан. Успешную агитацию среди них вели члены Союза русских патриотов и другие участники Сопротивления во Франции. Однажды в результате агитации Тамары Волконской, «красной княгини», как ее называли, за один день к французским маки перешли 85 власовцев12. За участие в антифашистской борьбе во Франции Тамара Алексеевна Волконская была посмертно награждена орденом Отечественной войны II степени.
Участие в движении Сопротивления принимало самые различные формы. И. А. Кривошеин – сын царского министра, ставший во Франции хорошо оплачиваемым инженером, – сразу же включился в борьбу против гитлеровцев, действуя по заданиям боевой организации «Вольные стрелки» (франтиреры). Он добывал ценнейшую для движения Сопротивления информацию. В этом ему помогал немецкий антифашист Вильгельм Бланке, который работал в экономическом отделе штаба германского командования в Париже. В результате предательства в организации произошел провал. Бланке казнили, а Кривошеина арестовали. Это произошло в то время, когда союзники уже высадились во Франции. Кривошеин потом вспоминал, как его одиннадцать дней пытали, а затем приговорили к пожизненному заключению и отправили в концлагерь Бухенвальд. Л. Д. Любимов дополняет его рассказ указанием на важную деталь: в приказе о награждении Кривошеина французским военным орденом отмечалось, что гитлеровцы не смогли вырвать у него никаких сведений13. После войны Кривошеин был избран председателем Содружества русских добровольцев, партизан и участников Сопротивления во Франции.
Что касается Л. Д. Любимова, к воспоминаниям которого мы часто обращаемся, то его судьба по-своему примечательна. «В начале 1943 года я перенес тяжелую болезнь, – писал он о себе. – В долгие бессонные ночи я слушал победные сводки Совинформбюро. Но вместе с гордостью за Россию чувство вины перед ней мучительно охватывало меня. Я был виновен перед ней в том, что неверно, грубо и неумно судил о ее судьбе, что столько лет со многими другими играл на руку злейшим ее врагам»14. Пришло, по-видимому, время, когда кончился для него период выжидания. И Любимов, аристократ по рождению, в течение 15 лет активно сотрудничавший в парижской газете «Возрождение» (он часто выступал под псевдонимом Амадис) и напечатавший в ней уйму антисоветских статей, принял участие /197/ в деятельности Союза русских патриотов, пытаясь как-то искупить свою вину перед родиной.
Патриотические настроения среди широкой массы эмигрантов проявлялись и в горячем интересе к тешу, что делается на советско-германском фронте, и во все более растущей уверенности в победе, которые в это время оттесняли на второй план другие желания и заботы. Говоря об этих особенностях эмигрантской психологии в годы войны, уместно, может быть, привести строки поэта-эмигранта Георгия Ревского, отражавшие настроения многих его соотечественников:
Да, какие пространства и годы
До тех пор ни лежали меж нас,
Мы детьми одного народа
Оказались в смертельный час.
По ночам над картой России
Мы держали пера острие.
И чертили кружки и кривые
С верой, гордостью за нее.
Примером такого рода патриотических чувств может служить поведение И. А. Бунина. Известный писатель не был активным участником Сопротивления, но категорически отказался «хотя бы палец о палец ударить для немцев»15.
Даже весьма неполные, отрывочные данные, которые мы смогли использовать, показывают наличие в годы войны определенных особенностей в положении эмиграции в разных странах, в деятельности отдельных ее группировок и представителей. Эти особенности отражали своеобразие местных условий во Франции, Италии, Чехословакии, Болгарии, Югославии, Америке и других районах эмигрантского рассеяния.
Интересны факты участия русских эмигрантов в итальянском Сопротивлении. Они стали известны благодаря поискам писателя С. С. Смирнова. В одном из своих очерков, который так и назывался – «Русские в Риме», он рассказал об Алексее Николаевиче Флейшере16. Выходец из обедневшего дворянского рода, воспитанник кадетского корпуса, он оказался в эмиграции, когда ему было всего 17 лет. За долгие годы жизни на чужбине многое испытал и во время войны твердо решил принять участие в борьбе с врагами своей родины.
Флейшер работал метрдотелем в посольстве королевства Сиам (Таиланд) в Риме. Опустевшая во время войны вилла посольства оказалась удобным местом для укрытия партизан. Вместе с другими патриотически настроенными русскими эмигрантами Флейшер установил контакты с итальянскими коммунистами, участниками подпольного антифашистского Сопротивления. Они помогали организовывать побеги советских военнопленных, переправляли их в итальянские партизанские отряды. Первый побег 14 советских военнопленных из лагеря Монтеротондо недалеко от Рима состоялся в ночь с 23 на 24 октября 1943 г. Его участник А. В. Коляскин писал потом о /198/ Флейшере, что этот русский эмигрант, который проживал тогда в Риме, был главным организатором помощи советским пленным и партизанам. «Этот честный и смелый человек помогал своим соотечественникам бежать на волю и снабжал их всем необходимым, включая оружие»17. В разных районах итальянской столицы было создано до 40 конспиративных квартир, где скрывались небольшие группы советских партизан. Хозяевами этих квартир были и русские эмигранты, и итальянские патриоты; все они ежечасно рисковали жизнью. С. С. Смирнов называл имена русских эмигрантов-патриотов А. Сумбатова, В. Долгиной, К. Зайцева. В конспиративную квартиру превратил свою студию известный русский художник А. Исупов, который с 1926 г. жил и лечился в Риме.
Когда (уже после освобождения Италии от фашистов) в Рим прибыл советский уполномоченный по репатриации, то, по словам Смирнова, во дворе сиамского посольства были построены 182 спасенных Флейшером бывших советских военнопленных, в том числе 11 офицеров. Все они отправились на родину. Получил советское гражданство и вернулся в СССР и сам герой итальянского Сопротивления А. Н. Флейшер.
Среди тех, кого потом признали активными борцами против фашизма и капитализма в Болгарии, были русские эмигранты М. И. Плавацкий, И. Ф. Рябоконь, В. А. Юревич, Е. И. Носков и др. Плавацкий эмигрировал из России после Октябрьской революции, долгие годы жил в Болгарии с «нансеновским паспортом», работал в Софии водопроводчиком. Во время войны вступил в партизанский отряд и погиб в бою с фашистами 28 мая 1944 г. Рябоконь во время гражданской войны попал в плен к врангелевцам и вместе с белой армией оказался в Турции, а потом в Болгарии, где работал плотником. Во время войны дом Рябоконя в селе Бистрица Горно-Джумайской области стал местом постоянных встреч партизанских руководителей. После провала организации он был осужден на 15 лет тюрьмы. Его освободили 9 сентября 1944 г.
Юревич вырос в эмигрантской семье, работал фотографом. Во время войны стал подпольщиком, печатал нелегальные листовки, сводки Совинформбюро, участвовал в выполнении боевых заданий. Носков – бывший царский офицер, полковник Генерального штаба, воевал в белой армии. Оказавшись в эмиграции, он жил в Софии и работал в Географическом институте. Когда Германия напала на Советский Союз, Носков активно включился в подпольную работу (ему было в то время 62 года). Вместо с другими подпольщиками был арестован и приговорен к строгому тюремному заключению. Его тоже освободили во время народного восстания18.
Материалы болгарских архивов периода второй мировой войны, свидетельствует советский историк Р. Т. Аблова, содержат данные об участии в антифашистской борьбе сотен других /199/ русских эмигрантов и их детей. Большей частью это были рядовые эмигранты. Многие из них после 9 сентября 1944 г. приняли советское гражданство.
Некоторые сведения о патриотических выступлениях русских эмигрантов в Чехословакии содержатся в воспоминаниях Д. И. Мейснера. Он близко знал А. А. Воеводина, который долгое время в предвоенные годы был секретарем Совета русских писателей и журналистов в Чехословакии. В разгар войны Воеводин вступил на путь подпольной борьбы, был арестован гестаповцами и погиб в одном из лагерей смерти. Мейснер рассказывает, что в это трудное время переменились политические позиции эмигрантских деятелей разных направлений. Например, С. С. Маслов, один из бывших лидеров «Крестьянской России», во время войны не раз подвергался преследованиям гитлеровских властей.
Неизменно верил в победу Красной Армии, по словам Мейснера, и горячо ее желал бывший руководитель евразийской группы в Праге П. Н. Савицкий. После войны он жил в социалистической Чехословакии и умер в Праге. Известно, что в Словакии во время народного восстания 1944 г. ряд русских эмигрантов принимали активное участие в боевых действиях против гитлеровцев. К концу войны, делает вывод Мейснер, завершился процесс изживания и крушения специфически эмигрантской политической психологии19.
В Югославии, точнее, в Белграде во время войны действовала подпольная организация Союз советских патриотов, в которую входили главным образом представители второго поколения эмиграции. Союз поддерживал тесные связи с югославскими партизанами, переправлял к ним добровольцев, в том числе и бежавших из фашистских лагерей советских военнопленных. Руководитель Союза эмигрант Федор Высторопский был арестован и героически погиб в августе 1944 г.20 Из рядов русской эмиграции в Югославии вышли и другие герои – участники народно-освободительного движения. Воевал в партизанском отряде и был убит в бою с фашистами талантливый эмигрантский поэт А. П. Дураков, многие патриотические стихи которого, по свидетельству вернувшегося после войны на родину И. Н. Голенищева-Кутузова, остались ненапечатанными21. Указом Президиума Верховного Совета СССР А. П. Дураков посмертно был награжден орденом Отечественной войны II степени.
Широко известно в Югославии имя Ф. Е. Махина. Бывший царский офицер, окончивший до первой мировой войны императорскую николаевскую Военную академию, Махин, живя в Югославии, в 20 – 30-х гг. занимался публицистической деятельностью и много писал о Советском Союзе, издавал журнал, знакомящий югославов с советской литературой. Махин основал в Белграде русскую библиотеку, которая получала многие советские издания. В 1939 г. он вступил в Коммунистическую /200/ партию Югославии. Когда в апреле 1941 г. фашистская Германия напала на Югославию, Ф. Е. Махин ушел в горы к партизанам. Он работал в отделе пропаганды Верховного штаба, получил звание генерал-лейтенанта югославской армии, был награжден боевыми орденами22. Генералом югославской Народной армии стал еще один русский эмигрант, представитель более молодого поколения эмиграции – В. Смирнов. До войны он был инженером-строителем мостов, а во время войны занимал высокую должность начальника инженерной службы Верховного штаба и был отмечен боевыми наградами.
Совсем иные условия жизни эмиграции сложились в годы войны в Соединенных Штатах Америки, которые входили в состав антигитлеровской коалиции. Здесь имелась значительная прослойка неполитической, трудовой эмиграции, выходцев из России, покинувших страну еще до Октябрьской революции. Вместе с тем в 20 – 30-х гг. в США, Канаде и Южной Америке постепенно возрастало число осевших там белоэмигрантов. С началом второй мировой войны сюда устремились представители разных политических эмигрантских группировок. В США, например, переселились многие эсеры и меньшевики. Здесь издавались «Социалистический вестник», «Новый журнал» (продолжение «Современных записок»), «Новое русское слово», другие эмигрантские издания, сохранившие свое миросозерцание как бы застывшим.
Но здесь же в годы Великой Отечественной войны широко развернулась деятельность прогрессивной части русской эмиграции, группировавшейся вокруг Американо-русского общества взаимопомощи (АРОВ), деятельность которого была направлена на оказание помощи советскому народу. Проводились массовые митинги и собрания, был организован сбор средств и теплых вещей для Красной Армии. Активно включились в эту работу знаменитый скульптор С. Т. Коненков и его жена Маргарита Ивановна, которые жили в это время в США. С. Т. Коненков рассказывал, что выходцы из России организовали 40 отделений Комитета помощи Советской России. Только в Нью-Йорке разборкой и комплектованием одежды, предназначенной для посылок, занималось 500 человек.