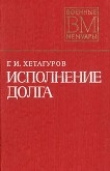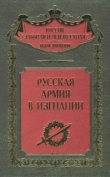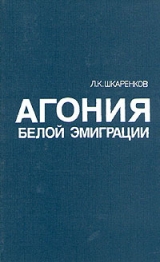
Текст книги "Агония белой эмиграции"
Автор книги: Леонид Шкаренков
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 21 страниц)
Уже после второй мировой войны во Франции возникла идея создать фундаментальный сборник материалов о выдающихся деятелях русской культуры за рубежом. Об этом рассказывал во время посещения Москвы в 1967 г. С. М. Лифарь, более тридцати лет руководивший французским балетом (он покинул Россию 17-летним юношей)21. Среди тех, кто составляет плеяду крупных деятелей культуры, кроме Шаляпина и Рахманинова называют имена писателей И. А. Бунина и А. М. Ремизова, композиторов А. К. Глазунова, И. Ф. Стравинского, А. Т. Гречанинова, Н. Н. Черепнина, балерины Анны Павловой, художников К. А. Коровина и А. Е. Яковлева, режиссеров А. А. Санина и Н. Н. Евреинова и многих других. Зарубежным деятелям русской культуры посвящены различные публикации. Большой материал о культурно-просветительной работе «русского зарубежья» за полвека (с 1920 по 1970 г.) собран в книге П. Е. Ковалевского, которую мы цитировали. Автор ставил перед собой задачу дать историкам данные обо всем, что написано и напечатано но этой тематике, в том числе и о местах, где хранятся «материалы о жизни и творчестве русских вне России». Нельзя не отметить и тот вклад, который принадлежит выдающемуся художнику, литератору, историку А. Н. Бенуа. Он жил во Франции с 1926 г. до своей смерти в феврале 1960 г. Многие статьи и очерки, написанные А. Бенуа, посвящены мастерам русской культуры. Часть из них вошла в книгу «Александр Бенуа размышляет», выпущенную в Москве в 1968 г. Опубликованная переписка А. Бенуа воссоздает образ человека, который и в 90 лет сохранял живой интерес к культурной жизни нашей страны. Этой традиции следовал и его сын – Николай, тридцать пять лет проработавший главным художником театра «Ла Скала» в Милане. В творчестве Н. А. Бенуа видное место всегда занимали русские мотивы.
Среди биографий известных соотечественников, которые жили за рубежом, выделяется своей необычностью история жизни знаменитого художника Н. К. Рериха22. Он покинул Россию еще в 1916 г. Побывал во многих странах. В 1923 г. в Нью-Йорке открылся Музей Рериха. Потом он уехал в Азию, путешествовал по Индии, Китаю, Монголии, написал там множество картин, занимался поисками уникальных произведений народного искусства, собрал богатейшие археологические и этнографические коллекции, лингвистический материал. Последние двадцать лет жизни Рерих прожил в Индии, где им был основан Гималайский институт научных исследований. Во время одного из своих путешествий, летом 1926 г., Н. К. Рерих, его /103/ жена Елена Ивановна и старший сын – Юрий по разрешению советских властей перешли китайско-советскую границу и приехали в Москву. Рерих встречался с Г. В. Чичериным и А. В. Луначарским, преподнес в дар Советскому правительству несколько своих картин. Уже после смерти отца Ю. Н. Рерих – видный ученый-востоковед – в 1957 г. вернулся на родину. Младший сын Н. К. Рериха – живописец С. Н. Рерих – по-прежнему живет в Индии, внося большой вклад в развитие советско-индийских культурных связей.
Много путешествовал по свету другой известный художник – А. Е. Яковлев, который жил сначала в Париже, потом в Америке. В 20-х гг. он принимал участие в экспедициях в Центральную Африку и Азию. Его картины и зарисовки, ставшие своего рода этнографическими документами, были также тонкими психологическими характеристиками. Выставки работ Яковлева пользовались в то время большой популярностью23.
Иначе сложилась судьба К. А. Коровина – талантливого художника, пейзажиста и декоратора, на чьем творчестве сказалось значительное влияние импрессионизма. Ему трудно жилось на чужбине. Постоянная нужда, бытовая неустроенность сопровождали там Коровина до конца жизни.
Среди русских художников за рубежом, как, впрочем, и среди музыкантов, были яркие и самобытные индивидуальности. Их было немного, но они оставили свой след в истории живописи, декоративного искусства, скульптуры. Кроме уже упомянутых назовем некоторые новые имена. Ю. П. Анненков – разносторонний художник, портретист, иллюстратор, автор театральных и кинопостановок; Л. С. Бакст – известный декоратор; И. Я. Билибин – график и театральный художник (перед второй мировой войной вернулся на родину); Ф. А. Малявин – жанровый живописец и портретист; А. П. Архипенко – скульптор, один из основоположников кубизма в этом виде искусства; В. В. Кандинский – художник-абстракционист, и многие другие.
В марте 1985 г. умер Марк Шагал – крупный художник, график, декоратор. Он жил и работал во Франции с 1923 г., но всегда оставался русским художником, в творчестве которого переплетались реальность и фантазия, мир сказки, народный фольклор, образы цирка. В семидесятые годы Шагал выполнил серию литографий, посвященных Маяковскому, и вместе с другими графическими работами преподнес их в дар Музею изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.
Говоря о культурной жизни эмиграции, необходимо сказать несколько слов и о попытках создания за рубежом русского драматического театра. В Париже, Берлине, Праге, Белграде, Харбине, некоторых других городах оставшиеся за границей артисты и любители образовали театральные труппы. В их репертуаре были не только эмигрантские, но и русские классические пьесы, а также произведения некоторых советских драматургов. /104/
Огромное впечатление произвели на всех «Дни Турбиных» М. Булгакова. Очевидцы вспоминают, что каждый спектакль сопровождался овациями и многие зрители из русских эмигрантов уходили заплаканными. А кое-кто жаловался, как заметила одна эмигрантка, что тяжко и неприятно вспоминать то «грустное время». Эта пьеса ставилась неоднократно разными театрами. Узнав о постановке «Дней Турбиных» в Берлине, бывший гетман Украины П. П. Скоропадский с беспокойством спрашивал: «Что со сцены говорилось обо мне и в каких выражениях?» Надо сказать, он правильно оценил пьесу, выразив протест против попыток «показать безнадежность белого движения» и «осмешить, смешать с грязью гетманство 18-го года» и, в частности, его самого24.
Драматическому театру в иноязычной стране трудно получить признание публики. Какими бы талантливыми ни были русские актеры, как бы они ни работали на чужбине, это было все же не сравнимо с тем, что те же люди подарили бы своей стране, живя дома. Этот вывод, который сделал Д. И. Мейснер, можно в какой-то мере отнести и к другим группам русской творческой интеллигенции в эмиграции. Почти все ее представители, даже получившие признание за рубежом и пользующиеся мировой известностью мастера, пережили своего рода трагедию, будучи лишены родной питательной среды. Значительная же часть этой интеллигенции вообще ничего не создала в эмиграции и прозябала в бедности.
* * *
Как это принято на Западе, представители эмигрантской интеллигенции часто собирались в разных кафе, маленьких ресторанах. В Париже они есть на каждой улице. В Берлине пользовались известностью литературные кафе на Ноллендорфплатц, кафе «Лэндграф» на Курфюрстендамм. В Праге местом встреч эмигрантских писателей, художников, артистов были ресторан «Беранек» на Виноградах и кафе «Далиборка» на Летне. Здесь читались стихи, отрывки из своих произведений, велись бесконечные споры о судьбах эмиграции.
Среди эмигрантских писателей и поэтов были люди разных, убеждений. По своему политическому облику это была весьма неоднородная группа. Сочинительством занялся даже атаман П. Н. Краснов. Его четырехтомный «роман» «От двухглавого орла к красному знамени», рассчитанный на вкусы казаков-эмигрантов, был откровенной пропагандой идей «белого движения».
В эмиграции в разных странах оказались И. А. Бунин, Б. К. Зайцев, Д. С. Мережковский, М. П. Арцыбашев, Е. Н. Чириков, А. Т. Аверченко, Н. А. Тэффи, В. Ф. Ходасевич и другие представители художественной интеллигенции. Об эмигрантской литературе, об отдельных произведениях эмигрантских /105/ писателей писали в советской печати.
«Уходящие тени» – так назвал белоэмигрантских литераторов Н. Мещеряков в одном из своих очерков. «Вспомните, читатель, картину Максимова «Все в прошлом», – писал он в журнале «Красная новь». – В кресле сидит старая дама-помещица. Кругом цветущие кусты сирени. Вдали помещичий дом. Старая дама глубоко погружена в воспоминания молодости. Она живет только ими. Она не видит молодой, новой жизни, которая пышно расцветает вокруг нее. Эта картина часто вспоминается мне, когда я читаю белогвардейские книги и журналы»25.
Вот пример такой литературы. В 1921 г. в Париже вышла книга Аркадия Аверченко «Дюжина ножей в спину революции». «Правда» опубликовала на эту книгу специальную рецензию, которую написал В. И. Ленин. Он обратил внимание на то, что автор «с поразительным талантом» изобразил «впечатления и настроения представителя старой, помещичьей и фабрикантской, богатой, объевшейся и объедавшейся России… Как ели богатые люди в старой России, как закусывали в Петрограде – нет, не в Петрограде, а в Петербурге – за 14 с полтиной и за 50 рублей и т. д. Автор описывает это прямо со сладострастием: вот это он знает, вот это он пережил и перечувствовал, вот тут уже он ошибки не допустит. Знание дела и искренность – из ряда вон выходящие». Вкусная еда, легкая, привольная жизнь – это у них было, и этого лишила их революция, поэтому «дюжину ножей» в ее «спину». В книге Аверченко на некоторых страницах была напечатана виньетка: рука, сжимающая нож и готовая нанести удар.26
О прошлом писали, конечно, и в более спокойных, лирических тонах. Нужно сказать, что эмигрантская жизнь мало привлекала известных писателей-эмигрантов, они жили воспоминаниями о России, той России, которая была им близка и знакома. Для И. А. Бунина, например, основной темой стал мир русской помещичьей усадьбы. А. И. Куприн, говоря о своей жизни на чужбине, жаловался: «Ну что же я могу с собой поделать, если прошлое живет во мне со всеми чувствами, звуками, песнями, криками, образами, запахами и вкусами, а теперешняя жизнь тянется передо мною как ежедневная, никогда не переменяемая истрепленная лента фильмы»27.
Куприна называли исследователем жизни, и эту свою способность он сначала пытался сохранить за рубежом. Но он не мог приспособиться к чуждым условиям. По словам дочери писателя Ксении Александровны, литературное имя Куприна, открывавшее ему на родине сердца, во Франции никому ничего не говорило. «Я старый, худой, седой и плешивый, – сетовал писатель в одном из писем накануне своего шестидесятилетия. – Ничего не увлекает, не веселит, не интересует. Работаю, как верблюд, без увлечения, без радости»28. Куприн, так легко и свободно сходившийся с людьми, как-то душевно /106/ «съежился», его обаятельная непосредственность, доброжелательность к людям, любознательность превратились в преувеличенную вежливость, появилось чувство виноватости, которое с годами все увеличивалось. И только через семнадцать лет вернувшись на родину, он понял, сколько лет выброшено и сколько еще пользы он мог бы принести своей стране, если бы ре-шился сделать это раньше29.
Но даже с опозданием немногие писатели решались на такой шаг. Один из друзей Куприна в годы эмиграции – известный поэт-символист К. Д. Бальмонт, судя по всему, мучился на чужбине. «Я живу здесь призрачно, оторвавшись от родного, – писал он. – Я ни к чему не прилепился здесь»30. Он дожил до глубокой старости и закончил свою жизнь в нищете, полузабытый и больной.
Остро переживала свое одиночество, яичную драму, непонимание окружающих М. И. Цветаева – талантливая поэтесса, человек трагической судьбы. «Ужасающе неприспособленная» в личной жизни, Марина Цветаева в эмиграции страдала от постоянной нужды, неустроенности, ее давил беспросветный быт. Ценным человеческим документом является переписка Цветаевой с ее пражской подругой Анной Тесковой. Вот как описывала поэтесса условия, в которых ей приходилось жить, в письме из Парижа 7 декабря 1925 г.: «Квартал, где мы живем, ужасен, – точно из бульварного романа «Лондонские трущобы»». В письме от 20 июня 1926 г.: «Я связана детьми и деньгами. О квартире думать нечего? Квартира – свобода, но – дорого? недоступно?»31
Идут годы, но на страницах писем все та же беспросветность: «Живем в долг в лавочке…» (17 октября 1930 г.). «По нашим средствам мы все должны были бы жить под мостом» (14 сентября 1931 г.). «Мы в полной нищете, за квартиру Не плачено… Печататься негде, С. Я. (С. Я. Эфрон – муж М. Цветаевой. – Л. Ш.) без работы, ищет, обещают…» (27 января 1932 г.). «Зима прошла в большой нужде и холоде…»32 (7 марта 1933 г.). «Я страшно одинока», – снова и снова повторяет поэтесса. «Скажу по правде, – пишет она А. Тесковой, – что я в каждом кругу – чужая, всю жизнь. Среди политиков так же, как среди поэтов. Мой круг – круг вселенной (души: то же) и круг человека, его человеческого одиночества, отъединения»33.
М. Цветаева объясняет, что все вокруг считают ее сухой и холодной. Может быть, и так, подтверждает она, «жизнь, оттачивая ум, – душу сушит». Может быть, рассуждает Цветаева, «я долгой любви не заслуживаю, есть что-то – нужно думать – во мне – что все мои отношения рвет. Ничто не уцелевает. Или – век не тот: не дружб». И опять признания: «Я дожила до сорока лет (письмо от 21 ноября 1934 г.), и у меня не /107/ было человека, который бы меня любил больше всего на свете… У меня не было верного человека»34.
По словам Цветаевой, жизнь для нее начинает что-либо значить, «т. е. обретать смысл и вес – только преображенная, т. е. – в искусстве». «Я знаю себе цену», – пишет Цветаева. Но тут же замечает: она высока у знатока, но нуль у других. «Мое горе с окружающими в том, что я не дохожу». И дальше: «Словом, точное чувство: мне в современности места нет». Все, что она пишет, кажется Цветаевой никому не нужным. «Это, в лучшем случае, зовется «неврастения»»35.
Наконец, она напишет (15 февраля 1936 г.): «Вокруг – угроза войны и революции, вообще – катастрофических событий. Жить мне – одной – здесь не на что (муж Цветаевой, ее дочь и сын, по ее словам, рвались в Советскую Россию. – Л. Ш.). Эмиграция меня не любит. Парижские дамы – патронессы – меня терпеть не могут – за независимый нрав. Наконец, у Мура (сын Цветаевой. – Л. Ш.) здесь никаких перспектив. Я же вижу этих двадцатилетних – они в тупике… В Москве у меня все-таки – круг настоящих писателей, не обломков… Наконец – природа: просторы». Уверенно звучат только ее слова о родине. «До последней минуты и в самую последнюю верю – и буду верить – в Россию: в верность ее руки»36.
Постоянно и безысходно тосковал по России так и не вернувшийся на родину И. А. Бунин. Он умер в Париже в 1953 г. В эмиграции Бунин написал как многие свои значительные произведения (например, «Жизнь Арсеньева»), так и проникнутые озлоблением против нового строя очерки и заметки вроде записок о гражданской войне. Его жизнь и творчество за рубежом требуют вдумчивого подхода без замалчивания его враждебного отношения к революции, без каких-либо крайностей в оценках. И прав, видимо, А. Твардовский, который, отмечая тот факт, что Бунин приобрел в Советском Союзе большого читателя, усматривал в этом проявление принципов социалистической культуры. Она ценит подлинные произведения искусства и лишена мстительного чувства к тем их авторам, которые когда-то покинули родину в страхе перед разрушительной силой революции37.
Это подтверждает тот факт, что вскоре после войны с Буниным встречался посол СССР во Франции А. Е. Богомолов. Посол прямо спросил писателя, не предполагает ли он вернуться на родину. Бунин сказал, что подумает, но ответа не дал…38
К. М. Симонов, летом 1946 г. приезжавший в Париж, через много лет рассказал о том, как во время одного вечера в парижском зале его познакомили с Тэффи и Буниным. Н. А. Тэффи (Лохвицкая) писала рассказы и лирические стихи (она прожила в эмиграции более 30 лет и умерла в 1952 г.). По словам К. М. Симонова, Тэффи в свои 75 лет выглядела моложаво, была «Человеком очень живого, озорного нрава, с очень современными повадками». А вот Бунин казался человеком другой эпохи /108/ и другого времени. «Это был человек, – писал Симонов, – не только внутренне не принявший никаких перемен, совершенных в России Октябрьской революцией, но и в душе все еще никак не соглашавшийся с самой возможностью таких перемен, все еще не привыкший к ним как к историческому факту»39.
В эмиграции даже творчество Бунина становилось предметом политической спекуляции. И присуждение ему Нобелевской премии в 1933 г. носило явно политический, тенденциозный характер. Отнюдь не только желание отметить художественную ценность литературных произведений И. А. Бунина двигало организаторами этой акции. Отклики были разные. М. И. Цветаева писала, например, по этому поводу 24 ноября 1933 г. своей подруге в Прагу следующее: «Премия Нобеля. 26-го буду сидеть на эстраде и чествовать Бунина. Уклониться – изъявить протест. Я не протестую, я только несогласна, ибо несравненно больше Бунина: и больше, и человечнее, и своеобразнее, и нужнее – Горький. Горький – эпоха, а Бунин – конец эпохи. Но это политика, так как король Швеции не может нацепить ордена коммунисту Горькому…»40 Высказываясь таким образом в личном письме, М. И. Цветаева признается: обо всем этом, конечно, приходится молчать.
Среди эмигрантских писателей были и предельно непримиримые, как И. С. Шмелев или М. А. Ландау-Алданов, и такие, кто нашел в себе силы преодолеть тяжелые ошибки и заблуждения или стремился к этому. Талантливый русский писатель А. М. Ремизов, проживший долгие годы в эмиграции, заметил, что в его творчестве раньше была легенда о России, образ старой Руси, а потом к ним прибавилась и живая жизнь Советской России. «Со старым я попрощался, величая, – писал Ремизов в 1947 г., – а с новым я жил, живу и буду жить»41. Он умер в 1957 г. в Париже, уже будучи советским гражданином. Ремизов всегда интересовался легендами и мифами разных стран и народов, излагая их своими словами. Он говорил, что легенды подобны снам человечества, в этих снах-преданиях сохраняется память прошлого. За границей он жил очень уединенно, не умел приспособиться, бороться за свое существование.
Жизнь показала, что эмигрантская литература не имела будущего. А. Н. Толстой, проживший на чужбине несколько лет, считал, что эмиграция может убить любого писателя в два-три года. Илья Эренбург тоже заметил: для большинства русских писателей эмиграция была смертью. И причина здесь, по его мнению, не только в разлуке с родиной, как бы тяжела она ни была, а прежде всего в том, с каким сознанием покидает человек родину – с большими идеями или мелкой злобой42.
Крупные представители русской культуры не были счастливы на чужбине. В этом признавались Шаляпин, Рахманинов, Павлова, Коровин и многие другие. Уже незадолго перед войной в журнале «Современные записки» появилась статья о музыкальном /109/ творчестве в эмиграции. Ее автор с горечью заметил, что композиторы оставили в России всю свою публику. Композитор-эмигрант вынужден был творить без резонанса слушателя, без исполнения, без издания, без отклика критики. И если такой признанный и имевший успех за рубежом композитор, как С. С. Прокофьев, вернулся на родину, то это, по словам автора из «Современных записок», объяснялось тем, что «ему не хватало воздуха и русского понимания, захотелось к своей публике»43.
Среди тех, кто, прожив много лет за рубежом, все больше мечтал о возвращении на родину, был и Ф. И. Шаляпин. «Вижу иногда во сне себя в Большом театре, – писал он дочери И. Ф. Шаляпиной 9 июля 1935 г., – будто бы нужно что-то петь, какой-то концерт, и никого не нахожу – все незнакомые артисты и музыканты, никто меня не узнает, просыпаюсь скучный и думаю: вот сон – а может быть, и наяву было бы также? Да оно и понятно. Почти пятнадцать лет живу по чужим странам, там, в России, уже новое поколение, с новыми мыслями, новыми идеями и делами… Да и болезнь меня как-то пришибла – не то что физически, а так как-то морально. Что-то начал падать духом. Кругом мало утешительного. Работа однообразная и раздражающая. Театры отвратительные: и поют, и играют, как на черных похоронах. Бездарь кругом сокрушительная! Всякий спектакль – каторжная работа. Слушаю ваше радио – и иногда радуюсь. Молодцы ребята…» Здесь и разочарования, и сомнения, и тоска по родине. Ф. И. Шаляпина много раз приглашали в Советский Союз, говоря ему, что, несмотря на длившиеся годами заблуждения, он мог бы «восстановить нормальные отношения с народом, из которого он вышел и принадлежностью к которому гордится». В последние годы жизни Шаляпин живо интересовался всем, что делалось на родине: слушал советское радио, смотрел советские фильмы, читал книги советских писателей. Он гордился своими соотечественниками. «…Что за великолепный народ все эти Папанины, Водопьяновы, Шмидт и Ко, – писал Шаляпин незадолго до кончины, – я чувствую себя счастливым, когда сознаю, что на моей родине есть такие удивительные люди. А как скромны! Да здравствует славный народ российский!!» Воспоминания дочерей великого певца, его собственные письма свидетельствуют о том, что в конце концов «он понял всю трагедию своей жизни, осознал свою ошибку, но… поздно. Он был уже на пороге смерти»44. Через 46 лет после кончины Ф. И. Шаляпина, в октябре 1984 г., прах великого певца был перевезен из Парижа в Москву.