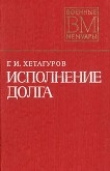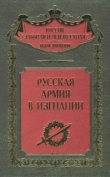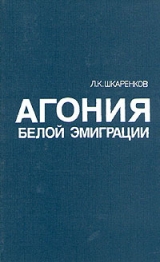
Текст книги "Агония белой эмиграции"
Автор книги: Леонид Шкаренков
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 21 страниц)
Напомним, как развертывались события. Войска Чжан Сюэляна захватили телеграф КВЖД, произвели налет на консульство СССР в Харбине, подвергли пыткам и издевательствам советских граждан. В июле 1929 г. Советское правительство разорвало дипломатические и хозяйственные отношения с Китаем, приостановило железнодорожное сообщение и потребовало отзыва из СССР представителей Китая. Подразделения китайской армии и белогвардейские банды продолжали провокации; в ноябре они предприняли попытки вторгнуться на советскую территорию в Приморье и Забайкалье. Опять-таки расчет был на поддержку империалистических держав, на то, что СССР не посмеет начать боевые действия в Маньчжурии из опасения столкновения с Японией.
Особая Дальневосточная армия, созданная в это время для /144/ защиты границ СССР на Дальнем Востоке, под командованием выдающегося советского военачальника В. К. Блюхера нанесла сокрушительный удар войскам китайских милитаристов и белогвардейским бандам – обратив в бегство, она преследовала их на китайской территории. Описывая потом в конфиденциальном письме эти события, генерал Хорват приводил, например, следующий факт: «Сравнительно небольшая советская часть разбила сорокатысячную китайскую армию, взяла в плен свыше десяти тысяч человек, заняла район от станции Маньчжурия до Хингана и заставила китайцев немедленно капитулировать»55.
В переписке белоэмигрантских руководителей было явное желание задним числом обвинить во всем китайских милитаристов. «Если бы Китай был более решителен в своих действиях, – уверял в том же письме Хорват, – то он не имел бы позорного и унизительного для него хабаровского соглашения и возвращения большевиков на дорогу, а мы, возможно, не сидели бы теперь в эмиграции, а имели освобожденную территорию по крайней мере от Владивостока до Иркутска». Это были мечты, в реальность которых хотелось верить этим людям.
Положение на КВЖД было восстановлено, но оккупация Японией в 1931 г. Маньчжурии и образование затем марионеточного государства Маньчжоу-Го вызвали новую напряженность. Из Шанхая генерал Дитерихс обратился в этой связи «К белой русской эмиграции всего мира». «Выступления японцев на севере, – говорилось в выпущенной им листовке, – в непосредственной зоне соприкосновения с интересами советскими, еще ярче разжигают для нас пламя надежды и возможностей найти почву и пути для осуществления наших национальных устремлений»56.
Вскоре после конфликта на КВЖД собралось совещание белоэмигрантских организаций, выступающих за вооруженную борьбу. Совещание даже обратилось к населению Сибири и Дальнего Востока, призывая «к всеобщему восстанию против коммунистов»57. За громкими словами о национальных интересах, национальных задачах России скрывалась все та же ненависть к СССР, к новому строю, к людям, которых подняла и выдвинула революция. Говорили об интересах России, а сами формировали банды, которые занимались убийствами и разбоем на советской, русской земле. Вот секретные данные штаба дальневосточного отдела РОВС на 1 февраля 1931 г. Речь идет о действиях отдельных банд с китайской территории, об убийствах, поджогах, актах грабежа и насилия. В отчете, который не предназначался для публики, нет и намека на связи этих отрядов с населением. О каком «всеобщем восстании» можно было говорить, если в Приморской области, как указывалось в отчете, отряды «разбились на мелкие группы и скрываются в глухих местах, занимаясь для прокорма охотой. Часть из них перешла границу и охотится на китайской территории». Далее отмечалось, /145/ что иногда эти отряды устраивают налеты на колхозы, нападают на хлебные обозы. Например, однажды ночью один из таких отрядов, разделившись на две группы, захватил 11 лошадей в колхозах Барановском и Нестеровском, поджег скирды сена и ушел за границу. В другом месте повесили председателя колхоза – коммуниста, убили десять комсомольцев, захватили две винтовки, четыре дробовика и лошадей. И еще: «…в селе Лучки убрали председателя сельсовета – коммуниста Кононенко… в селе Сергиевка – убит милиционер, у него отобран наган… в районе села Городечно встретили двух красноармейцев, они были убиты, взято две винтовки и 120 патронов»58. Вот так выглядело это «освободительное движение».
Главами белой эмиграции на Дальнем Востоке больше всего, кажется, были озабочены изысканием средств, они надеялись на какую-то иностранную помощь, но не забывали и о своих соотечественниках. «Нужны миллионы долларов», – взывал Дитерихс в упомянутом выше обращении к эмиграции всего мира. Он даже назвал точную сумму: «Пусть каждый из белых эмигрантов пришлет сюда (в Шанхай) не менее доллара, а из Европы пять франков». Но когда дело доходило до сбора средств, тут сразу давало себя знать столкновение интересов разных эмигрантских группировок. В данном случае, например, отказались участвовать в сборе средств «легитимисты» – сторонники великого князя Кирилла. Председатель РОВС генерал Миллер обратился к великому князю с письмом и просил дать соответствующее указание членам Союза легитимистов. Однако Кирилл поставил предварительное условие: подчинение ему РОВС и признание его в качестве «императора». Так и не договорились. Выступая летом 1931 г., Миллер сетовал на то, что со стороны «легитимистов» участились нападки на РОВС59.
Оккупация Японией северо-восточных провинций Китая, ее агрессивный курс по отношению к Советскому Союзу; потворство этому курсу со стороны США и других империалистических держав способствовали оживлению деятельности крайне правых, самых авантюристических элементов белой эмиграции, группировавшихся вокруг японского агента Семенова. Пройдет пятнадцать лет, и в августе 1946 г. на судебном процессе по делу руководителей антисоветских белогвардейских организаций бывший атаман выступит с важными признаниями. Семенов сообщит на суде о своих связях с японским Генеральным штабом. Еще в 1926 г. генерал Танака говорил Семенову, что направит деятельность японского правительства, когда станет премьером, на осуществление намеченного им плана отторжения Восточной Сибири от СССР и добьется создания на этой территории «буферного государства». Танака обещал тогда Семенову пост «руководителя будущего дальневосточного правительства»60.
После оккупации японскими войсками Маньчжурии в 1931 г. Семенов был вызван к начальнику 2-го отдела штаба Квантунской армии полковнику Исимуре. Исимура заявил, /146/ вспоминал Семенов на процессе, что японский Генеральный штаб разрабатывает план вторжения японской армии на территорию Советского Союза и отводит в этой операции большую роль белоэмигрантам. Он предложил Семенову готовить вооруженные силы из белогвардейцев61. О том, как действовали эти «силы», мы уже рассказывали.
Семеновцы всячески подчеркивали свою преданность японской империи и ее сателлитам. 10 марта 1932 г., на следующий день после провозглашения Пу И верховным правителем Маньчжоу-Го, белоэмигрантская газета «Мукден», которая издавалась под редакцией одного из сподвижников Семенова – генерала Клерже, вышла под лозунгом «Да здравствует новая и счастливая эра «Да-Тунь»!». Газета приветствовала японского ставленника «от всей души и с полной почтительностью и искренностью».
По опубликованным в свое время данным, в 1934 г. в Маньчжурии насчитывалось 43 тыс. русских белоэмигрантов и около 30 тыс. советских граждан* * См.: БСЭ, т. 38. М., 1938, с. 71.
[Закрыть], подавляющее большинство которых вернулось в СССР в 1935 г. после продажи КВЖД. Оккупировав Маньчжурию, японская военщина позаботилась о создании специальных отрядов из числа белоэмигрантов. Упоминавшийся уже бывший вахмистр Акулов рассказывал, как его назначили поселковым атаманом в Трехречье и он должен был помогать японцам формировать такие отряды. Каждый год японские власти призывали эмигрантскую молодежь в возрасте 21 года, готовили ее к войне против Советского Союза, обучали владеть оружием.
Трехречье – особый географический район в северо-западной части Маньчжурии, в бассейне реки Аргунь. Плодородные земли, сенокосы, охота издавна привлекали сюда забайкальских казаков. Именно здесь поселилась некоторая часть казаков из разгромленных в Сибири частей белых армий. В японской книге «Описание Трехречья» («Санга Дзидзео»), изданной в 1941 г. в Чанчуне, приводятся данные о поселках (хуторах) этого района* * Автор сердечно благодарит Г. Г. Пермякова, приславшего свой перевод отдельных извлечений из этой книги.
[Закрыть]. В начале 30-х гг. их было более двадцати, от 10 до 100 с лишним дворов в каждом. Всего, по японской статистике, в этом районе жило в это время более 5,5 тыс. русских. По мнению Г. Г. Пермякова, их было здесь значительно больше. Японцы занижали численность русских Трехречья, из которых они готовили бойцов для белогвардейских отрядов.
После смерти генералов Хорвата и Дитерихса атаман Семенов претендовал на роль единоличного вождя контрреволюции на Дальнем Востоке. В эти годы, когда опасность возникновения японо-советской войны на Дальнем Востоке стала постоянным /147/ фактором, его имя не раз называлось в белоэмигрантских кругах. «Будучи лично связан с вдохновителями японских агрессивных планов – генералами Танака, Араки и др., Семенов по их заданию участвовал в разработке планов вооруженного нападения на Советский Союз и предназначался японцами в качестве главы т. н. буферного государства, если бы им удалось вторгнуться на территорию советского Дальнего Востока»62. Это выдержка из обвинительного заключения, которое было предъявлено Семенову Военной коллегией Верховного суда СССР в 1945–1946 гг. Эмигрантские источники только подтверждают сделанные в этом заключении оценки.
После того как летом 1937 г. Япония начала войну против Китая, белоэмигрантские осведомители передавали, что японцы используют там войска лишь «третьего сорта», а «первого» и «второго» приготовлены для операций против Советской России. Из другого источника, имеющего отношение к японской разведке, сообщали, что в июне – июле 1938 г. можно будет свободно въезжать во Владивосток. Приводился даже состав будущего Сибирского правительства, которое возглавит Семенов. Среди членов этого «правительства» были названы профессор Г. К. Гинс (бывший управляющий делами колчаковского правительства), П. И. Зайцев (бывший редактор монархической газеты «Слово»), В. Ф. Иванов (бывший министр внутренних дел приамурского правительства братьев Меркуловых), К. В. Родзаевский и др.63 Последний заслуживает особого Внимания. Это он возглавил в 30-х гг. белогвардейскую фашистскую партию в Маньчжурии.
Появившись на свет под влиянием «опыта» итальянского, немецкого и японского фашизма, белоэмигрантские фашистские организации противопоставляли себя старшему поколению эмиграции, заявляя, что они исправят их промахи и придут в Россию для свершения «национальной революции». «Изгнанные революцией и бессильные, – пишет американский историк Джон Стефан о русских фашистах, – они пытались компенсировать свою политическую импотенцию, занимаясь безнадежными фантазиями»64.
В мае 1931 г. в Харбине был созван съезд так называемой Русской фашистской партии (РФП). Ее-то и возглавил К. В. Родзаевский – новоявленный фюрер из молодого поколения эмиграции. Уроженец Благовещенска, он бежал в 1925 г. из СССР в Маньчжурию и на протяжении ряда лет вел активную антисоветскую деятельность. В обвинительном заключении, которое было предъявлено Родзаевскому в августе 1946 г., дана развернутая характеристика этой деятельности. Там указывалось, между прочим, на то, что Родзаевский был тесно связан с руководителями японской агрессивной политики, посвящен в их планы развязывания войны против СССР и, возглавляя РФП, проводил практическую работу в этом направлении. Лидеры РФП составили некое подобие программы, которая /148/ открывалась утверждением о приближающемся крушении Советской власти. Опираясь на японскую поддержку, новая партия пыталась завербовать в свои ряды как можно больше членов из правых кругов белой эмиграции, прежде всего среди монархистов. По данным, которые приводятся в статье Э. Оберлендера, в начале тридцатых годов в фашистской партии состояло четыре тысячи членов65. РФП претендовала на роль ударного отряда антикоммунистических сил. В Шанхае она начала выпускать журнал, в Харбине – газету, организовала свою школу для подготовки «кадров». Родзаевский был начальником этой секретной школы, где обучались методам шпионажа и диверсий, а его помощником являлся некто Л. П. Охотин, начальник организационного отдела РФП.
Специально натренированные фашистские молодчики, способные, не задавая вопросов, выполнить любой приказ, могли представлять большую опасность. В предвоенные годы они были участниками многих диверсионных, террористических, контрабандистских акций, проникали и на территорию советского Дальнего Востока.
Русские фашисты – «соратники», как они себя называли, – заявлявшие в своей пропаганде о целях «национальной революции», которые даже приветствовали друг друга восклицанием «Слава России!», на самом деле оказались самыми гнусными предателями своей родины. Это они кричали «банзай», когда подразделения японской Квантунской армии входили в Харбин, это они выражали потом активное желание идти «императорским путем», т. е. служить Японии. К РФП были прикреплены японские советники майор Акикуса Шун и К. И. Накамура, которые считались специалистами по России. РФП стала частью маньчжурской японской мафии, оказалась втянутой в махинации с наркотиками, проституцией и вымогательством.
Во время гастролей Ф. И. Шаляпина в Шанхае представители фашистской партии пытались его шантажировать, требуя, чтобы выручка от концертов пошла в фонд РФП. Добиться этого от великого артиста не удалось, он выгнал вымогателей из своего номера. Между нами говоря, писал потом Шаляпин своей дочери Ирине, все эти монархисты и фашисты – «сволочь неестественная!». Это были уголовники, кровавые преступления которых – убийства, похищения людей – терроризировали население, и эмигрантскую массу прежде всего. Джон Стефан, который пытается представить некоторых лидеров русского фашизма в качестве каких-то «эгоистических мечтателей», тем не менее признает, что фашистская партия превратилась в «прикрытие для организованной преступности на Дальнем Востоке»66. И в этом с ним можно согласиться.
Белоэмигрантские фашистские группировки, образовавшиеся в разных странах, на Дальнем Востоке и в США, предприняли попытку объединиться. На политическую сцену белой эмиграции /149/ выплыла в те годы фигура А. А. Вонсяцкого. Сын жандармского полковника, офицер Добровольческой армии, в эмиграции он сначала сотрудничал в пресловутом «Братстве русской правды». Женившись на богатой американке (ей было 44 года, а ему 22), Вонсяцкий использовал ее средства для финансирования антикоммунистической деятельности. В мае 1933 г., после прихода к власти в Германии нацистов, он основал в США всероссийскую фашистскую организацию, рассматривая ее как продолжательницу «лучших» традиций «белого движения». Джон Стефан называет Вонсяцкого «выдающимся актером», демонстрировавшим тысячам американцев публичные зрелища, которым мот бы позавидовать Голливуд.
Потом Вонсяцкий совершил вояж в Европу и на Дальний Восток. В Иокогаме (Япония) в апреле 1934 г. было подписано соглашение о создании так называемой всероссийской фашистской партии, штаб которой разместился в Харбине. Это была еще одна, очередная попытка образовать за рубежом единый антикоммунистический фронт. Вонсяцкий был объявлен председателем, Родзаевский – генеральным секретарем центрального исполнительного комитета этой партии. После этого в Харбине состоялись торжественная церемония и парад «чернорубашечников»67.
Ничего, однако, из этого объединения не получилось. «Вожди» передрались между собой, и в Харбине скоро было объявлено об исключении Вонсяцкого из партии. Одной из причин этого, как сообщалось, было выступление Вонсяцкого против прояпонского атамана Семенова. Вонсяцкий продолжал действовать самостоятельно в США, переименовав свою группу во всероссийскую национал-революционную партию и выступая против Родзаевского и дальневосточных фашистов. Тот в свою очередь не оставался в долгу: в 1935 г. он провозгласил «трехлетний план» прихода к власти в России, т. е. к 1 мая 1938 г.
Одна из белоэмигрантских газет, «Актив», начавшая выходить в Шанхае, в своем первом номере от 26 марта 1938 г. объявила, что «с внешней стороны треугольник антикоммунистической борьбы, через Токио, Берлин и Рим, охватывает СССР». Авторам и издателям новоиспеченного органа «белого движения» уже мерещилось наступление «нового белого дня», который зовет их к действию, откроет «поле для белой активности». «Сейчас наше время, наша игра», – заявляла газета, приветствуя японскую императорскую армию, «железной метлой выметающую коммунизм из Китая».
В том же году японские милитаристы предприняли вооруженное вторжение на советскую территорию в районе озера Хасан, в 1939 г. – на территорию Монгольской Народной Республики в районе реки Халхин-Гол. Семенов признался потом, что руководимые им белогвардейцы готовились принять тогда непосредственное участие в боевых действиях на стороне японцев. Но не успели. Известно, чем все это кончилось. Вынужденное /150/ считаться с реальной силой, японское правительство подписало с Советским Союзом пакт о нейтралитете. Вместе с провалом агрессивных планов милитаристской Японии на этом этапе кончились полным крахом и все антисоветские замыслы белоэмигрантской контрреволюции на Дальнем Востоке.
Вернемся теперь снова в Европу, где серьезные изменения в международной обстановке получали своеобразное отражение в лагере белоэмигрантской контрреволюции.
* * *
6 мая 1932 г. в Париже был убит президент Франции Поль Думер. Выстрел убийцы, которым был белоэмигрант, бывший офицер П. Горгулов, прозвучал как раз в тот момент, когда французское правительство под влиянием антисоветских сил затягивало под всякими предлогами подписание советско-французского пакта о ненападении. На следующий день после убийства на собрании представителей 78 эмигрантских организаций во Франции был принят текст письма председателю Совета Министров А. Тардье. Его подписали митрополит Евлогий, В. А. Маклаков, В. Н. Коковцов, генерал Миллер, А. В. Карташев и др. Все лидеры эмиграции единодушно отреклись от Горгулова. Редактор «Возрождения» Ю. Ф. Семенов сообщил к тому же последние данные о злодее, согласно которым Горгулов якобы чекист и большевистский агент68.
Столпы эмиграции готовы были пойти на любые домыслы, лишь бы использовать это политическое убийство для осложнения советско-французских отношений, а может быть, и их разрыва. Ничего, однако, из этого не вышло. Франция должна была считаться с растущей агрессивностью Германии, и в этой связи происходило постепенное ее сближение с СССР. В то же время угроза фашизма в Европе создавала сложную и напряженную международную обстановку.
В канун 1932 г. известный нам генерал фон Лампе писал из Берлина, что в Германии «наци» идут неукоснительно к власти. «Я лично поставил себе задачей связь с ними и установление правильности сведений о том, что они в вершину угла ставят…»69 Вскоре от имени РОВС Лампе вступил в переговоры с представителем руководства нацистской партии «по вопросу о совместных действиях против большевиков». В октябре 1933 г. он сообщил, что начальник восточного отдела (вероятно, А. Розенберг) выразил настоятельное желание получить от РОВС план его действий совместно с германскими национал-социалистами «в направлении усиления при помощи немцев внутренней работы в России… а потом и возможной интервенционной деятельности в широком масштабе»70. В письме указывалось о совершенной секретности этих переговоров. Гитлеровские политики, несмотря на шумные антикоммунистические заявления и декларации, должны были соблюдать определенную осторожность. /151/
В Берлине руководители РОВС установили также контакты с некоторыми представителями японской военщины. После встречи с неким Томинагой у генерала Шатилова создалось впечатление, что тот имеет задание японского Генштаба установить силы и возможности РОВС и других белоэмигрантских организаций в Европе, которые ставят задачу вести активную борьбу с большевиками71.
Белоэмигрантских деятелей очень интересовало и беспокоило, какие намечаются перспективы в развитии внешней политики гитлеровского правительства, особенно по «русскому вопросу». В Париже в начале 1933 г. состоялось несколько частных совещаний с участием «видных специалистов эмиграции», на которых «была подвергнута всестороннему обсуждению» эта проблема72. Говорили, что в новых условиях «Рапалло» уже отжило свой век. В этом видели благоприятную для белой эмиграции ситуацию. Высказывалось и такое мнение: Германия, сохраняя дружественные отношения с СССР, в то же время разрабатывает планы расчленения и эксплуатации России. В этом тоже хотели видеть привлекательную для контрреволюции перспективу. Но как же быть с национальными интересами России, о которых так «пеклись» белоэмигрантские деятели? Как увязать их с планами расчленения страны? Стараясь как-то сгладить неблагоприятное впечатление, некоторые эмигрантские «специалисты» высказали предположение, что «планы Розенберга» о расчленении России «в непродолжительном времени уступят место иным построениям». С другой стороны, даже в правых кругах эмиграции высказывалось опасение за судьбу русских эмигрантов в условиях, когда поощряется немецкий шовинизм. Высказывания Гитлера о высших и низших расах, о славянах как о «народе для удобрения» трудно было комментировать. Ко всему этому еще добавлялось убеждение, что политические перемены в Германии усилят внутриэмигрантскую рознь, борьбу между так называемыми «германофилами» и «франкофилами».
В связи с приходом Гитлера к власти в белоэмигрантском лагере активизировались всякого рода авантюристы, проходимцы, фашиствующие элементы. Некий немец фон Пильхау – германский подданный, член национал-социалистской партии, в годы гражданской войны находившийся на Юге России в Добровольческой армии, – вдруг объявил себя фюрером русского народа, приняв псевдоним Светозаров. На ломаном русском языке он призывал русских эмигрантов сплотиться под знаменем Российского объединения народного движения (РОНД). На берлинских улицах появилось несколько десятков человек в сапогах и белых рубашках с красными нарукавными повязками, на которых в синем квадрате был вышит белый знак свастики. Однако германские власти, видимо, не устраивало создание такой слишком уж опереточной организации, и они быстро ее прикрыли. /152/
Но вот в Данциге объявился генерал П. В. Глазенап. Он сам присвоил себе громкий титул главного начальника российского антикоминтерна. В выпущенной по этому поводу листовке говорилось, что имя «главного начальника» и его прошлое «служат гарантией для сомневающихся и колеблющихся». Что же это было за прошлое? Активный белогвардеец, с декабря 1917 г. он находился в Добровольческой армии, командовал полком, бригадой, дивизией, потом принял у Юденича командование белой северо-западной армией, а в 1920 г. формировал белогвардейские вооруженные силы на территории Польши. Как уже было не раз, новоявленный лидер объявил о создании фонда «активной борьбы за Россию» и просил посылать в него доллары и другую валюту73. Но и эта организация лопнула как мыльный пузырь.
Другой белый генерал – В. В. Бискупский, один из руководителей мюнхенской организации «Ауфбау», – был назначен фашистскими властями начальником управления делами русской эмиграции в Германии. Об этом 5 мая 1936 г. сообщила газета «Возрождение». Организовав такое управление, германские власти подчинили себе эмигрантские политические группировки, взяли под контроль всю жизнь эмигрантов в Германии. Для многих из них гитлеровские порядки уже оборачивались концентрационными лагерями. Газета «Последние новости» 14 октября 1936 г. опубликовала заметку о концентрационном лагере Лихтерфельде под Берлином. Русских там множество, сообщал эмигрант, просидевший в лагере девять месяцев, и никто не знает, за что сидит. Обращение зверское, кормили впроголодь, били беспощадно…
Серьезные раздумья в эмигрантской среде и в какой-то мере раскол в ее рядах вызвали события в Испании в 1936 г. – победа Народного фронта, фашистский мятеж и разразившаяся потом гражданская война. Мы еще расскажем о тех отважных людях, главным образом из эмигрантских «низов», которые отправились сражаться на стороне республики. Но с другой стороны, и белоэмигрантский «активизм» показал в Испании свое лицо. Руководители Российского центрального объединения М. Бернацкий и А. Гукасов опубликовали обращение к генералу Франко, к нему они направляли свои молитвы…74
Но речь шла не только о молитвах. Один из руководителей РОВС, генерал Шатилов, писал, что в Испании «продолжается вооруженная борьба белых против красных сил». Он настаивал на том, чтобы РОВС был представлен в Испании хотя бы символически. Если же этого не случится, заявил генерал, то наша полная слабость будет очевидна. По поручению генерала Миллера Шатилов отправился в Рим, а потом в Саламанку (Испания), вел там переговоры о направлении добровольцев из белоэмигрантов в армию Франко. Миллер объявил участие в гражданской войне в Испании продолжением белой борьбы и приветствовал всех, кто выразит желание отправиться туда75. Потом, /153/ правда, уже подводя итоги этой операции, было сказано, что желающих идти в Испанию насчитывалось «трагически мало», не более 70 чел., и часть записавшихся отказалась ехать. Как раз в это время внутри РОВС обострилась генеральская склока. Шатилов тайно интриговал против Миллера, за его спиной пытался вести переговоры о созданий какого-то нового центра путем «предварительного секретного сговора с небольшим числом влиятельных руководителей эмигрантских организаций»76. Другой белогвардейский генерал – Туркул, известный в годы гражданской войны своими зверствами, – летом 1936 г. объявил о создании новой, независимой от РОВС организации – так называемого Русского национального союза участников войны. За это приказом генерала Миллера он был немедленно освобожден от должности «командира Дроздовского стрелкового полка» и исключен из состава РОВС. В газете «Сигнал», которую стал выпускать новый «союз», Туркул заявил, что хочет всколыхнуть застоявшееся эмигрантское болото. Он обвинил РОВС в стремлении быть «вне политики». Задетые за живое, главари РОВС не преминули по этому поводу заявить, что всегда вели «чисто политическую борьбу с большевиками»77. Получили также известность некоторые сведения о так называемой «внутренней линии» – тайной организации, созданной при участии Национально-трудового союза нового поколения в недрах РОВС из «верных людей», действовавших в Болгарии, Франции и других странах. На них возлагалась задача наблюдать «изнутри» за всеми членами Союза, бороться с проникновением в РОВС враждебной агентуры, внедряться в другие эмигрантские организации. По некоторым данным, «внутренняя линия» свила свои гнезда не только в РОВС, но и в таких контрреволюционных организациях и группах, как «Братство русской правды», Национально-трудовой союз нового поколения, «Лига Обера», «Крестьянская Россия» и др.78 Эта попытка создать своего рода «организацию в организациях», имеющую независимую линию подчиненности и занимающуюся взаимной слежкой, вносила в эмигрантскую среду, и без того раздираемую внутренними склоками и интригами, новый элемент разложения.
Одним из организаторов «внутренней линии», по утверждению газеты «Возрождение» (26 сентября 1937 г.), был белогвардейский генерал Скоблин. Активный участник гражданской войны, в РОВС он имел почетное звание «командира Корниловского ударного полка». Этот человек, а также его жена – известная исполнительница русских народных песен Н. В. Плевицкая – были обвинены в участии в похищении председателя РОВС генерала Миллера. 23 сентября 1937 г. Миллер бесследно исчез, оставив записку, что он куда-то ушел вместе со Скоблиным. Когда Скоблина спросили, виделся ли он в тот день с генералом Миллером, тот ответил категорическим отказом. В следующую /154/ ночь Скоблин тоже исчез, больше его никто никогда не видел79.
Исчезновение Миллера вызвало переполох в белогвардейском стане. Некоторое время обязанности председателя РОВС выполнял генерал Ф. Ф. Абрамов – начальник отдела РОВС в Болгарии, в прошлом командир Донского корпуса во врангелевской армии. В марте 1938 г. он передал этот пост другому генералу – А. П. Архангельскому. Белоэмигрантская газетка «Галлиполийский вестник», сообщая 1 апреля 1938 г. биографию нового начальника РОВС, ставила ему в заслугу прошлую контрреволюционную деятельность: после революции он остался в Петрограде, служил в Красной Армии, но занимался саботажем и вредительством, потом бегство на юг, к Деникину, служба у Врангеля, в том числе начальником его штаба, в эмиграции он стал председателем общества офицеров Генерального штаба. 66-летний председатель РОВС, обосновавшись в Брюсселе, развил довольно активную деятельность, стараясь как-то оживить одряхлевшую уже организацию.
В преддверии второй мировой войны главари РОВС сделали свой выбор. В сентябре 1938 г. они собрались в Белграде, чтобы снова заявить, что являются продолжателями «белого движения». Среди ближайших задач здесь были названы: укрепление организационного единства, военная и политическая подготовка, укрепление материальной базы, работа с молодежью и вовлечение ее в ряды РОВС80. Последний вопрос привлек особое внимание. Председатель РОВС Архангельский, а также начальники его отделов – генералы Абрамов, Барбович и Витковский организовали в Белграде конфиденциальную встречу с председателем Национально-трудового союза нового поколения (НТСНП) В. М. Байдалаковым. Две самые активные контрреволюционные организации – РОВС и НТСНП – пытались согласовать свои действия, найти общую линию и заявили о необходимости сотрудничества.
НТСНП образовался еще в 1930 г., тогда он имел название «Национальный союз русской молодежи». Это была организация фашистского типа из эмигрантской молодежи, готовившей себя для активной террористической борьбы. На специальных курсах «общетехнической подготовки» члены этой организация изучали оружие, подрывное дело, технику шпионажа. НТСНП давал людей, а иностранные разведки давали деньги. «Мы скоро превратились, – писал бывший энтеэсовец Е. И. Дивнич, – в махровую, наиболее активную и непримиримую антисоветскую организацию»81.
НТСНП установил контакты с другими фашистскими эмигрантскими группировками. Когда в январе 1939 г. в Харбине собрался фашистский съезд белоэмигрантов, то в списке членов «почетного президиума» значились имена лидера НТСНП Байдалакова, атамана Семенова, генерала В. А. Кислицина, которого японцы назначили начальником эмигрантского бюро в Харбине. /155/ Кислицин поспешил заявить, что намерен установить прочную связь с генералом Бискупским, возглавляющим в Германии аналогичное учреждение.