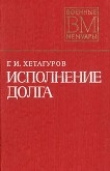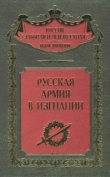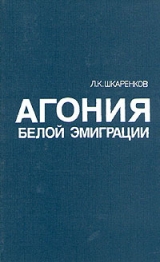
Текст книги "Агония белой эмиграции"
Автор книги: Леонид Шкаренков
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 21 страниц)
Если же посмотреть протоколы заседаний некоторых кадетских групп, например парижской, за последующие годы, то нельзя не обратить внимание, что слишком часто на этих заседаниях речь шла о тактических разногласиях между эмигрантскими группировками, выступавшими под флагом РДО. Не кто иной, как сам его лидер Милюков, говорил о «выявлении и обострении» спорных вопросов, о назревающем серьезном конфликте и даже о «нападениях» со стороны «Крестьянской России». Ища выход из положения, в начале 1927 г. он предложил перейти от сотрудничества в «объединении» к «параллелизму», имея в виду, что каждая организация будет самостоятельно осуществлять издательскую и другую деятельность31.
Развитие международной обстановки, досрочное выполнение первой пятилетки и достижения социалистического строительства в СССР опрокидывали многие прогнозы деятелей «демократического объединения». Когда 15 мая 1932 г. в Париже собрались 55 членов «объединения» во главе с Милюковым, то между ними, в своем, так сказать, кругу, разгорелся спор о том, как изменить «платформу РДО», чтобы она отражала действительное положение вещей. Договориться не договорились, но сохранившийся протокол собрания передает нам настроения этих людей: у одних – растерянность и тревога перед неопровержимыми фактами, у других – желание как-то не замечать их. «Даже при самой осторожной оценке сведений, исходящих /167/ из самых разных источников, – заявил один из участников собрания, – напрашиваются выводы об успехе индустриализации страны»32. В «своем кругу» говорили откровенно. Один из участников совещания заметил, что Россию нельзя уже называть страной аграрной, как это делалось в «платформе». Кроме общих фраз о «свободах», в ней ничего нет, она далека от «запросов трудовых слоев советского населения». Оказавшись в идейном тупике, «республиканско-демократическое объединение» уже не смогло из него выйти, прекратив вскоре свое существование. «Крестьянская Россия» тоже растеряла своих сторонников. Аргунов умер, а Маслов в преддверии войны постепенно стал изменять своим прежним установкам, все больше занимая, как свидетельствует Д. И. Мейснер, патриотическую позицию33. История политической деятельности «Крестьянской России» показывает, насколько непрочными, эфемерными были эмигрантские объединения и какой условной была граница между разными политическими течениями, «левыми» и правыми эмигрантскими группировками.
Судьба партии кадетов за рубежом имеет много общего с историей остатков соглашательских партий эсеров и меньшевиков. Как уже отмечалось, все они раскололись на разные группы и группировки. Про эсеров и меньшевиков говорили, что они еще в начале двадцатых годов превратились из партий в эмиграции в партии эмигрантов. Они жили, по словам английского историка Роберта Вильямса, в абсолютно нереальном, вымышленном мире, строя свою антибольшевистскую деятельность на каком-то иллюзорном фундаменте34.
Определенный интерес представляют «размышления об эсеровской эмиграции», которыми поделился в своем письме В. М. Чернову крупный деятель эсеровской партии В. В. Сухомлин. «Нет ни революционной партии, ни воли к борьбе»35, – писал он, характеризуя состояние дел у эсеров, их настроения в начале 30-х гг. Разбитые на мелкие группировки, эсеры осенью 1931 г. предприняли попытку собрать в Париже представителей разных эсеровских организаций: так называемого областного комитета, нью-йоркской, пражской и харбинской групп. Они подписали декларацию, но практически никакого объединения не получилось. Единый печатный орган создать не удалось.
Эсеры продолжали участвовать в разных изданиях, втянувшись «в пучину болезненных антагонизмов и внутренних конфликтов»36. Среди этих изданий особое место занимал общественно-политический и литературный журнал «Современные записки» (1920–1940), в котором сотрудничали не только эсеры, но и представители других эмигрантских группировок и направлений, многие писатели. Здесь печатались наряду с другими материалами и антисоветские статьи, работы мистического содержания, воспоминания «бывших людей». Публикация /168/ отдельных, действительно художественных произведений никак не меняла общую антисоветскую направленность журнала. Обещание редколлегии «Современных записок» создать орган «независимого и непредвзятого суждения» осталось только фразой, а сами эсеры, связанные с этим журналом, оказались группой разрозненной, разношерстной, людьми, по словам Сухомлина, «не то враждующими между собой, не то чем-то объединенными»37.
В 1932 г. закончил свое существование эсеровский журнал «Воля России», выходивший в Праге под редакцией В. И. Лебедева, М. Л. Слонима, Е. А. Сталинского и В. В. Сухомлина. По своему содержанию этот журнал напоминал «Современные записки»: под флагом защиты принципов так называемого демократического социализма – антисоветизм, попытки поддержать антибольшевистские элементы в Советской России, оказать влияние на общественное мнение Запада.
В том же году прекратился выход газеты А. Ф. Керенского «Дни», которая издавалась сначала в Берлине, а потом в Париже.
Нужно сказать, что в начале тридцатых годов многие эсеры, как, впрочем, и меньшевики, вынуждены были покинуть Германию. Наибольшая, может быть, активность эсеров наблюдалась в Праге, где они сотрудничали в Земгоре и пользовались поддержкой чехословацкого правительства. В Праге жил и бывший лидер партии В. М. Чернов, который издавал там журнал «Революционная Россия».
Возглавляемая Черновым Заграничная делегация эсеров вскоре распалась. Собственно говоря, никто из ее членов, не признающих единого руководства, не хотел ему подчиняться. Сохранился протокол беседы эсеров В. В. Сухомлина и С. П. Постникова с В. М. Черновым, которая проходила в Праге 4 февраля 1927 г. Они заставили Чернова признать (и зафиксировали это в специальном протоколе), что он не имеет чрезвычайных полномочий, дающих право выступать от имени партии и вести переговоры политического и финансового характера38.
Тем не менее Чернов пытался и дальше представлять себя лидером, не скупился на широковещательные заявления и обещания. В начале 1930 г. он отправился в турне по Америке, выступал там с лекциями, «предсказывая» скорое падение Советской власти. Нужно сказать, что Чернов был весьма опытным оратором. По воспоминаниям очевидцев, речь его лилась всегда плавно, без всяких записочек он мог цитировать наизусть целые страницы. Но и это не помогало, выступления против Советской России были слишком непопулярны. Американские коммунисты призывали бойкотировать лекции Чернова и митинги, на которых он выступал. В распространяемой ими листовке говорилось: «Успех строительства социализма в СССР, растущая экономическая мощь Советского Союза, все усиливающиеся симпатии к Советскому Союзу со стороны угнетенных /169/ империалистами народов колоний тревожат буржуазию…»39
Отвечая на вопросы корреспондента сан-францисской газеты «Новая заря», Чернов пытался создать впечатление, что партия эсеров оказывает еще какое-то влияние на крестьянские Массы в Советской России, а за границей имеет якобы организованную эмиграцию40. Как на пример деятельности эсеров в эмиграции Чернов указал на выпускаемый им в Праге журнал «Революционная Россия». Не прошло, однако, и года, как выпуск этого журнала прекратился (в 1931 г.). За рубежом в это время нельзя было уже говорить о наличии даже остатков партии эсеров, только отдельные частные лица – бывшие эсеры проявляли еще активность.
Так же как и эсеры, меньшевики в эмиграции не имели никакого притока новых членов. Даже в Берлине, наиболее крупном до начала тридцатых годов центре сосредоточения представителей этой партии, их было не более 100 человек. Среды, в которой меньшевики могли бы искать своих приверженцев, пишет Хаимсон, не существовало. Мелкие меньшевистские группы были в Женеве, Льеже, Париже, Берне, Нью-Йорке41. Ф. Дан, возглавивший после смерти Л. Мартова Заграничную делегацию меньшевиков и издаваемый ею «Социалистический вестник», пытался привлечь в состав делегации правых меньшевиков. Но внутренние конфликты, борьба между правыми и «левыми» среди меньшевиков продолжались. Хаимсон, который имел возможность исследовать ранее не публиковавшиеся протоколы Заграничной делегации и переписку меньшевистских лидеров, отмечает, что особенно глубокие разногласия между Даном и другими членами делегации наметились в начале тридцатых годов.
Меньшевики всегда выступали против теории построения социализма в одной стране, «пророчили» неизбежность возвращения Советской России на капиталистические рельсы. П. Гарви ожидал появления сильнейшей «частнохозяйственной реакции» населения. Другой правый меньшевик – Д. Далин – в который уже раз говорил об отсутствии возможностей для «окончательного преодоления частного капитализма», утверждал, что национализация промышленности построена на утопии, предрекал гибель колхозной кооперации в деревне, а в целом повторял старый меньшевистский тезис о буржуазном характере революции в России, о том, что за эти исторические пределы ей будто бы выйти не дано42.
И в начале тридцатых годов «Социалистический вестник» продолжал публикацию материалов, в которых развитие капиталистического хозяйства в России выдвигалось как важное условие для создания максимально благоприятных «объективных и субъективных предпосылок» вовлечения отсталой России в процесс социалистического преобразования общества, когда этот процесс назреет «в передовых промышленных странах, которые /170/ не могут не быть его исторической колыбелью»43. Именно так был поставлен вопрос в меморандуме Заграничной делегации РСДРП «О современном политическом положении в Советском Союзе», опубликованном в мае 1930 г. По этой надуманной схеме нужно было сначала реставрировать в стране капиталистические отношения, дождаться революции на Западе, а потом только двигаться дальше. Когда же стал очевидным успех пятилетки в СССР, то некоторые меньшевики за рубежом вынуждены были признать, что «задача индустриализации, поставленная большевиками, выполняется», производительные силы страны все растут44.
Слишком заметными были «новые экономические и политические факты», поэтому некоторые авторы писали о происшедших в стране громадных социальных перепластованиях, о пробуждении в миллионных массах новых интересов и настроений45. Но и те, кто выступал с такими признаниями, продолжали оставаться на капитулянтской позиции, утверждая, что построение социализма в СССР не может быть завершено внутренними силами. Однако действительность опрокидывала установки меньшевиков, показывала несостоятельность их прогнозов. И сами меньшевики-эмигранты все больше понимали, что жизнь их партии едва теплится.
Напомним в этой связи, что В. И. Ленин, оценивая роль меньшевиков и эсеров в борьбе против Советской власти, называл их иногда прямыми, в других случаях прикрытыми защитниками капитализма. Суть дела не менялась от того, что некоторые их представители выступали в защиту капитализма ««идейно», то есть бескорыстно или без прямой, личной корысти, из предрассудка, из трусости нового…» Умные капиталисты, писал В. И. Ленин, понимают, что ««идейная» позиция меньшевиков и эсеров служит им, их классу…»46 Этот ленинский анализ, характеристики деятельности меньшевиков и эсеров, сделанные В. И. Лениным в самый разгар гражданской войны, сохраняют свое значение и при оценке поведения последних представителей этих партий за рубежом. С годами в условиях эмиграции все более исчезала питательная почва для формирования политических группировок, наблюдался непрерывный процесс их «вымывания», дробления и вырождения.
* * *
В ходе изложения мы не раз уже отмечали то влияние, которое оказывали на настроения эмиграции, на тактику и поведение ее политических группировок изменения в международной обстановке. Надвигалась вторая мировая война, и во всей толще эмигрантской массы шло глубокое брожение. Весна за весной несли крушение иллюзий для тех, кто жил еще мечтой о военном походе против Советской России. «Надежды на интервенцию угасли, – писал в 1935 г. журнал «Современные записки», – но возродились надежды на мировую войну, которая в общем /171/ пожаре и крушении может принести и конец большевизму»47. Наиболее авантюристические круги белой эмиграции сделали свой выбор. Крайнюю позицию занимали главари РОВС, НТСНП, некоторых других группировок зарубежной контрреволюции, готовые служить и германским фашистам, и японским милитаристам. Однако значительную часть русских эмигрантов мучили сомнения. И чем реальнее становилась перспектива будущей войны, тем больше возникало вопросов. С кем идти? На чьей стороне сражаться? За большевиков или за врагов России?
Особую остроту полемике в эмиграции в предвоенные годы придавали разного рода «самостийники» – украинские националисты, небольшая группа «вольных казаков», белоэмигрантские сепаратисты – выходцы с Кавказа и из Средней Азии. Так же как и русские белоэмигрантские «активисты», они выступали против защиты СССР в будущей войне. Даже самые ничтожные сепаратистские эмигрантские группы сразу же находили себе поддержку влиятельных иностранных кругов. Поэтому и количество разных изданий, выпускаемых этими группами, никак не соответствовало их численности. Достаточно сказать, например, что небольшая группа петлюровцев в Париже в течение многих лет выпускала свой еженедельник «Тризуб», и так называемая гетманская управа при бывшем гетмане Скоропадском в Берлине тоже издавала журнал. Антисоветские издания украинских националистов печатались и распространялись в Праге, Чикаго, Львове и других городах. Общей чертой всех сепаратистов было отрицательное отношение к прошлому и настоящему России, желание развязывания войны против СССР, отказ от его обороны.
В те годы в эмигрантских кругах раздавались разные голоса. Широкую известность получили выступления генерала Деникина. Еще в 1928 г. были опубликованы его письма анонимному «красному командиру». «Я совершенно согласен с вами, – писал Деникин своему оппоненту, – что над Россией нависли грозовые тучи со всех сторон… Теперь уже открыто говорят о разделе России»48. Бывший главнокомандующий вооруженными силами Юга России, один из вождей «белого движения» очень шокировал многих своих соратников, когда заявил о поддержке Красной Армии, которая должна выступить на защиту родных очагов. Совершенно новым в тактике контрреволюции был его призыв использовать в дальнейшем эту армию для свержения «коммунистической власти». О решении такой «двойной задачи» в связи с растущей угрозой нападения на Советский Союз фашистской Германии мечтали не только Деникин, но и другие деятели эмиграции, например А. Ф. Керенский.
Генерал Деникин не раз выступал перед эмигрантской аудиторией, пытаясь строить свои прогнозы развития международных событий. По свидетельствам очевидцев, он умел и любил /172/ говорить, речи его не были сухими и лаконичными по форме. Л. Д. Любимов вспоминал такой факт. На одном из публичных докладов Деникин обрушился на тех, кто проповедовал, что стоит только гитлеровским дивизиям хлынуть через советскую границу, как Красная Армия обязательно побежит. «А может, не побежит! – патетически воскликнул Деникин. – Нет, не побежит. Храбро отстоит русскую землю, а затем повернет штыки против большевиков»49. Нужно сказать, что такого рода слова импонировали многим эмигрантам, настроенным враждебно к Советской власти, но в то же время страдающим от ностальгии, от чувства ущемления национального достоинства.
Обращаясь к национальным чувствам своих слушателей, Деникин называл Гитлера «злейшим врагом России и русского народа». В январе 1938 г., выступая в Париже, он рассуждал о политическом реализме, о значении реальных ценностей в политической борьбе. «Итак, долой сентименты! – заявил 65-летний генерал. – Борьба с коммунизмом. Но под этим прикрытием другими державами преследуются цели, мало общего имеющие с этой борьбой… Нет никаких оснований утверждать, что Гитлер отказался от своих видов на Восточную Европу, то есть на Россию»50.
Некоторые критики Деникина в эмигрантских кругах совершенно неправомерно сравнивали его позицию с действиями в годы гражданской войны генерала А. А. Брусилова. Брусилов был русским патриотом, который, приняв революцию, перешел в Красную Армию и служил Советской России не за страх, а за совесть. Деникин как был контрреволюционером, ярым врагом Советской власти, так им и остался. Но в то же время его выступления против угрозы со стороны Германии при всей их непоследовательности в тех условиях способствовали дальнейшему расколу эмиграции, усилению в ее рядах антигитлеровских настроений.
Более дальновидные деятели эмиграции понимали, что всякое намерение расколоть Советскую власть накануне войны (к чему, собственно говоря, стремился и Деникин) означало бы и расчленение страны. В этом отношении показательны некоторые выступления Милюкова. «Помочь свержению большевиков эмиграция может очень мало, – заявил он в одном из своих докладов на публичном собрании Республиканско-демократического объединения, – а способствовать расчленению России может очень много»51.
Как свидетельствует Д. И. Мейснер, Милюков, так же как некоторые евразийцы и представители других «пореволюционных» группировок, в том числе и младороссов, расходясь между собой по многим политическим и философским вопросам, считали в этот момент, что в случае войны никакой борьбы с Советской властью для эмиграции быть не может – эта власть будет защищать родину – и никакой двойной задачи желать Красной Армии нельзя52. При этом ни в коем случае не нужно /173/ забывать, что Милюков ни на йоту не отступал от своих идейных позиций буржуазного демократа. Более того, он надеялся и хотел еще верить, что «германская опасность» заставит саму Советскую власть отказаться или отойти от коммунистической идеологии.
На эту особенность позиции Милюкова обратил внимание норвежский историк Е. Нильсен. Он считает, что в условиях обострения международного положения в начале 30-х гг. и активизации фашизма налицо было появление у Милюкова «просоветской ориентации». Правда, Е. Нильсен оговаривается, что Милюков не принимая Советской власти, не считал ее даже «законной», но в то же время признавал положительное значение для национальных интересов России внешнеполитической деятельности Советского правительства53.
Нарастание, угрозы мировой войны побуждало многих эмигрантов, прежде всего из «низов», все больше тревожиться за судьбы родины и заставляло понимать, что в случае войны необходим отказ от борьбы с Советской властью, которая будет защищать отчизну. Эмигранты, убежденные в необходимости защиты СССР, организовали во Франции Союз возвращения на Родину, потом переименованный в Союз друзей Советской родины и Союз оборонцев. Последний имел свой печатный орган – «Голос отечества», его члены собирались на открытые собрания. Оборонческий комитет в 1936 г. образовался также в Праге.
В одной из листовок о задачах и целях оборонческого движения говорилось: «Внешняя опасность, грозящая России, не могла не вызвать оборонческого движения, ставящего своей целью посильное содействие защите родины в критический момент ее истории. Планы враждебных России держав к началу 1936 г. выяснились с совершенной очевидностью. В этих планах Россия рассматривается как объект колониальной политики, необходимый для наций, якобы более достойных и цивилизованных. Более или менее открыто говорится о разделе России. Врагами России поддерживаются всякие сепаратистские движения. И, во имя борьбы с существующим в России правительством, некоторые круги эмиграции открыто солидаризируются со всеми этими вражескими планами, надеясь ценой раздробления родины купить себе возможность возврата в нее и захвата в ней государственной власти… Вопрос совести каждого эмигранта: с кем он?»54
Накануне войны оборонческие настроения проникали во все слои эмиграции, захватывая и отдельных представителей эмигрантских «верхов». Л. Д. Любимов рассказывал о собраниях в Париже, получивших название «обеды параллельных столов», в которых принимали участие лица самых разных эмигрантских направлений и где общим был только интерес к судьбам родины. Не менее примечательной с этой точки зрения была /174/ деятельность масонской ложи «Гамаюн», которую в то время считали, по словам Любимова, просоветской. В движении оборонцев, так же как и среди тех, кто называл себя «возвращенцами», проявились по существу те же тенденции, которые имели место после окончания гражданской войны, когда, руководствуясь патриотическими чувствами, меняли «вехи» многие представители старой интеллигенции. Так же как и сменовеховство, оборонческое движение было неоднородным, сложным, противоречивым по своему составу. Здесь были люди, которые заявляли о своей готовности защищать Советскую власть без всяких оговорок, были и такие, кто заранее предупреждал, что только временно, пока отечество в опасности, откладывает свои «политические счета», намереваясь потом предъявить их снова.
Вот как говорил, например, об этих различиях на одном из собраний «возвращенец» Н. Н. Тверитинов: «Мы хотели бы рассматривать оборонческое движение как приближение эмиграции к современной советской действительности, как приближение к Советскому Союзу по пути патриотизма. Такой путь не заказан даже и некоторым монархистам, так как не все поголовно правые стремятся к военному разгрому СССР. В настоящих условиях Советский Союз – мощный оплот мира, поэтому все искренние либералы и социалисты должны были бы иметь еще большие основания защищать Советский Союз: и как патриоты, и как сторонники мира. В отличие от оборонцев-эмигрантов мы, стоящие на советской платформе, будем защищать не только границы России, но и завоевания Октябрьской революции». Активист Союза друзей Советской родины В. К. Цимбалюк на этом же собрании заявил: «Другой России, кроме коммунистической, сейчас нет. Нам в эмиграции делать нечего. Надо идти защищать русскую коммуну на русской земле, а все политические счета не хранить в кармане, а просто выбросить в мусорный ящик»55.
Союз возвращенцев возник и на другом конце планеты. В Шанхае его образовала небольшая группа молодых эмигрантов. Н. И. Ильина рассказала во второй части романа «Возвращение» о деятельности этого Союза, об опасностях и трудностях, выпавших на долю его организаторов. И хотя в книге Н. И. Ильиной живут и действуют литературные герои, их дела и судьбы отображают реальную действительность. По словам самой писательницы, в этой части книги нет ничего вымышленного. Все это было.
В конце 30-х гг. только в Париже, пишет Л. Д. Любимов, насчитывалось до 400 «возвращенцев», а во всей Франции – более тысячи. Во время гражданской войны в Испании многие «возвращенцы», главным образом из молодого поколения, сражались против фашизма в составе интернациональных бригад. Несколько сот русских эмигрантов (по некоторым данным – около тысячи человек) защищали Испанскую республику. Из /175/ приблизительно трехсот русских добровольцев, отправившихся в Испанию через партийную организацию Союза возвращения на Родину, сообщает Алексей Эйснер, свыше ста – убито56. Вся Барселона с воинскими почестями хоронила героически погибшего в бою полковника В. К. Глиноедского. Русский эмигрант, член Французской коммунистической партии, в республиканской армии он занимал высокий пост члена Военного совета, командующего артиллерией Арагонского фронта. Весьма примечательна судьба А. Эйснера, который в 1920 г. совсем еще мальчиком был вывезен отчимом за границу. В 1925 г. он окончил белогвардейский кадетский корпус в Югославии. Потом работал где придется. Наконец вступил в Союз возвращения на Родину. Поехал в Испанию. Был там сначала ординарцем, а потом адъютантом у легендарного генерала Лукача (Матэ Залки) – командира 12-й интернациональной бригады.
В своих воспоминаниях Эйснер называет имена некоторых товарищей по оружию в Испании – тоже эмигрантов. Среди них будущие герои Сопротивления – И. И. Троян, Г. В. Шибанов, Н. Н. Роллер, А. Иванов и др. Бывший поручик И. И. Остапченко приехал в Испанию из Эльзаса. Он командовал ротой в батальоне имени Домбровского и под Гвадалахарой был тяжело ранен в грудь. Известно, что капитаном республиканской армии стал сын Б. В. Савинкова – Лев Савинков.
Неожиданные, казалось бы, повороты в человеческих судьбах. Но в основе их лежали глубокие причины: социальные и психологические. С некоторыми эмигрантами – бойцами республиканской армии встретились в Испании советские командиры, находившиеся там в качестве советников. Маршал Советского Союза Р. Я. Малиновский писал об одном из них: «Долго буду помнить я тебя, капитан Кореневский, бывший петлюровец, эмигрировавший во Францию и оказавшийся все-таки по нашу сторону баррикад! Это был изумительно храбрый человек. Он самоотверженно дрался с фашистами». Кореневский погиб в боях под Леридой, будучи комендантом штаба 35-й дивизии генерала Вальтера.
Другой наш крупный военачальник – генерал армии П. И. Батов, также воевавший в Испании, вспоминал, что как-то в доме, где был расположен штаб 12-й интернациональной бригады, нашли радиолу, и, когда включили Москву, все услышали слова песни «Широка страна моя родная». У окон виллы П. И. Батов увидел десятки добровольцев. «Плечом к плечу стояли не только наши советские граждане, но и русские эмигранты, – писал он. – Все как зачарованные слушали песню, доносившуюся из далекой Советской страны. У многих на глазах были слезы…»57 Добровольцы, как правило, не скрывали, что, участвуя в боях против фашистов в Испании, они хотят заслужить себе прощение и право вернуться на родину.
О том, что такую цель ставили русские эмигранты, воевавшие в Испании на стороне республики, рассказывает и генерал-лейтенант /176/ А. Ветров58. Тогда он – майор Красной Армии – был заместителем командира интернационального танкового полка. Во время боев под Теруэлем А. Ветров попал в стрелковое подразделение интернациональной бригады, бойцы которого – русские эмигранты из Франции – раньше служили в царской и белой армиях. А теперь они, как члены парижского Союза возвращения на Родину, присоединились к антифашистской борьбе. Что заставило их, уже немолодых и много испытавших людей, взяться за оружие – спрашивает А. Ветров. И объясняет: они хотели в бою заслужить право называться советскими гражданами, мечтали возвратиться на землю предков…
Когда началась вторая мировая война, русские эмигранты были мобилизованы во французскую армию. Содружество резервистов французской армии позднее опубликовало списки русских по происхождению солдат, убитых на войне, среди которых были и посмертно награжденные французскими орденами59. Многих из трех тысяч мобилизованных русских, постигла участь большинства французских военнослужащих – они оказались в германских лагерях для военнопленных.
В годы войны эмиграции предстояло пройти через сложные испытания. Дальше мы покажем, какое влияние на ее судьбы оказали события этой поры. Исторические победы Красной Армии вызвали перелом в настроениях многих эмигрантов. Обратимся к фактам и попытаемся на основе изучения отдельных, часто отрывочных и разрозненных данных, которые удалось почерпнуть из разных источников, составить общую картину поведения эмиграции, тех или иных ее представителей в тот решающий период истории.