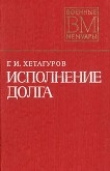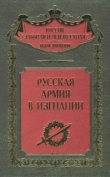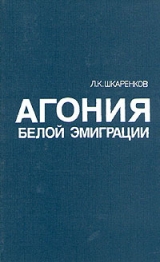
Текст книги "Агония белой эмиграции"
Автор книги: Леонид Шкаренков
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 21 страниц)
В условиях нарастающей военной опасности, уже начавшейся агрессии фашистской Германии в Европе и милитаристской Японии на Дальнем Востоке зарубежная контрреволюция, ее наиболее оголтелые группировки предпринимали последние попытки активизировать и объединить свои усилия.
3. Идейный крах, вырождение. Поиски пути
Ни одна более или менее серьезная попытка объединить силы белой эмиграции так и не увенчалась успехом. Зарубежная контрреволюция никогда не была однородной. В ней с самого начала давали о себе знать центробежные процессы. Из года в год распадались ее силы, не выдерживавшие столкновения с жизнью, крошилась и терпела крах антисоветская идеология. В эмигрантском лагере были представлены политические группировки и течения от крайних монархистов до меньшевиков и эсеров. На правом фланге, в монархических кругах, несмотря на все старания, за многие годы не произошло консолидации в какую-либо единую партию. Борьба явных и скрытых монархистов, «кирилловцев» и «николаевцев», грызня внутри Высшего монархического совета, ожесточенные споры вокруг вопроса о престолонаследии – все это носило на себе приметы распада и вырождения монархического движения.
Достаточно в этой связи напомнить историю с выдвижением в качестве претендентов на престол разных самозванцев – якобы оставшихся в живых членов семьи Романовых. Особую известность получило дело некой Анны Андерсон, объявившей себя младшей дочерью Николая II – Анастасией. В зарубежной, и прежде всего эмигрантской прессе, склонной к сенсациям, десятилетиями печатались разные домыслы на этот счет. Сообщали, например, что сын Боткина, личного врача Николая II, после встречи с «Анастасией» стал допускать возможность того, что это была чудом спасшаяся дочь царя. Однако появлялись и статьи, обвинявшие монархистов в специально разработанной афере. По мнению многих свидетелей, «претендентка на престол» находилась в состоянии умственного расстройства. Потом она вышла замуж за состоятельного американца и в течение многих лет истратила тысячи долларов на адвокатов, добиваясь документального признания ее права на несуществующий царский трон. По словам английских авторов А. Саммерса и Т. Мэнголда, преследовалась и такая весьма практическая цель – получить «состояние царя», которое он, по некоторым предположениям, оставил на счетах американских, английских и немецких банков1. /156/
Что касается великого князя Кирилла и его окружения, то они не принимали всерьез «Анастасию» и всячески старались ее дискредитировать. Кирилл до самой своей смерти проявлял активность, пытаясь, как «глава императорского дома», завербовать среди разных слоев эмиграции как можно больше своих сторонников. Главари РОВС долгое время не признавали его верховенства, генерал Кутепов требовал даже исключать из Союза тех его членов, которые будут считать Кирилла «императором». Не хотел подчиниться и генерал Миллер, когда Кирилл требовал допустить его представителей ко всем без исключения документам РОВС, обсуждать с ним предварительно все планы и предложения, ничего не предпринимать без его согласия в вопросах внешних сношений с иностранными правительствами. Миллер игнорировал эти требования. Тогда великий князь прекратил с ним переписку. Канцелярия «его императорского высочества» продолжала выпускать манифесты, обращения, печатала листовки с портретом «главы императорского дома» и изображением генеалогического древа.
Вопрос о царе вызвал разногласия на монархическом съезде в Париже осенью 1931 г. На этот съезд съехалось около 60 делегатов из Франции, Германии, Югославии, Америки и Китая. Н. Е. Марков, оказавший поддержку Кириллу, должен был покинуть съезд и выйти из состава Высшего монархического совета. Председателем ВМС вместо него был избран А. Н. Крупенский. Все это только лишний раз показывало, насколько далеки были эти люди от действительных проблем современности. И не менее примечательным тому свидетельством была деятельность Кирилла, который писал в одном из своих «манифестов»: «Заявляю еще раз, что ничто не сможет заставить меня изменить первоначально взятое мною направление… Я стою выше всех классов, партий и организаций»2. Он вошел в роль будущего «властителя всех русских» и старался играть ее, не обращая внимания на то, что не мог получить поддержки даже в монархических эмигрантских кругах.
Заявления о «надклассовости» и «надпартийности» не могли ни у кого создать иллюзий относительно действительного социально-политического содержания зарубежного эмигрантского монархизма. Раньше так же поступал Врангель, упорно повторявший, что армия вне политики. На самом деле такого рода утверждения сами были политикой и тактикой контрреволюции.
Кирилл не скупился на обещания и делал вид, что может предложить серьезные реформы для Советской России. Он умер в октябре 1938 г. во Франции, недалеко от Парижа. Но возня вокруг императорского трона продолжалась. Сын Кирилла – Владимир Кириллович Романов, который родился за границей и никогда не видел русской земли, по примеру отца объявил себя главой «российского императорского дома». Резиденция нового претендента на престол находилась в Сен-Бриаке (во /157/ Франции). Там пытались сохранять хоть какие-то атрибуты «царского двора». Некий капитан 1-го ранга Г. Граф числился начальником «правления по делам главы российского императорского дома». Он распространял среди эмиграции напечатанные на ротапринте или на машинке «информации» о приемах, которые устраивал этот «глава». Из них стало известно, что 16 декабря 1938 г. состоялась встреча Владимира с руководителями РОВС, которые вдруг «переменили фронт» и открыто заговорили о своих монархических чувствах. Однако попытки вдохнуть новую жизнь в монархическое движение, обновить его оказались тщетными. Об этом говорит и история близкого к кирилловцам Союза младороссов, который получил наибольшее развитие в середине 30-х гг.
Первый съезд младороссов состоялся в Мюнхене еще в 1923 г. Объявив целью движения «русскую национальную революцию», вернее, стремление «повернуть революцию на национальный путь», младороссы пытались в своих построениях сочетать несочетаемое – советский и монархический строй. Они утверждали, что будто бы стремятся к победе «национальной, реальности над классовой мистикой», и выдвинули лозунг «царь и советы», в котором хотели видеть соединение национальной традиции России, какой был якобы легитимизм, с признанием результатов революции. Советский исследователь В. В. Комин показал, что, будучи воинствующими монархистами и примыкая к кирилловцам, младороссы в то же время заимствовали ряд своих положений из идейного арсенала фашизма, прежде всего итальянского3. Оттуда были взяты и некоторые внешние приемы. Когда, например, глава Союза младороссов А. Л. Казем-Бек выступал на собраниях этой организации, то по обе стороны трибуны выстраивались юноши в синих рубашках.
С самого начала младороссам были присущи излишняя самоуверенность, «некий наивный апломб», как выразился один их критик из эмигрантского лагеря. Потеряв чувство реальности, младороссы претендовали на роль «второй советской партии», или, как писал Казем-Бек, стремились «создать монархическую партию для советской среды»4. Претенциозными и насквозь лживыми выглядели заявления младороссов о том, что они руководствуются какими-то «высшими» принципами и способны стать выше мелких личных и групповых интересов. Это было политическим пустословием, за которым обнаруживались признаки вырождения монархической идеи.
Союз младороссов продолжал общую для эмигрантских организаций самых разных толков и направлений тенденцию. Его руководители выступили в газете «Возрождение» (23 августа 1930 г.) с проповедью создания «общего фронта в борьбе с большевизмом». Но как всегда, так и на этот раз вместо единства действий возник новый раскол, проявились новые разногласия. /158/
Младороссы обвиняли РОВС в том, что он теряет свой «военный облик», постепенно поглощается общей массой эмиграции, резко критиковали Высший монархический совет, отказываясь от работы вместе с ним5, внутри самого Союза младороссов нашлась небольшая группа лиц, выступивших против вожаков Союза, деятельность которых, но их словам, была направлена «на разложение патриотических русских организаций в эмиграции». Они объявили даже, что создают в Софии Союз истинных младороссов – неомладороссов6.
В движении младороссов в какой-то мере получило отражение недовольство эмигрантской молодежи своими «отцами». В эмигрантской печати писали о споре «отцов и детей». Те, кто покинул родину почти детьми и которым теперь было уже тридцать – сорок, чувствовали себя потерянным поколением. Разочаровавшись в «отцах», некоторые из них обратились к религии, искали объяснение революции и связанных с ней событий в теории евразийства, в своеобразии русской культуры, другие рвались к немедленному действию и пополняли ряды разного рода фашистских, экстремистских организаций и группировок.
Евразийство – одно из наиболее известных религиозно-политических течений эмиграции, получившее распространение в среде эмигрантской интеллигенции, – в 30-е гг. утратило свое влияние и распалось. Объявив решающим фактором исторической) процесса особый географический мир – так называемое месторазвитие, евразийцы выдвинули ряд сомнительных, не выдерживающих научной критики тезисов. Некоторых из них мы уже касались. Религиозно-мистические взгляды евразийцев, нашедшие отражение в их первом сборнике – «Исход к Востоку» (1921), получили дальнейшую интерпретацию в литературе 20-х гг., в «Евразийском временнике» и «Евразийской хронике», которые издавались в Берлине, Париже и Праге.
Идеологи евразийства продолжали писать о православной вере, занимались богоискательством, утверждали, что «перст божий», «провидение» руководят историей всякого народа. В религиозной философии, в историософии евразийства они якобы нашли ключ к загадкам России, получили возможность осмыслить русскую историю и уяснить смысл революции. Их называли продолжателями идей Н. Я. Данилевского и К. Н. Леонтьева, наследниками той реакционной традиции, которая доводила до абсурда национальные особенности России, (влияние на исторический процесс ее географического положения. Можно согласиться с В. В. Коминым, который считает евразийство выражением противоречий, смятения и отчаяния части мелкобуржуазной эмигрантской интеллигенции, тщетно пытавшейся отыскать компромисс между Октябрьской революцией и прежними устоями царской России7. На «синтетический» характер евразийской идеологии указывает также И. А. Исаев. Он видит это в попытках, которые предпринимали евразийцы для того, /159/ чтобы примирить действительное и желаемое, факт революции и надежду на реставрацию, историческое прошлое России и ее настоящее8.
Концепция евразийства, видимо, отражала также своеобразный эмигрантский «комплекс» – желание доказать, что Россия выше Европы и имеет особое, великое мессианское призвание. Евразийские теоретики предпринимали попытки разработать и свою политическую доктрину. Н. С. Трубецкой выдвинул понятие идеократии – правления своего рода элиты, нового правящего слоя, руководство которым должно принадлежать евразийской партии. Другой евразийский автор – Н. Н. Алексеев – писал о необходимости использовать в будущей России систему преобразованных советов. Это был старый обанкротившийся лозунг «Советы без коммунистов». И в то же время некоторые евразийцы проявляли явно сочувственное отношение к отдельным мероприятиям Советской власти. Путаница, мешанина, противоречивое переплетение в евразийстве реакционных, утопических и реалистических тенденций быстро привели его к расколу, распадению на разные группировки. Небольшая часть евразийцев перешла на сменовеховские позиции и в тридцатых годах вернулась на родину.
На страницах эмигрантских изданий в те годы получило отражение характерное для определенных кругов эмигрантской интеллигенции стремление найти какое-то новое объяснение действительности. Вслед за евразийскими появляется ряд других религиозно-мистических изданий. Под редакцией бывшего эсера И. И. Бунакова-Фондаминского, Ф. А. Степуна и Г. П. Федотова в Париже начал выходить журнал «Новый град» (1931–1940), там же выпускается журнал «Утверждения» (1931) – орган объединенных пореволюционных течений. В редакционной статье, опубликованной в первой книге «Нового града», говорилось: «В старом городе становится невозможно жить, полуразрушенный катастрофой войны, он живет в предчувствии, быть может, последнего для него удара. Весь мир потрясается кризисами, знаменующими упадок современного строя… Перспективы новой мировой войны уже затягивают горизонт кровавыми зорями»9. Журнал призывал из старых камней, но по новым «зодческим планам» строить «новый град», где будет господствовать «возрожденное и обновленное христианство».
Известный философ-мистик Н. А. Бердяев, разрабатывая систему «нового христианства», писал б том, что «русская идея» есть идея религиозного спасения. Один из авторов печально знаменитого сборника «Вехи», он в эмиграции опубликовал целую серию своих работ, в центре которых были все те же вопросы религиозного сознания, субъективно-идеалистическая трактовка проблемы личности и свободы. С точки зрения Бердяева, в субъекте как бы растворяется весь объективный мир. Тем самым вообще «снимается» вопрос об истине как отражении /160/ объекта субъектом, об истинности как соответствии наших понятий чему-то внешнему. Поиски «встречи с богом» внутри себя, по Бердяеву, и есть истина в ее высшей инстанции.
Не вдаваясь в более или менее подробный разбор постулатов бердяевского идеализма, укажем только на некоторые его особенности, отмеченные в свое время Ю. Ф. Карякиным. Утопия «земного рая» неосуществима, заявлял Бердяев, теория позитивного прогресса бессмысленна. Остается одно: веровать в Апокалипсис, ждать «конца истории», за которым все муки человечества разрешаются в «перспективе вечности». Обещания «нового христианства», способного освободить человеческую личность, были на самом деле наполнены пессимизмом и антигуманизмом10.
Но вот что интересно. В журнале «Утверждения» наряду с «мистическим туманом» рассуждений о христианстве, которое проходит через «очистительный огонь», можно было встретить и далекие от мистицизма реалистические оценки положения дел в Советской стране. «В настоящее время мы присутствуем при огромном росте производства и укреплении хозяйственной мощи Советов, – говорилось в одной из статей, опубликованных в августе 1931 г. – Если три года назад «пятилетка» вызывала лишь смех и издевательства эмигрантских и буржуазных экономистов, то теперь даже последний бюллетень эмигрантских промышленников прямо говорит о возможности ее осуществления в ряде областей. Налицо и факты: добыча нефти и чугуна дает все основания предполагать, что в текущем году по этим отраслям пятилетка будет уже выполнена. Не пора ли отказаться от взгляда на большевиков как на разорителей народного хозяйства?»11
Автор статьи считал, что укрепление хозяйственной мощи России равносильно увеличению ее военной мощи. Далее он отметил решение такой важной социальной проблемы, как ликвидация безработицы: «Огромный и ненасытный спрос на труд для пятилетки фактически уничтожил безработицу». Наконец, аграрный вопрос. И здесь автор стоит на позиции признания необратимости тех процессов, которые были вызваны в сельском хозяйстве революцией. «Все межи и чересполосицы стерты. Хутора ликвидированы. Постепенно колхозы и совхозы приобретают характер крупных ферм с общими большими конюшнями, амбарами и прочими постройками… С каждым годом близится время, когда эмигрантам придется отказаться от ставки на крестьян-собственников и рассматривать как крестьян, так и рабочих как единый слой пролетариев»12.
Положа руку на сердце автор предлагал признаться друг другу (не в печати, конечно, замечает он, а между собой), что успехи пятилетки их радуют. И опять хочется процитировать слишком уж многозначительные эти признания: «Как эмигранты в эпоху Наполеона не могли скрыть гордости при вести о победах /161/ французов при Иене, Аустерлице и Ваграме, так мы радуемся при известии о строительных победах. Днепрострой, Сельмашстрой, Турксиб – разве не равны многим военным победам Наполеона? А вся пятилетка ведь безусловно многозначительнее для России, чем все войны Наполеона для Франции»13. Но при всем этом автор подчеркивал, что он продолжает отрицать идеологию большевиков и выступает против всякого сменовеховства. Более того, как бы отдавая дань провозглашенным в журнале принципам так называемой «пореволюционной идеологии», автор статьи, написанной в общем-то языком фактов, вдруг переходит к какому-то бормотанию о вечности «слова божия».
* * *
Чем дальше продвигался Советский Союз по пути социалистического строительства, тем меньше оставалось у эмиграции надежд на реставрацию капитализма. Известно, что с этими надеждами была связана так называемая новая тактика контрреволюции, которую наиболее четко сформулировал еще в 1920 г. лидер партии кадетов П. Н. Милюков. «Я и мои единомышленники, – писал он потом, – перенесли свои надежды на развитие внутренних процессов в самой России…»14
Возглавляемое Милюковым Республиканско-демократическое объединение (РДО) занимало «среднюю линию». Отрицая всякого рода «примирение» с Советской властью и настаивая на борьбе с ней, РДО выступало в то же время против старой «белой идеологии» и тех эмигрантских организаций, которые ставили своей целью восстановление монархии в России. Газета «Последние новости» (1920–1940), главным редактором которой был Милюков, наряду с публикацией антисоветских материалов постоянно вела ожесточенную полемику с представителями правых кругов эмиграции. В середине двадцатых годов Милюков верил еще в свою «новую тактику», некоторые его заявления на эту тему прямо-таки напоминали приказ военачальника: «Мы переходим от сидения в окопах к маневренной войне, нам надо окружить противника и его изолировать»15.
Со своих буржуазных позиций ему хотелось бы увидеть положительный смысл в происходящих внутри России процессах. РДО призывало к внимательному изучению этих процессов со всеми произведенными ими изменениями – социальными, бытовыми, психологическими. Отмечая, что с 1922 г. в Советской России начался бесспорный экономический подъем, Милюков пытался использовать этот факт для развития обоснования «новой тактики». Дальнейшие тактические расчеты, заявлял он, должны исходить из факта разложения большевизма «внутренними силами»16. Он все еще надеялся на «эволюцию» советской системы и искал подтверждение своим прогнозам в выступлениях троцкистской и правой оппозиции в ВКП(б).
Изменения, происходящие в СССР на базе нэпа, способствовали /162/ укреплению хозяйственной смычки между городом и деревней. Экономический союз пролетариата и крестьянства вырывал почву из-под ног мелкобуржуазной контрреволюции. С другой стороны, переход к нэпу, как уже отмечалось, на первых порах по крайней мере вызывал в определенных кругах белой эмиграция надежду на капитуляцию Коммунистической партии, на возможность политических уступок с ее стороны.
Вернемся ненадолго к началу нэпа и возьмем в качестве примера одно из выступлений П. А. Сорокина – бывшего эсера, профессора социологии, высланного из Советской России за контрреволюционную деятельность. Выступая в Берлине в октябре 1922 г. на собрании Союза русских журналистов и литераторов, он сказал, что с введением нэпа российская деревня стала оживать, появился стимул к труду. Он отметил и такие явления, как рост деревенской буржуазии, появление и в городе новой буржуазии, занимающейся, по его словам, спекуляцией и мошенничеством. Из всего этого Сорокин делал следующий вывод: если в России будет «мир и сытость», то власти придется уступить. Он уверенно заявил тогда, что будущее будет принадлежать той партии, которая наиболее полно отразит интересы крестьянина, кулака и середняка. Сорокин рассчитывал вернуться в Россию годика через четыре17, примерно к 1927 г., когда, по его мнению, в стране якобы произойдут уже политические изменения. Питирим Сорокин, пользующийся на Западе репутацией ученого-социолога, попал явно впросак, берясь прогнозировать тенденции социально-экономического развития советского общества, как, впрочем, попадал он не раз и в последующие годы.
И сам Милюков, по его собственному признанию, за период с 1922 по 1926 г. уточнял пять раз свой тезис «об эволюции советской системы». Вокруг этого вопроса возникла перепалка между разными эмигрантскими деятелями. Е. Д. Кускова, например, участвовавшая в создании РДО, выступила с прямой критикой избранной Милюковым тактики, указывая, что Советская власть признана населением и никакого политического «термидора» в России не происходит18. Несколько в другом плане вел полемику С. П. Мельгунов – буржуазный историк, выступавший против любых приемов «новой тактики» и только за вооруженные методы борьбы с Советской властью.
В правых, черносотенных кругах эмиграции Милюкова считали чуть ли не главным виновником многих бед России. Объявленная им «новая тактика», критика белого командования и Врангеля вызвали еще большее ожесточение среди белогвардейского офицерства. В одном письме Милюкову, подписанном «Здравомыслящий чин армии генерала Врангеля Петров», говорилось: «Настоящим прошу вас прекратить делать выпады против армии ген. Врангеля, так как вы в свое время имели возможность строить Россию как вам хотелось, не сумели – не на кого пенять… В противном случае вам может стоить жизни. /163/ Находясь здесь, во Франции, имею своих сторонников в этом отношении, а деньги для этого дела всегда найдутся»19.
Взаимная ненависть представителей разных группировок выливалась в открытые потасовки на эмигрантских собраниях. В Милюкова стреляли монархисты-белогвардейцы во время одного его выступления в берлинской филармонии. Только случай спас ему жизнь. Был убит другой лидер кадетской партии – правый кадет В. Д. Набоков.
Нужно сказать, что одним из аспектов «новой тактики» было стремление установить контакты с контрреволюционными элементами внутри Советской России, использовать в этих целях нелегальные и легальные возможности. Республиканско-демократическое объединение пыталось найти в нашей стране какие-нибудь «организации», разделяющие его платформу. Милюков открыто призывал к координации усилий с «внутренними силами». Никаких результатов в этом деле милюковцам добиться не удалось, хотя известны отдельные попытки, сделанные в этом направлении. Д. И. Мейснер рассказывает о неудаче, постигшей одного из эмиссаров Милюкова, который должен был в СССР устанавливать связи и искать точки опоры. Во второй половине двадцатых годов, судя по переписке руководителей организации «Крестьянская Россия» с Милюковым, ими засылались на советскую территорию литература РДО и газета «Последние новости». От случая к случаю эту акцию пытались осуществлять через Харбин20.
Милюков и его сторонники из республиканско-демократического лагеря – кадеты и бывшие эсеры, – как уже было показано, вели борьбу против международного признания Советской республики. Мы рассказывали о поездке Милюкова и Авксентьева в 1921 г. в Америку, где они пытались воздействовать на «общественное мнение», чтобы задержать развитие американо-советских экономических отношений. Позже Милюков выступил против тех эмигрантских деятелей, которые утверждали, что после признания капиталистическими державами Советская власть ускорит и усилит якобы сделанные ею «уступки капитализму». Может случиться и обратное, писал Милюков, что Советская власть после признания легче сладит со своей оппозицией и использует его для собственного укрепления. «Уже и теперь (речь шла о 1924 г. – Л. Ш.), заметив опасность уступок капитализму, Советская власть объявила войну частному капиталу Ее опорой продолжает оставаться национализация всей крупной индустрии и монополия внешней торговли»21. Последующее развитие событий показало, что Милюков проявил здесь определенную проницательность. И за рубежом, и внутри страны никто не мог помешать тем объективным процессам, которые привели к окончательному решению в экономике СССР вопроса «кто – кого».
Весной 1928 г. новые нотки прозвучали в выступлениях такого идеолога правых кругов эмиграции, как П. Б. Струве. Анализируя /164/ сложившуюся к тому времени международную обстановку, он констатировал, что Советская Россия страшна западным государствам прежде всего как коммунистический очаг. По его словам, внутренние условия капиталистических стран (успехи рабочего и коммунистического движения) диктовали буржуазным правительствам необходимость проведения осторожных, скрытых действий. Учитывая эти политические реальности, Струве призывал западные державы к осуществлению «экономической интервенции» против Советского Союза. «Никаких кредитов, никаких длительных связей – вот формула этой негативной, или отрицательной, интервенции…»22 Подобную линию поведения Струве рекомендовал всем западным капиталистическим государствам. Он хотел еще верить в «экономическую капитуляцию и политическое крушение» Советской страны.
Через месяц после этого заявления Струве Милюков снова был в Америке. Во время одного публичного выступления его спросили: «Когда приблизительно можно ждать падения Советской власти?» Он отшутился: «Пусть кто-нибудь из зала ответит мне на этот вопрос». И на многие другие вопросы, как было отмечено, он отвечал скороговоркой, очень невразумительно, без былого апломба. «Быть может, – сказал Милюков неуверенно, – Советская власть переродится сама…»23 Прошло еще несколько лет, и в эмигрантском журнале «Современные записки» можно было прочитать, что «цветы капитализма» в России давно облетели и огни его догорали24. А газета «Возрождение», не без злорадства по адресу Милюкова, констатировала тот факт, что среди европейских политиков уже окончательно выброшена за борт теория эволюции Советской власти, от которой даже «Последние новости» отреклись на пороге 1930 г.25
Насквозь буржуазная, говорил о кадетской партии В. И. Ленин, эта партия не была в то же время прочно связана с каким-либо одним классом российского общества. Он обращал внимание на крайнюю неопределенность и непоследовательность кадетской программы. В свою очередь и российская буржуазия отличалась неоднородностью своего состава: узкий слой «зрелых и перезрелых капиталистов» и очень широкий слой «мелких и частью средних хозяев». Отсюда и непрекращающаяся борьба на политической арене дореволюционной России двух буржуазных тенденций – либеральной (или либерально-монархической) и демократической26. Эти тенденции давали о себе знать и в эмиграции, в деятельности заграничных организаций русской буржуазии. В условиях эмиграции стали действовать и другие факторы, которые способствовали развитию центробежных процессов, вызывали образование новых политических комбинаций и направлений.
Республиканско-демократическое объединение, о котором шла речь, не было похоже на обычную политическую партию. /165/ Оно было задумано как объединение организаций и не имело четко разработанной структуры. Одной из организаций, входивших в РДО, была «Крестьянская Россия», которую возглавляли бывшие эсеры А. А. Аргунов и С. С. Маслов. По существу она пользовалась полной самостоятельностью. В декабре 1927 г. в Праге состоялся съезд «Крестьянской России», на котором 18 делегатов, приехавших из разных стран, объявили о том, что их организация теперь будет называться «Крестьянская Россия – трудовая крестьянская партия»27. Новое название не внесло, однако, никаких изменений в антисоветскую, контрреволюционную направленность деятельности небольшой группы эмигрантов, претендовавших на представительство интересов трудового крестьянства. Надеясь на развитие в России крестьянского «политического движения», новая партия обещала оказать ему содействие. Неизвестно сколько и куда конкретно, но руководители «Крестьянской России» засылали своих агентов на советскую территорию.
Внутри организации скоро возникли разногласия по тактическим вопросам. Появилось сообщение о выходе из нее ряда членов. Потом, в начале 1931 г., произошло объединение представителей «Крестьянской Россию с правыми кадетами из редакции газеты «Руль» (И. В. Гессен, А. И. Каминка, А. А. Кизеветтер, Г. А. Ландау)28. На страницах этой газеты, которая считала себя независимой от каких-либо партийно-политических организаций, продолжали еще открыто звать к борьбе против Советской власти.
Незадолго до этого, в ноябре 1930 г., редакция «Руля» отмечала десятилетие своей газеты. Тогда в Берлин в адрес редакции поступали приветствия из разных стран: от бывших кадетских деятелей, от редакций эмигрантских газет, от разных союзов и обществ. ЦК «Крестьянской России – трудовой крестьянской партии» выражал уверенность, что «Руль» сохранит свое место и в дальнейшем. А комитет Торгпрома из Парижа не менее «твердо» заявлял, что скоро «свободное слово «Руля» зазвучит на родной земле». В одном из писем автор мечтал о перенесении редакции в Москву, в другом назывался более точный адрес – Петербург, Невский проспект. За что же ценили в то время «Руль» в лагере контрреволюции за рубежом? Ответ на этот вопрос мы находим в тех же «юбилейных поздравлениях». «Рулю» ставили в заслугу прежде всего «последовательную антикоммунистическую деятельность». «Политика, когда нет войны, – писал А. С. Изгоев, бывший член ЦК кадетской партии, редактору «Руля» И. В. Гессену, – на девять десятых делается газетами, и поэтому одно существование «Руля» уже само по себе есть жизненное политическое дело»29. Но, несмотря на все эти прогнозы и пожелания, ровно через год издание «Руля» прекратилось. Судя по всему, резко уменьшилось число читателей газеты, и расходы не окупались. «Лучшего подарка мы не могли бы сделать большевикам, как прекратить наши зарубежные /166/ газеты», – писал корреспондент «Руля» из Лондона 17 октября 1931 г.
Наряду с РДО в ряде европейских городов – Париже, Берлине, Белграде, Софии – продолжали свою заседательскую «работу» (вели протоколы, принимали какие-то решения) небольшие, с каждым годом теряющие своих членов группы кадетской партии. Не раз возникал вопрос о целесообразности самого сохранения за границей каких-либо организаций кадетов. Об этом кадетские деятеля спорили между собой с самого начала своего пребывания в эмиграции.
Вот одна из архивных находок – протокол частного совещания «членов партии народной свободы», состоявшегося 14 декабря 1922 г. в Берлине30. На четырех помятых страницах, исписанных химическим карандашом мелким, убористым почерком, излагается суть дебатов. Группа кадетов (И. Н. Альтшулер, А. С. Изгоев, А. И. Каминка, А. А. Кизеветтер, М. М. Липман, В. А. Оболенский и др.) под председательством И. В. Гессена пытались выяснить, стоит или не стоит объявлять о том, что партия как «политическая организация перестала существовать». Никакого заявления из тактических соображений решили не делать, но признали, что партия, вернее, ее остатки, разбита на несколько групп и течений, которые едва ли можно склеить. Выступая на совещании, А. А. Кизеветтер выразил тогда надежду, что «для кадетски мыслящих людей скоро откроется широкое поприще…».