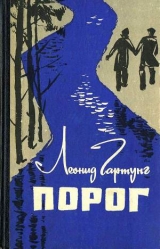
Текст книги "Порог"
Автор книги: Леонид Гартунг
Жанр:
Разное
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 10 страниц)
– Закалела небось?
– Нисколько.
Он проводит жестким пальцем по Тониной руке выше локтя.
– А кожа-то вон в мурашах.
– Это от ветра.
– Скажешь тоже…
– Ты коня ищешь?
– Чалого, язви его. Не видела?
– Нет, не видела.
– Он конь добрый, а хуже порченого. Чуть упустил – он прямиком через бор и в леспромхоз. Он оттуда купленный. К своему месту его тянет. А на том месте теперь пусто, никого нет. Я объяснял ему, он ни в какую.
– Ты что же, с лошадьми разговариваешь? И они тебя понимают?
– А как же? Не каждая, конечно. Которых сам вырастил – те понимают. Не все, ясное дело, а свое доступное. А Чалый – он дурной…
– Нет, не видела. Ну, что ж, иди ищи.
Тоня уходит домой. Парень – в лес. Тоня идет и улыбается. Смешная встреча. И даже некому о ней рассказать.
А вдруг, пока она купалась, приехал Борис? Тоня ускоряет шаг. Вот их дом, крыльцо. Скорее. Дверь. Кухня.
– Борис?
Никто не откликается.
9
В Тонином восьмом классное собрание. В распахнутые окна льется свежий воздух, он напитан запахом обмытой дождем хвои и вянущих трав. В комнате еле уловимый шорох – это дождевые капли скатываются по листьям берез. На учительском столе букет цветов в стеклянной литровой банке. Несколько лепестков упали на раскрытый классный журнал.
Ведет собрание Сеня Зяблов. Ребята выбрали его председателем, должно быть, из озорства. Он не соглашался, отнекивался, но демократия есть демократия. Пришлось подчиниться. Собрание он вести не умеет. Страшно смущается и все время смотрит на Тоню. А она, словно не понимает его умоляющих взглядов, сидит, как ни в чем не бывало, за последней партой.
Сеня покоряется своей участи, вздыхает.
– Вопрос один: надо выбрать старосту.
Девчата кричат:
– Мамылина!
Мальчишки протестуют:
– Хватит! Надоел!
– Тихоня!
Мамылин спокоен. Словно не о нем речь. У него упрямый большой подбородок и маленькие странно взрослые глаза.
– Не обязательно одну кандидатуру, – напоминает Тоня.
– Копейку! – предлагает кто-то.
Сеня пишет на доске: «Мамылин» и ниже «Копейка». И снова выкрики:
– Двушку.
– Трешку!
В классе хохот, шум. В двери заглядывает Хмелев.
– У вас что? Вече?
– Старосту выбираем, – объясняет Тоня.
– Ну, ну, – кивает он. – Только в окна никого не выбрасывайте.
Опять хохот.
– А кто же Копейка? – спрашивает Тоня. – У нас в классе такой фамилии нет.
Зарепкин кричит с места:
– Это Надийка Тухватуллина. Да кто ее слушать будет?
Надия поворачивает к нему раскрасневшееся лицо.
– Попробуй, не послушай!
– А что ты мне, например, сделаешь?
Надия поднимает сжатый кулачок.
– Бить буду.
Класс хохочет, но голосует за нее почти единогласно.
– И еще вопрос, – говорит Тоня. – Надо придумать название для нашей сатирической стенгазеты. Будем выпускать?
– Будем.
– Еж!
– Перец!
– Звонок…
Генка предлагает:
– Бормашина.
– А что это такое? – спрашивает Миша Копылов.
– А это штука, которой зубы сверлят. Больные…
– Бр!
– Пусть «Бормашина»!..
Собрание закончено. Сеня облегченно вздыхает и вытирает рукавом вспотевший лоб.
Из открытого окна доносится плеск дождя. Монотонный, усыпляющий. Домой идти Тоне не хочется. Дома пусто.
10
Дверь неслышно открывается, и, скрипя новыми ботинками, в учительскую входит инспектор РОНО Евский. Тоня его немного знает. Раза два он заходил в ту школу, где она прежде работала. Он уже тогда не понравился ей. Она старалась не попадаться ему на глаза и молила судьбу, чтобы он не пошел на ее урок. Затем она видела его на учительских конференциях.
С прошлого года Евский нисколько не изменился. По-прежнему весь коричневый – и костюм, и лицо в резких морщинах, и сухие руки с длинными пальцами. Евский невнятно здоровается:
– Р… ас… сс… те.
Тоня неожиданно встает по студенческой привычке.
– Здравствуйте.
Зарепкина оборачивается радостно:
– Викентий Борисович! Давненько ж вы к нам не заглядывали. Как здоровье?
– Здоровье?..
Евский хмурится. Ему не хочется говорить о здоровье. Он идет к окну, недовольно закрывает створки и углубляется в расписание. Нос у него тонкий, с бороздкой на конце, и, когда Евский читает, ноздри шевелятся, словно он принюхивается. Затем что-то пишет в записной книжке. Поворачивается к Тоне.
– Вы что ведете?
– Математику.
– Разрешите ваши планы.
Тоня протягивает тетрадку. Он перелистывает ее, поправляет неясно написанную запятую. Ручка у него заправлена красными чернилами.
– Планы следует писать подробнее. Необходимо записывать, кого вы намерены спросить, – говорит он наставительно и брезгливо скребет длинным желтым ногтем пятнышко на рукаве. – Вместе со мною на катере приехала мебель директора. Он просил, чтобы до его приезда она побыла на пристани.
– Вот, кстати, и жена его, – говорит Зарепкина.
Евский смотрит на Тоню, что-то припоминая.
– Обождите, обождите… Мы с вами должны быть знакомы. Да. Ну, конечно, – Ефросинья Петровна.
Тоня вежливо поправляет его.
– Антонина Петровна.
– Прошу прощения. Антонина Петровна… Сына устроили в детский сад?
– У нас нет сына, – говорит Тоня.
Евский хмурится.
– Позвольте. Почему нет?
– Странный вопрос! – Тоня чувствует, что краснеет. – Вы принимаете меня за другую. Сына у нас нет.
Евский подозрительно настораживается.
– Непонятно, как это нет. Был. Совершенно ясно помню. Вы ведь жили в Клюквинке?
Клюквинка? Клюквинка… Что-то знакомое. Кажется, Борис говорил, что когда-то там работал. Тоня пожимает плечами.
– Нет, я не жила. Вы что-то путаете.
– Позвольте, позвольте… – Евский человек дотошный, он терпеть не может, когда его пытаются ввести в заблуждение. – Позвольте… Я никогда ничего не путал. Во-первых, у меня память еще слава богу, а во-вторых, записная книжка. Минуточку терпения. А, Б, В… О, П, Р. Вот – Речкунов. Борис Иванович. Так ведь? Он самый. Рождения тридцать пятого года. Образование высшее. Физик и математик. Семья: жена – Ефросинья Петровна. Образование – 6 классов. Сын трех лет… – Он высоко подымает брови. Глядит на Тоню. Затем опять в записную книжку. На лице его недоумение. – Образование – 6 классов… М…да! Прошу прощения. Борис Иванович не поставил меня в известность…
Кончается урок. Приходят из классов учителя.
– Викентий Борисович, здравствуйте. Как здоровье?
– Кто был в седьмом? Где журнал?
– Товарищи, у кого есть хороший мел?
– Не забудьте заплатить профсоюзные взносы.
– Лара, а я вас видела вчера. Вы шли из клуба…
– Т… с… с!
– Викентий Борисович, вы к нам надолго?..
Опять учительская пустеет. Зарепкина перед тем, как уйти на урок, наливает стакан воды, протягивает Тоне.
– Выпейте. На вас лица нет.
Тоня отстраняет стакан и спрашивает Евского.
– Вы ко мне пойдете?
Евский не смотрит ей в глаза.
– В другой раз.
Он уходит с Зарепкиной.
11
Сегодня на беду воскресенье и в школу идти не надо. Ходила на почту. Хотела позвонить в ОблОНО и найти Бориса, но потом раздумала: ведь и там выходной.
Я дома. Одна. Лежу на раскладушке, курю и думаю. Кто я такая? Об этом никого не спросишь. Это надо понять самой. Должно быть, никакая я не учительница, а просто-напросто девчонка, которую обманули.
Когда мне было четырнадцать, двадцать четыре представлялись чем-то вроде старости. Значит, я сейчас старая? Нет, конечно, я еще не старая. Мне все еще кажется, что самое-самое главное впереди.
Какая я? Тоже не знаю. Временами умная, временами делаю глупости. То не могу оторваться от работы, то мне хочется кинуть все и бежать куда глаза глядят. Иногда мне важное кажется пустяком, а пустяк – чем-то важным. Так, еще вчера я думала, что самое трудное в нашей с Борисом жизни – неустроенность. Даже умывальника нет. А оказывается, все это пустяки. Неожиданно в жизнь вошла какая-то Ефросинья Петровна. Она представляется мне толстой, расплывшейся, в широкой вылинявшей кофте. Ефросинья Петровна… Она зевает, открывая гнилые зубы, крестит рот: «Однако до спокою пора…» Телеграмма, конечно, была от нее.
Я лежу и думаю и кажусь себе маленькой-маленькой – очень противное ощущение. Лес шумит под ветром. Он шумит совсем рядом. И наш дом кажется мне островом, затерянным в океане. Я прислушиваюсь и замечаю, что кроме шума ветра, есть еще один звук – это идет дождь. Он стучит по шиферной крыше.
…В сельском клубе надрывалась радиола, гоняли одну пластинку за другой, и я танцевала со знакомым пожарником. Впрочем, Гриша не только пожарник. Он еще студент-заочник Томского пединститута. Мы танцевали и разговаривали, разумеется, не о пожарах, потому что за все время его работы не было еще ни одного. У Гриши приятное лицо и манеры, он много читает и думает, и мне было приятно с ним, потому что всякой девчонке приятно, когда за ней вежливо и ненавязчиво ухаживают.
Мы танцевали и иногда выходили постоять на крыльцо. Гриша курил, отгоняя от меня комаров, и рассказывал, что работа в пожарной для него сущий клад: хотя зарплата небольшая, зато много свободного времени для учебы. Он спросил, нет ли у меня учебника по высшей алгебре. У меня была книга Окунева, но я вспомнила, что оставила ее в учительской, в моем шкафу. Было еще светло, и мы отправились в школу.
В школе царил настоящий разгром. Мы пробрались в полутьме через разобранные полы, между корытами с известью, спотыкались о какие-то ведра и смеялись. Только в учительской оставался крошечный островок порядка, хотя и тут на всем уже лежала пыль.
Горела большая электрическая лампа, и у стола возился с селеновым выпрямителем незнакомый парень. Он взглянул на нас мельком, и я даже толком не разглядела его лица, стала искать нужную книгу. Роясь на полках, спросила:
– Вы новый физик?
– Да, – ответил он, не оборачиваясь.
Я нашла книгу, дала ее Грише. Он стал ее перелистывать, а я подошла к новому учителю. Он поднял голову.
– И вы здесь работаете?
– Да. Математиком.
– Я так и думал, – сказал он, взглянув мне в лицо, и улыбнулся.
Мне почему-то стало радостно и стыдно от этого взгляда, и я отвела глаза.
– Гриша, ты идешь?
Гриша покорно последовал за мной. Мы вернулись в клуб, но танцы уже кончились, все расходились. Гриша проводил меня, торопливо попрощался и ушел домой – больше всего на свете ему хотелось, видно, засесть за свою алгебру.
Утром я попыталась представить лицо нового учителя и не могла. Запомнились только его светлые волосы и упрямые самолюбивые губы.
Встретились мы днем в столовой. Заметив меня, он пересел за мой столик. Завязался какой-то легкий разговор, и, что очень редко бывает со мной, я сразу почувствовала, что могу говорить с ним просто и свободно. Правда, мне тогда не понравилось, что о себе и своей работе он говорит с иронией, как будто само собой разумеется, что он способен на гораздо большее. Но эта мысль мелькнула и исчезла.
Он предложил пойти в кино. Пошли, смотрели «Балладу о солдате». Во время сеанса Борис взял мою руку в свою, я освободила ее и отодвинулась. После кино бродили по улицам. Он спросил:
– Где вас найти завтра?
– А вам хочется? – спросила я.
– Так же, как вам.
– А может быть, мне вовсе не хочется?
Он усмехнулся.
– Не обманываете?..
В темном переулке мы наткнулись на стайку спящих гусей. С громкими криками, размахивая крыльями, они кинулись прочь. Борис протянул руку через ограду какого-то палисадника, сорвал несколько цветков. Это был табак и еще какие-то незнакомые цветы. Он хотел приколоть их мне на грудь, но я сказала, что сделаю это сама.
У моего дома, прощаясь, он обнял меня. Я увидела близко его глаза и почувствовала его дыхание.
– Отпустите, – сказала я.
– Почему?
– Не хочу! – Я сказала это твердо и он отпустил. Потом я спросила: – Вы всегда так спешите? – и попрощалась с ним.
Дома, не зажигая света, я долго сидела на койке. Ложиться было бесполезно. Все равно бы не уснула. Я чувствовала себя совсем не такой, какой была еще вчера, и не ощущала никакой радости, смутно опасаясь того, что будет дальше. Мне не понравилась самоуверенность моего нового знакомого. Но встречи наши не прекратились. Мы встречались весь июль, и Борис становился мне все ближе и необходимей.
В конце июля отпуск кончился, и я вышла на работу. В школе настоящего дела не было, но мы аккуратно являлись к десяти. Помогали ремонтникам, иногда танцевали под радиолу, разговаривали. Борис уехал в райцентр по каким-то своим делам, и вечерами я сидела дома, читала, копалась в учебниках.
В тот день мы красили парты во дворе, когда меня позвали к телефону. Я взяла трубку и не сразу поняла, кто и откуда говорит со мной.
– Тоня? Ты?
– Кто это?
– Это я – Борис. Ты знаешь, меня назначили директором школы. В село Полночное. Павел, Ольга, Леонид, Николай…
– Я поняла, Борис. Это где-то далеко?
– У черта на куличках.
– Ты рад?
– А почему бы нет? Поедешь со мной?
– К черту на кулички? – я рассмеялась. – Счастливого пути.
На этом, я думала, все кончилось, и мне стало грустно. Я докрасила парты, вымыла руки керосином и ушла домой.
Дома я затеяла генеральную уборку. Вымыла полы, вытерла повсюду пыль, перестирала занавески. Весь день я искала себе дело, не знала, куда приткнуться. «Что ж, – говорила я себе, – значит, так надо. С чего это я взяла, что будет иначе?»
А через два дня приехал Борис и опять стал уговаривать меня ехать с ним.
– Я без тебя не могу. Едешь или нет?
– Конечно, нет.
Я думала: «Если любит, то останется». Это вначале, а потом мне пришла мысль: «А почему уступить должен он? Может быть, он тоже думает: „Если любит, то поедет“?» Я поняла, что оба мы ведем себя глупо, и решила, что поеду, но тут он сказал:
– Черт меня угораздил встретиться с тобой! – И ушел.
Ночью я не спала, вспоминала наш первый вечер, думала о том, что если мы еще увидимся, то очень не скоро, только на учительской конференции, а может, и еще позднее. К тому времени его чувство ко мне пройдет, потому что все на свете, в конце концов, проходит – и большое и малое… Я уже засыпала, когда в дверь кто-то сильно постучал. Это оказался Борис. Он ворвался в комнату, сунул мне в лицо какие-то бумажки.
– Вот билеты. Одевайся!..
Я стояла перед ним, закутавшись в простыню.
– Ты с ума сошел. Никуда я не поеду. Меня же потеряют…
– Некогда торговаться. Пойми – некогда. Нас ждет машина.
Я выглянула в окно. Перед домом стоял газик… Когда мы сели в машину, вздохнула:
– Был один сумасшедший. Теперь их стало два.
Но он меня не слушал, торопил шофера:
– Поскорее, дорогой товарищ! Пароход отходит через пятнадцать минут.
Мы так мчались по улицам, нас так било и мотало, что я думала, газик рассыплется. И все же до пристани доехали благополучно. Поднялись на пароход, оставили вещи в каюте и пошли в ресторан. После ужина, когда мы вернулись в каюту, я спросила:
– Зачем ты все-таки согласился?
– Ты опять об этом? – обернулся он с досадой. – Ну, хорошо – скажу. Надоело быть на побегушках. Я не мальчик. Во всяком случае, лучше быть в Полночном первым, чем здесь десятым. Но оставим это!
Он протянул руку к окну и задернул штору.
– Давай будем счастливыми.
Больше я ни о чем не спрашивала…
А сейчас вот лежу, вспоминаю и думаю. Почему же мне так не везет? Другим жизнь выпадает легкая, а я словно наказанная…
12
Над классной доской большая логарифмическая линейка. На серебристой ее поверхности – черные и красные деления. Тоня с указкой в руке объясняет возведение чисел в квадрат.
Ночью она спала плохо и, когда шла в школу, чувствовала вялость, но сейчас, на уроке, оживилась, и, кажется, все идет как надо.
И вдруг – скрип новых ботинок. Головы учеников, как по команде, поворачиваются к двери.
– Разрешите?
В голосе Евского вежливость, но вместе с тем и привычная уверенность – не откажут. Вот бы сказать ему: «Нет, не разрешаю». Любопытно, что он сделал бы?
Евский на цыпочках пробирается вдоль стены и пристраивается на задней парте рядом с Генкой Зарепкиным. Это плохо, что рядом с Генкой. Ладно еще, если Евский не заглянет в его тетрадь. Там ведь, кроме алгебры: рожи невиданных зверей, карикатура на Копейку, начатая карта Дальнего Востока и недетская песня про папу римского и турецкого султана:
В гареме нежится султан.
Ему завидный жребий дан:
Он может девушек любить…
Хотел бы я султаном быть.
Но, к счастью, Евский не интересуется Генкиной тетрадью. Он вытаскивает из кармана свою пухлую записную книжку и принимается что-то писать.
– На чем я остановилась? – спрашивает Тоня. Спрашивать не следовало – это у нее как-то непроизвольно вырвалось. Рука Евского немедля что-то отмечает в книжке.
Тоня пытается вспомнить. В голове пусто. Заглянула в конспект. А что толку. Лучше начать снова.
– Поставим визир против числа 5,67 на основной шкале. Теперь посмотрим на шкалу квадратов. Визир покажет нам число 5,67 в квадрате… Еще пример… Предположим, нам необходимо вычислить площадь круга с радиусом…
Все как будто идет нормально, но внимание раздвоено. На задней парте, рядом с Генкой, Евский. Так чувствовала себя Тоня, когда косила в колхозе, а подъезжал председатель Похвистнев и, не слезая с коня, наблюдал за ней. Руки становились как чужие, она начинала контролировать их, и нарушалась та привычная слаженность движений, которая приходит лишь тогда, когда не следишь за ними.
О чем Евский думает сейчас? Может быть, он сравнивает ее, Тоню, с Ефросиньей Петровной? А пусть сравнивает с кем угодно! Какое ей дело… А может быть, его записная книжка врет?
Тоня еще раз сбивается.
– О чем я говорила? Да, сверим с таблицами Брадиса. Ответ сходится. Все в порядке… Вы поняли?
Несколько голосов отвечают, что поняли.
Потом ребята решают задачу. Все идет как обычно. Поскрипывают перья. Тоня стоит у окна. За окном ветка. Ее шевелит ветер. Внизу школьный двор. Лежит Буран, терпеливо дожидаясь Митю. Каждую перемену тот выбегает к нему… И опять мысли о Борисе. Какой у него, интересно, сын? Как звать его, какие у него глаза, волосы? Похож ли на отца? Неужели и сегодня Борис не приедет?..
Удивительно, как состояние Тони сообщается детям! Она думает: «Скорей бы звонок», и тотчас эта же мысль появляется в глазах ребят. Сеня Зяблов потянулся к соседней парте – поймать муху. Вера Батурина заглянула под рукав на часы…
И вот, наконец-то, звонок.
В учительской Тоня вытирает платочком руки.
– Кому журнал восьмого? Возьмите.
Евский жестом приглашает ее сесть.
– Вы свободны?
– Да.
«Ну что он может сказать? – думает Тоня. – Урок как урок. Два раза сбилась, так это со всяким может случиться. Кто при инспекторе не волнуется?»
Евский скучно смотрит на Тоню. Глаза его холодны, но ему чем-то нравится эта молодая учительница. Чем? Стоит ли ему в этом разбираться? Приятно, что она сидит перед ним, и он может с ней говорить. Какая она нервная… Вот он делает движение, и она напрягается, как струна.
Евский жует губами и затем говорит громко и внятно:
– Прежде всего, я должен заметить, что кофточка у вас весьма не педагогическая…
Этого она, конечно, не ожидала. Ее щеки, а затем все лицо и шея и даже открытая часть груди окрашиваются румянцем.
– Конечно, – продолжает Евский, – вы молоды, и, естественно, вам хочется выглядеть красиво. Но, я думаю, всему свое время и место. И притом мальчики. Они народ наблюдательный. К тому же они довольно взрослые. Не исключено, что некоторые детали вашего туалета… м… да, не будем уточнять… Не думаю, чтобы это способствовало повышению успеваемости.
Сухие тонкие губы Евского иронически улыбаются. Он наслаждается Тониным смущением. Он давно не видел, чтобы кто-нибудь так глубоко и искренне смущался.
– А урок? – произносит она еле слышно.
Евский прикрывает коричневые веки. Кажется, он дремлет. Ему не хочется говорить об уроке. Тысячи уроков он посетил за свою жизнь. Все это, в конце концов, чертовски надоело.
– Все не так, – говорит Евский и, сдерживая зевок, поясняет свою мысль: – Вы считаете, видимо, что урок прошел не плохо: оценки поставлены, упражнения учащиеся выполняли и даже воспитательный момент не забыт… Но все это теперь уже старина. Так работать нельзя. Вы, слышали, надеюсь, про липецкий метод? Отсутствие отдельного опроса, поурочный балл, максимальная активность учащихся, разнообразные упражнения… Пора и вам осваивать новую прогрессивную методику. Она в несколько раз повышает эффективность урока, развивает творческие способности учащихся. Лучшие учителя… Внимание педагогической общественности…
Иногда Евскому кажется, что внутри у него помещается пластинка. Стоит только поставить на нее иголку и тронуть невидимый рычажок, как тотчас же польется умная, ровная и аргументированная речь. И она не потребует от него никакого напряжения. Он может думать в это время о чем угодно, например, о том, что все-таки эта Найденова чем-то мила, хотя работать не умеет, или о сегодняшнем телефонном разговоре со знакомым следователем, в котором тот сообщил, что навел справки и что Речкунов со своей женой Ефросиньей Петровной не разведен. Да, он, Евский, ошибся в Речкунове. И эту девчонку жалко. Она-то в чем виновата? Что-то есть в ее лице такое… Как бы сказать?..
– Вот так, – произносит Евский и, подымаясь, отодвигает стул. – Но мы еще с вами встретимся. Возможно, мне нужно будет еще кое-что уточнить. Вы, я надеюсь, понимаете…
Тоня кивает. Да, она понимает, что он собирается уточнить.
13
Полина Петровна Зарепкина – председатель месткома. Она расценивает то, что случилось с молодой учительницей, как ЧП. А раз ЧП, нужно реагировать. Но как? Прежде всего она, Зарепкина, должна знать все подробности. Во-вторых, придется принимать меры. Какие? Пока трудно сказать. Вероятно, будут соответствующие указания. В третьих, нельзя молодого товарища оставлять в одиночестве. Здесь требуется человечность. А человечность – стало быть, известное сочувствие. Впрочем, с сочувствием надо быть осторожным. Со-чув-ствовать! Чему? Легкомыслию? Аморальности? Тут дело весьма тонкое. С одной стороны так, а с другой может быть совсем по-другому.
Зарепкина отправляется к Тоне. Отправляться ей совсем недалеко: с одного крыльца на другое. У Тони в комнате холодно. Печь нетоплена. Достаточно бросить взгляд на молодого члена коллектива, чтобы заметить: налицо психическая депрессия, необходима моральная поддержка. Значит, Зарепкина появилась как раз вовремя.
– Тонечка, у вас не найдется килограмма два соли? Начала солить огурцы и не хватило. А магазин закрыт…
Тоня озадачена таким обращением. До сих пор никто здесь не называл ее Тонечкой. И соли у нее, конечно, нет. Она запасов не делает и огурцы солить не собирается. Пожалуй, дело вовсе не в соли…
– Тонечка, – произносит Зарепкина ласково, – вы должны держать себя в руках.
– Я держу, – невесело улыбается Тоня.
Зарепкиной не ясно, что и как надо говорить в подобных случаях, но на помощь ей приходит фольклор. Не даром же она двадцать лет преподает русский язык и литературу.
– Жизнь прожить – не поле перейти, – говорит она и усаживается на гнутый венский стул. Борис нашел его в школьном сарае. Под ее тяжелым телом стул тихо поскуливает. Тоня с ужасом представляет, как он сейчас развалится. Только она сама умеет на нем сидеть… Зарепкина вздыхает: – Главное, не унывать.
Тоня молчит. Должно быть, она согласна.
– Вы так молоды. У вас все впереди.
Против этого тоже трудно что-либо возразить. И Тоня следит за стулом: выдержит или нет? Такой нагрузки он, пожалуй, еще не испытывал.
– Неужели вы ничего не знали?
– Нет.
Пожалуй, не так-то проста эта Найденова. Как это так, не знать – женат любимый человек или нет? Лицо Зарепкиной выражает осуждение, но не резкое, а скорее печальное.
– Я пришла к вам не как председатель месткома, а просто как человек к человеку. Мы все очень, очень огорчены.
– Кто же все?
– Пока что члены месткома. Но расскажите мне, как это случилось.
Стул начинает медленно ползти вбок. Шипы передних ножек вот-вот готовы сломаться.
– Вы сейчас упадете, пересядьте лучше на табурет, – предлагает Тоня.
– Ничего, – рассеянно отвечает Зарепкина. – Да, как случилось?.. Неужели у вас ни разу не возникло подозрения?
– Не возникло.
– Положим, это так. Но все же расскажите, как вы познакомились. При каких обстоятельствах?
– К чему это теперь? – морщится Тоня. – Обстоятельства и все остальное. Кому это интересно?
Зарепкина огорчена.
– Напрасно вы так. Я ведь к вам со всей душой. Можно сказать, как к дочери родной. – Зарепкина подымает свое тело со стула, обнимает Тоню за плечи. – Главное, не унывайте…
От нее пахнет укропом. Значит, она действительно солит огурцы.
За окном река, осенняя, хмурая. Она медленно течет на север. Так было вчера и позавчера, и год назад, и в прошлом тысячелетии. Река для Тони – почти вечность. Вечность вечностью, а сегодняшнее никуда не денешь. Тоня ждет Бориса. Ей почему-то кажется, что он должен вернуться сегодня. Она встречает глазами каждый пароход.
14
Михаил Николаевич сгребает в огороде картофельную ботву. Он в старых сапогах, в старой куртке, старчески сутулится, покашливает.
Зарепкина смотрит на мужа из окна кухни. Как странно, что именно он ее муж, этот старый человек, который так любит возиться с землей. Теперь она махнула на него рукой, а было время, когда надеялась сделать из него достойного спутника жизни. Она заставила его поступить на заочное отделение пединститута, но всей ее энергии хватило лишь на то, чтобы кое-как протащить его через три курса. Она доставала ему книги, ездила с ним на сессии, направляла каждый его шаг, но так и не привила ему любовь к знаниям. Он дремал на лекциях, как дремал на педсоветах, как дремал в то время, когда она терпеливо объясняла ему, что он ведет себя некрасиво.
Ее раздражало, что он не любит выступать на собраниях, что книги читает, шевеля губами, что ученики, да и не только ученики, зовут его за глаза Мих-Ником, что когда он возвращается с работы, от него пахнет потом и навозом. Нет, ей так и не удалось воспитать из него интеллигента. Ей всегда стыдно за него, когда приезжают инспектора. Правда, школьный опытный участок у него в образцовом порядке, и ребята что-то там экспериментируют, выращивают гигантские помидоры, но сам он не умеет сказать об этом двух слов. Если бы не она, его, пожалуй, и не считали бы хорошим учителем. Сколько она ни билась, он так и не отвык от таких вульгарных слов, как «разъяснилось», «закалел», «назем», «складник».
Вот он наклонился, чиркнул спичкой, и языки пламени запрыгали по сухой ботве. А он стоит у костра и думает. О чем? Он и сам, наверное, толком не знает.
К мужу она почти равнодушна. Он почти не нужен ей. Годы берут свое. И живет она с ним, пожалуй, лишь затем, чтобы не быть незамужней. На незамужних смотрят как на неудачниц…
А ночью между ними происходит такой разговор. Мих-Ник спрашивает:
– Как прошел урок у Найденовой?
– Почему ты этим интересуешься?
– Я вовсе не интересуюсь.
– Ну и не спрашивал бы. Да и как он мог пройти? Путалась, конечно. Да и насчет кофточки… Я давно хотела ей сказать. Как она сама не понимает, что если она молода, то вовсе не значит, что всем интересно видеть ее прелести.
Мих-Ник сопит.
– Ты что, не согласен? Евский дал ей жару. Знаешь, как он умеет. Я думала, она сквозь землю провалится.
– Плакала?
– Заплачет она! Гордячка. Но это ничего, полезно. А то фасону слишком много. Кофточки не кофточки, шпильки не шпильки. Я думала, в ней правда что-то есть.
– Тише! Генка…
– Спит твой Генка без задних ног.
Некоторое время супруги лежат молча. Потом Зарепкина вздыхает.
– А Генка наш совсем отбился от рук.
Мих-Ник уже дремлет.
– От чего отбился?
– От рук. Что за глупая манера переспрашивать?
Длинное молчание.
– Михаил, ты спишь?
– А?
– У него опять по алгебре двойка.
– По алгебре?
Мих-Нику нечего сказать. Когда он был мальчишкой, у него тоже случались двойки по алгебре, но он не вырос ни разбойником, ни бездельником. Ему не хочется разговаривать с женой. Гораздо приятнее думать о саженцах черноплодной рябины, которые он получил сегодня из Барнаула. Завтра с ребятами он посадит их на пришкольном участке. Ему нравятся растения и животные. Ему бы агрономом быть, но жена сделала его педагогом. Хорошо еще, что не историком или географом. Одно время у нее была такая мысль. А так все-таки он около земли. Конечно, приходится вести уроки, что-то объяснять ученикам, ставить оценки – этого он не любит, но зато какая радость, когда из почвы появляются новые зеленые ростки. Они-то без всяких объяснений знают, с какой стороны солнце и для чего оно существует.
А Зарепкина лежит на своей кровати и думает с горечью: «Какую непоправимую ошибку я совершила, связав свою судьбу с этим некультурным человеком».
15
Солнце заходит. Ему уже недолго висеть над лесом. Оно стало красным и вытянулось в эллипс. Красная дорога через Обь тянется прямо ко мне. Она угасает. По реке ползут тени, а может быть, это туман, или дым костра. Да, где-то близко костер.
Скоро станет холодно и придется идти домой. Дорога через бор. Ледяной сумрак лога. Ручей. Тонкая музыка воды. Затем желтые огни села и мой дом. Нет, не мой дом. Только четыре стены и потолок. Дом – это когда тебя ждут, а меня никто не ждет и не будет ждать. Его уже нет со мной. Уже нет. Все очень просто. Да, очень просто. Впрочем, может быть, вовсе не просто. И смерть и рождение тоже ведь кажутся нам простыми…
Уехать? Но куда? Мне трудно решиться на это. Есть девчонки, которые пишут в «Комсомолку» и спрашивают, как им быть, и ждут правильного ответа. Конечно, в «Комсомольской правде» сидят не дураки, но я не верю, что кто-то издалека может дать мне верный совет. Была бы мать жива. Она сказала бы мне, что нужно.
Рано умерла она. Теперь бы ей только и пожить. Все старалась для нас, и нисколько не было у нее своей жизни. До последних дней работала, надо было учить меня и Лешку. И она никогда не сердилась и не жаловалась, что у нее нет хорошей одежды, что приходится дорожить каждой копейкой. И когда я приезжала на каникулы, я видела ее совсем усталой женщиной, которая ничего не знает, кроме тяжелой сельской работы, и я каждый раз говорила себе, что как только выучусь, то сейчас же возьму ее к себе, и тогда она отдохнет.
Мать умерла поздней осенью, без меня. Я отпросилась и приехала в деревню. Увидела в березовой роще могилу, повядшую траву, поваленные ветром замшелые кресты, услышала шорох желтых листьев, на которые падал сухой снег, и заплакала. Мы с Людой поставили пирамидку со звездой, положили венки, укрыли могилу дерном. Что еще можно сделать? Как позаботиться?
Этой весной я снова побывала на кладбище, старалась утешить себя тем, что мать лежит в хорошем месте, рядом со своим отцом и братом.
К моему отцу на могилу не придешь. Да и есть ли она где-нибудь? С войны он вернулся осенью сорок первого, без ноги. А в декабре этого же года родилась я и потому помню его только искалеченного. Помню стук его костылей по избе и его самого в поношенной военной одежде, с медалями на груди. Но все это смутно. Ярче всего мне запомнилось, как ездил отец на рыбалку. Я всегда провожала его. Сначала мы шли лесом. Он впереди, на костылях, а я позади – с тяжелым веслом. Выходили к реке, останавливались на высоком берегу и смотрели на весеннюю воду, на залитые острова. Потом мы спускались к лодке. Он забирался в нее, отталкивался и махал мне рукой.








