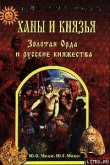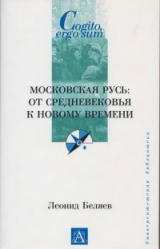
Текст книги "Московская Русь: от Средневековья к Новому времени"
Автор книги: Леонид Беляев
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 20 страниц)
БОРИС ГОДУНОВ
Годуновы: «путь наверх»Управление страной при царе Федоре сосредоточилось в руках рода Годуновых. У них был опыт жизни в кругу семьи Грозного, связи со служившими ему дворянами («двором») и с приказной средой. Энергичные, молодые, преданные царю лично, Годуновы наполнили Боярскую думу, контролировали главные приказы (Конюшенный, Большого дворца, Казенный, Разрядный), отвечавшие за царское хозяйство, сбор налогов, финансы, армию и раздачу поместий, а также внешнюю политику. Среди Годуновых были не только опытные царедворцы (Борис Федорович, брат Ирины и, следовательно, царский шурин), но и исключительно честный казначей, управлявший хозяйством (Григорий Васильевич, в прошлом дядька царевича Федора и самый близкий ему человек), дипломаты (Степан Васильевич), смелые военачальники (Иван Васильевич), и другие. Они стали надежной опорой царя и в дни мира, и на войне.
К концу недолгого правления Федора особое влияние при решении государственных вопросов приобрел царский шурин, Борис Годунов. Он встал во главе Боярской думы, возглавил Земский приказ и неслыханно обогатился. Его чины могли вызвать зависть в самом древнем боярском роду: он владел высшим, очень редко присваивавшимся титулом царского слуги, который (впервые в истории России) совмещал с титулом конюшего боярина. В 1590-х гг. у него был уникальный, ни до, ни после невиданный титул: «царский шурин и правитель, слуга и конюший боярин и дворовый воевода и содержатель великих государств – царства Казанского и Астраханского». В переговорах с иностранными государствами, которые он пытался вести самостоятельно, Годунов, по сути дела, уже называл себя правителем страны.
Подобное возвышение кажется удивительным: всего полвека назад Годуновы были буквально ничем – обедневшим и вымирающим родом. Однако во время опричнины взлеты и падения были поистине головокружительными. Отец Бориса Годунова преданно служил Грозному: как постельничий, он отвечал за каждодневный быт и, отчасти, безопасность царя. Должность была не особенно почетной, но крайне важной: ближайшее окружение во все времена влияло на придворные назначения, а при подозрительном Иване IV этот пост в его личном окружении значил особенно много. Когда же Годуновы сблизились с другим любимцем Грозного, хрестоматийным злодеем и палачом Малютой Скуратовым-Бельским, их влияние еще возросло.
Так что маленькие дети Федора Годунова, Борис и Ирина, отнюдь не выскочили на политическую сцену Москвы, как черти из табакерки. Они с малолетства находились в окружении будущего наследника престола, выросли рядом с ним, обрели полезные связи, познали запутанный мир придворной политической игры и научились этикету. Сначала у них не было особых перспектив: никто не предполагал, что Федору предстоит управлять страной (почему царевичу и позволили взять в жены неродовитую Ирину Годунову). Даже отсутствие в молодой семье детей считалось выгодным: наследники из младших ветвей царского рода были нежелательны.
Смерть старших сыновей Грозного все переменила, отсутствие у Федора Ивановича наследника стало угрожать гибелью династии и феодальной смутой в стране. Ирина беременела, но дети рождались мертвыми (родившаяся в 1592 г. дочка Феодосия прожила только два года). Выход был один – развод, но ему противились Годуновы, да и царевич с юности был привязан к жене. Годуновым приходилось думать о том, как удержать власть, что во многом зависело от долголетия царя и сохранения его брака с царицей Ириной. Особенно это стало важно после гибели младшего сына Грозного, Дмитрия.
Гибель царевича ДмитрияДмитрий родился от одной из последних жен Грозного, Марии Нагой, брак с которой по церковным законам считался незаконным. Он с рождения страдал тяжелой формой эпилепсии («падучей болезни») и был жесток, в отца – мучил слуг, убивал домашних животных, рубил головы снежным чучелам, которых называл именами своих врагов. Получив в удел город Углич, он оставался по малолетству при отце в Москве, но с воцарением Федора был отослан в удел с матерью и всей родней. Правительство неоднократно подчеркивало, что Дмитрий, по обстоятельствам рождения, не может считаться претендентом на царский трон, и строго следило за поведением Нагих в Угличе.
В 1591 г. Дмитрий погиб при трагических обстоятельствах: в одном из припадков эпилепсии ему не успели оказать помощь, и он смертельно ранил себя ножом. Мать и родичи Дмитрия в отчаянии подняли народ на царских слуг, прежде всего на наместника царя, дьяка Битяговского. Многих убили, а в городе чуть не начался мятеж. Опомнившись, Нагие попытались обвинить убитых в заговоре с целью умертвить царевича. Но следственная комиссия, присланная из Москвы во главе с Василием Шуйским, тщательно допросила свидетелей (протоколы допросов сохранились) и описала смерть Дмитрия как случайную. Это не позволило перенести тело царевича в усыпальницу великих князей, Архангельский собор, – по церковным правилам умерших случайной («напрасной») смертью приравнивали к самоубийцам. Царевича похоронили в Угличе, и дело казалось закрытым. Однако в начале XVII в. организация убийства задним числом была приписана Борису Годунову.
Попытка основания династии: Борис Федорович ГодуновК концу 1590-х гг. положение и престиж страны укрепились. Царь Федор доказал способность управлять Россией, его правление было популярно в народе и за рубежом. Он получил предложение стать польским королем, но не был избран, так как важнейшим условием избрания было подчинение Руси папе римскому и Речи Посполитой. Государство могло окончательно восстановить свои силы, но зависимость положения страны от происходящего в царской семье этому помешала. Чувствовавший себя все хуже в последние годы царь Федор, последний в роду московских великих князей, умер 6 января 1598 г. Династия, восходившая к Рюрику и правившая с конца XIII в., со времен князя Даниила Александровича, пресеклась.
Это поставило страну в крайне непривычное и трудное положение. По понятиям Московского царства, смерть наследников «природного» царя делала страну «выморочной», ничьей. Чтобы избежать полного крушения государства, нужно было пригласить на трон правителя-иноземца или выбрать царя из русских бояр. Сначала попробовали возвести на престол царицу Ирину: покойный царь неоднократно демонстрировал свое доверие к ней, позволял присутствовать на официальных церемониях – словом, пытался представить ее народу как соправительницу и возможную наследницу. Преданный патриарх Иов разослал указ священникам привести страну к присяге на верность Ирине, Борису и их роду, тем самым власть могла бы окончательно перейти к Годуновым.
Но идея царицы-правительницы была чужда Московскому царству: цариц здесь не венчали на царство вместе с мужьями и не допускали их присутствия на обряде; даже попытку Иова ввести церковное возглашение многолетия Ирине сочли бесстыдным покушением на традицию. Кроме того, бояре и воеводы в первые же дни засыпали царицу местническими жалобами на новые назначения. Тогда Ирина, и так сломленная горем, отказалась от власти в пользу Боярской думы и постриглась в монахини, что отвечало представлениям народа о правильном поведении вдовы-царицы. Но даже из-за стен Новодевичьего монастыря она пыталась поддержать брата и помочь ему достичь престола.
Шансы Годунова на избрание Земским собором были достаточно велики, но не абсолютны. В сознании народа образ правителя, не ведущего род от царей, вызывал отторжение: люди верили, что царя избирает божественная власть, наделяя особыми, сверхчеловеческими свойствами. Считалось, что царем нельзя сделаться, им обязательно нужно родиться. Естественным, «правильным» казалось избрание представителя рода, восходившего к великим князьям, например, из числа Романовых, Шуйских или Мстиславских. В Боярской думе началась борьба партий: Годунова открыто обвиняли в покушении на власть, так что он был вынужден покинуть Кремль и уехать в Новодевичий монастырь. Действуя в его интересах, патриарх Иов собрал на своем подворье подобие Земского собора, распорядился «поднять» наиболее чтимые иконы и пойти из Успенского собора в Новодевичий монастырь, где передал Борису Годунову особую «хартию» с просьбой взойти на царство. Собранная толпа выкликнула Годунова царем. Но он вернулся в Москву только после третьего крестного хода к нему в монастырь – 1 апреля 1598 г. Весной Годунов выступил с армией в поход на шедших из Крыма татар и простоял два месяца в роскошном полевом лагере под Серпуховым, где принимал посланников из Крыма и Англии. К концу лета процедура избрания была завершена: в августе Москва присягнула новому царю, и в начале сентября он, наконец, был венчан в Успенском соборе. Окончательно на троне Бориса Федоровича утвердила особая грамота, принятая Земским собором в начале 1599 г. с участием не только купечества, но и «черных» тяглых людей.
Избрание нового царя продолжалось целый год и вызвало напряжение в обществе. Но междуцарствие не привело к Смуте: вокруг трона стояли плотной стеной Годуновы, твердо державшие в руках все ключевые посты. Народ привык видеть в конюшем боярине одного из правителей, его способности отмечали даже враги, ему доставалась часть народной любви к Федору, смерть которого стала поистине народным горем.
Борис Годунов: «жизнь наверху»Царь Борис Федорович (правил 1598–1605) мог наконец, обратиться к государственным делам. Правление, казалось, началось благополучно, и в первые два года выглядело как продолжение политики царя Федора. Особенностью нового правителя была привычка обдумывать ситуацию, «строить» ее, решать проблемы без применения военной силы. Искусный интриган, он был мягок в обращении (современники отмечают звучный голос и дар убеждения нового царя), большое внимание уделял внешнему оформлению власти (любил эффектные жесты и торжественные приемы, пышные одежды и постройки, драгоценные короны и цепи). Недоставало Борису знания военного дела, умения отстоять свои права в открытом бою (которое особенно ценили в государях). Он не имел также серьезного административного и хозяйственного опыта, проведя почти всю жизнь в дворцовых палатах. Но для управления страной у него были надежные приказные и многократно проверенные родичи.
Особенное внимание и интерес вызывали у него иноземцы – ему казалось, что признание Европы даст опору молодой династии. Он, видимо, не очень доверял соотечественникам, но смело искал союзников на Западе: на случай смерти царя Федора Борис заручился политическим убежищем в Англии; тайно предлагал австрийскому принцу руку царицы Ирины; набирал в придворную гвардию немцев. Для своей дочери Ксении он искал в мужья непременно принца из Европы, но попытки окончились неудачей: из двух приезжавших женихов один оказался полным ничтожеством, второй же внезапно умер.
Царь Борис не был образованным человеком в тогдашнем, церковном, смысле этого слова. Но он хорошо писал, был достаточно начитан, кругозор его был шире, чем у рядового знатного человека. Тогдашнее московское общество чуралось всего чужого как «еретического», царь же стремился выписать из-за рубежа специалистов (рудознатцев, ювелиров, оружейников, даже ученых) и, особенно, медиков (еще для царицы Ирины из Европы были вызваны врач и повитуха, у самого Бориса было шесть докторов). Борис охотно знакомился сам и стремился познакомить Русь с образом жизни Европы, ее искусством и основами наук, надеялся создать в России университет, заботился об издании книг. Он отправил в Англию четверых молодых «робят» из семей приказных для обучения «науки разных языков и грамоте», которые учились в четырех лучших университетах: в Винчестере, Итоне, Кембридже и Оксфорде, и еще нескольких – в Германию и Австрию (из них вернулся в Россию только один, в 1611 г.).
При Годуновых русская архитектура, развитие которой почти замерло к концу царствования Грозного, вступила в новый период. Удалось отстроить в камне здания приказов в Кремле, торговые ряды на Красной площади, мост через речку Неглинную. Был надстроен столп колокольни Ивана Великого, снабженный огромной надписью, прославлявшей царя. Москву по-прежнему стремились превратить в столицу христианского мира: против собора Покрова на Рву поставили Лобное место – символ Голгофы; начали строительство храма «Святая святых» в Кремле, для которого заказали «Гроб Господень» из золота. Годунов явно намеревался «перенести» на Русь топографию Святой земли Иерусалима. За этими огромными проектами легко различимо непомерное честолюбие царя Бориса, его тяга к яркому, помпезному и замысловатому искусству, следование европейским образцам.
Однако Годунову не суждено было довести начатое до конца. Ряд природных и политических потрясений (о них мы скажем ниже), поначалу, казалось, преодолимых, вызвали мощный взрыв противоречий, заложенных в самом устройстве общества и Московского государства еще с XVI в.
С самого начала «худородный» Борис вел противоречивую политику и не добился полной поддержки боярской верхушки. В нем взяли верх типичные для царедворца и интригана подозрительность, страх потерять власть, неверие никому, кроме ближайших родственников.
Многое в политике Годунова кажется нам сегодня достоинством, но в глазах современников те же качества выглядели недостатками. Так, обилие иностранцев на придворной службе и в охране, их высокое жалование и чины вызывали зависть. Отсутствие войн не позволяло русскому дворянству рассчитывать на новые земельные и денежные пожалования. Назначения в отдаленные крепости отрывали от хозяйства и замедляли продвижение по службе.
Годунов не смел, как Грозный, пускать в ход казни (тем более что обещал при вступлении на трон два года никого не казнить), но знатных бояр, держать которых у трона было опасно, он отправлял в монастыри, ссылая, им давали назначения в самые дальние и гиблые места, прежде всего в Сибирь. Очень многие из них умирали, становились инвалидами, постригались в монахи (так, заключили под стражу и постригли князей Романовых, в том числе Федора Никитича, под именем Филарета). Очень скоро царь нажил себе сотни врагов, среди которых были представители самых знатных семейств.
Правда, указы Годунова защищали права бояр, столичных дворян (самых знатных и богатых), дьячества, духовенства и горожан (посада). Эти последние составляли не более 2 % населения, но именно они помогали двору управлять страной, влияли на политику правительства, собирали в своих руках товарные и денежные потоки. В момент венчания на царство посаду даровали невиданные льготы: торговавших с Востоком освободили на два года от налогов; со всех москвичей и жителей Новгорода Великого сняли подати; новгородцам позволили торговать беспошлинно в Москве и в Прибалтике; нуждающимся раздали деньги и припасы; уменьшили средний размер тягла, включив в посад дворы, раньше не платившие налогов.
«Вот тебе, бабушка, и Юрьев день»Годунов добивался поддержки знати и посада страшной ценой: тяжесть финансового гнета ложилась на плечи крестьян. Льготы высшему и среднему слою обернулись для основной массы жителей закрепощением.
Это слово происходит от выражения «быть крепким» (то есть неразрывно связанным, верным кому-либо), применявшегося к крестьянам, которые по каким-то причинам не имели права уходить со своей земли. Причиной могла быть невыплата взятой когда-то ссуды, особой платы за уход («пожилого») и даже просто длительное пребывания крестьянина на одном месте (таких крестьян называли «старожильцами»). При системе службы с земли главной ценностью были рабочие руки: десятки крестьянских дворов обеспечивали землевладельцу возможность выходить на службу «конно, людно и оружно», а следовательно – сохранять место внутри своего класса, продвигаться по службе, получать новые пожалования. Понятно, что бояре и дворяне старались не терять работавших на пожалованных им землях крестьян. Их в этом поддерживала власть: ведь собирать налоги с бесконтрольно меняющихся хозяев селян или часто покидающих посад горожан гораздо труднее.
Однако за правом крестьянского выхода стояла многовековая традиция, его нельзя было вдруг отменить. Но можно было ограничить. В XVI в. согласно Судебнику 1497 г. крестьянам разрешалось покидать землевладельца только за неделю до и неделю после Юрьева дня, уплатив все долги и большую пошлину. К концу столетия они постепенно лишились и этого права: в конце правления Ивана Грозного были начаты переписи дворов и на время запрещались переходы крестьян и уход горожан в деревни («заповедные годы»). При царях Федоре и Борисе налогоплательщики были записаны за определенным местом жительства: впредь до особого указа крестьяне не могли покидать своих дворов на владельческой (боярско-дворянской, монастырской) или государственной («черной») земле, а горожане – своих посадов. Ушедших вопреки запретам («заповедям») возвращали силой.
Эти меры считали временными. К тому же они не удерживали тех, кто не отвечал напрямую за налоги – речь шла только о юридическом владельце двора. Но феодалы трактовали их по-своему и отчаянно препятствовали всем работникам покидать деревни, даже если речь шла о наборе на службу в войско. Они уже смотрели на крестьян как на крепостных. Чтобы избежать бесконечных тяжб между владельцами по поводу перешедших на новое место крестьян, государство ввело срок их поиска и возможного возвращения (5 лет), закрепленный в 1597 г. особым законом. Русское крестьянство окончательно прикрепили к земле.
Это дало землевладельцам возможность повысить оброк и вводить барщину. Но крестьяне отнюдь не были бессловесной массой рабов, они обладали чувством внутреннего достоинства и ответственности. Русский земледелец был хозяином на своей усадьбе, универсальным мастером, умевшим справляться со сложным и многогранным трудом, руководить большой семьей и работниками-домочадцами, принимать важные хозяйственные решения, участвовать в делах мира(сообщества своего села), зачастую владел грамотой. Поэтому на возрастание государственного тягла и гнета владельцев он готов был ответить сопротивлением: незаконно уйти к другим владельцам, бежать туда, где еще не было контроля государства, а то и убить особенно властного господина. В царствование Годунова, на рубеже XVI–XVII вв., появились признаки того, что терпение основного класса страны, крестьянства, на пределе.
Зарождение СмутыКонечно, это вряд ли повело бы к крушению государственного строя. Но установление новой династии в условиях, когда Россия не полностью оправилась от грозненского разгрома, совпало с полосой аграрных катастроф, в начале XVII в. потрясших Европу. Неурожайные годы были привычным явлением на Руси. Когда они чередовались с урожайными, крестьяне могли восполнить потери. Однако дожди, ранние морозы и слишком холодные зимы губили урожай два года подряд (1601 и 1602), и в 1603 г. оказалось просто нечем засеять поля: в стране не хватало семян. К 1602 г. хлеб вздорожал в шесть раз, а в 1603 г. уже ели кошек и собак, траву, кору с деревьев, а мясом людей даже пытались торговать на рынках. Смертность дошла, по отзывам современников, до трети жителей.
Царь открыл свои житницы для нуждающихся и не жалел средств на борьбу с голодом: в Москве их пытались занять на строительных работах; прибегли к денежным раздачам (в один Смоленск было выслано двадцать тысяч руб.); ввели твердые цены на хлеб, позволив посадам реквизировать его по этим ценам. Спекулянтов хлебом били кнутом и сажали в тюрьмы, а мошенничавших пекарей казнили. Но все это мало помогало. Деньги быстро падали в цене, а царских запасов хватило ненадолго, поскольку все голодающие бросились в города, особенно в Москву. Они ждали новых раздач – но ни боярство, ни патриарх, ни монастыри не захотели делиться своим хлебом.
Оказалось, что голод гораздо труднее пережить в условиях закрепощения. Раньше крестьяне могли бы уйти от тех владельцев, которые не поддержали их в трудный год, и найти более состоятельных хозяев, способных ссудить их продовольствием и семенами, или просто перебраться ближе к югу, где урожай был лучше. Но теперь этому мешал закон о сыске ушедших: крестьянин не мог ни получить ссуду, ни оставить хозяина, и вынужден был буквально умирать от голода на своем дворе. Чтобы избежать этого, правительство в 1601–1602 гг. восстановило Юрьев день, но это не касалось земель членов Боярской думы, столичных дворян, дьячества и духовенства, а также государственной земли и Московского уезда. Положение части крестьян стало легче, извлекли из этого выгоду и крупные землевладельцы, но для мелких провинциальных дворян возобновление выхода означало окончательное разорение. Стремясь вернуть доверие широких кругов дворянства, правительство вновь запретило выход в Юрьев день, тем самым окончательно выведя из себя крестьянство.
Крестьяне прочли указ о восстановлении Юрьева дня по-своему: как дарование им права не платить налоги и переселяться на более удобные земли. Неповиновение крестьян слилось с повальным «освобождением» холопов: ведь стало невыгодно не только ссужать крестьян, но и кормить собственных слуг, даже военных. Им приходилось покидать усадьбы хозяев, а ведь эти люди были опасны: опытные, подчас вооруженные воины возглавили забывшую о страхе голытьбу и грабили шедшие обозы с продовольствием и села. Разбоипредставляли реальную угрозу, к борьбе против них приходилось привлекать дворян. Осенью 1603 г. предводитель разбоев, Хлопка, был повешен, но в сражениях погибло много воинов, в том числе и царский воевода Басманов. Годунов издал указ, объявивший свободными холопов, которых господа откажутся кормить в голодные годы.
Во всех бедах страна готова были винить «неправильного» царя, принимать их как наказание за его вступление на трон, ведь Годунов не был «прирожденным» государем и в глазах народа не имел права на помазание. Когда по Руси пронесся слух, что сын Грозного, царевич Дмитрий, на самом деле не погиб в Угличе, а вынужден скрываться от убийц и вот-вот «откроется» – народ уже ждал его как спасителя. Настал благоприятный момент для самозванцев. Особую роль в их появлении и удивительной живучести суждено было сыграть казакам.