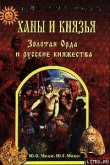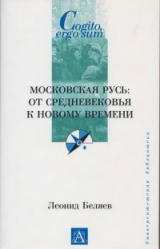
Текст книги "Московская Русь: от Средневековья к Новому времени"
Автор книги: Леонид Беляев
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 20 страниц)
Городские восстания сопровождались нарастающим недовольством провинции, прежде всего служилых людей, и крестьян, готовых примкнуть к первому же казацкому отряду. В конце 1660-х гг. оно вылилось в новую гражданскую войну, охватившую пограничные районы и национальные окраины – Дон и Поволжье. Ядром войска восставших и застрельщиками движения снова выступили казаки.
В Поволжье все время было не очень спокойно. Служилых людей здесь испоместили (т. е. дали им земельные наделы с крестьянами) на земле, отобранной у марийцев, мордвы и других малых народов (их насильно крестили и закрепощали). Русские крестьяне, переселенные сюда из центра страны, несли много добавочных тягот (добыча соли, ловля рыбы, выработка поташа). В крепостях служившие «по прибору» нерегулярно получали жалованье, страдали от произвола воевод. Наконец, вдоль волжского пути кормилось много бродячего люда (из него набирали ватаги бурлаков, грузчиков и «судовых работных людей»).
К этому времени осложнилась и жизнь казачества на Нижнем Дону и Хопре. Сюда, на край Дикого поля, бежало крестьянство, вливаясь в ряды казаков. Они вместе ловили рыбу, охотились, пахали пашню, окружали свои поселки («городки») рвами и изгородями. Однако прежнего равенства в городках не было – обжившись на Дону, казацкие семьи получали возможность эксплуатировать «пришлую» голытьбу. Они возглавляли походы за добычей и делили ее; верховодили на казацком «круге»; имели много денег, земель, коней и скота, лучшие зоны для рыбной ловли. На них часто работали беглые крестьяне и пленные ногайцы или калмыки. Эти казаки видели в Москве союзников: от царя присылалось денежное жалованье, хлеб, порох и другие припасы.
Но бедных («голутвенных») казаков было, однако, не просто закабалить, – вооруженные и привыкшие организованно действовать, они были очень опасны. До поры они проявляли себя в традиционных казацких грабительских рейдах («походы за зипунами») в Крым и Турцию, а после 1642 г., когда турки закрыли проход в Азовское море, на Каспий и Северный Кавказ. Обычно атаман снаряжал отряд на средства богатых казаков, бедные же, как рядовые воины, получали лишь крохи добычи. Однако в конце 1660-х гг. эти набеги возглавил Степан Разин, обходившийся без поддержки «низовых» казаков: его «финансировали» воронежские торговые люди. Разин много повидал: дважды он прошел всю Русь до Соловецкого монастыря как богомолец; был в казацком посольстве в Москве за жалованьем. Он знал многое о положении в стране и считал, что смелые действия помогут изменить жизнь к лучшему.
Разин начал с типичного рейда к берегам Персии, какие часто совершали казаки. По дороге он захватил на Волге суда, принадлежавшие царю, патриарху и гостю Шорину, и вышел в Каспийское море. Казаки захватили Яицкий городок (в устье реки Урал), казнили «начальных людей» и перезимовали, отбивая отряды, посылаемые из Астрахани. Весной 1668 г. Разин поплыл к персидским берегам, имея до 40 кораблей и маленькое войско. Он опустошил побережье от Дербента до Баку и вторгся в глубь страны. Весной был разграблен восточный (туркменский) берег моря. Базой Разина стал остров недалеко от Баку и устья реки Куры. Сюда шах направил настоящий флот из 50 судов и 4 тысяч воинов, но казаки разбили персов. В августе 1669 г. флотилия с добычей хотела вернуться на Дон, но в Астрахани ее поджидали царские войска. Разин ушел в море и вернулся лишь после договоренности о разделе добычи. Он вынужден был отдать большую часть (в том числе половину пушек), продав остальное на рынках Астрахани. Сам Разин был под условным арестом, проводя время в ставших легендой пирах. Он покинул город без разрешения (4 сентября 1669 г.), ушел вверх по Волге, к 1 октября занял Царицын и двинулся дальше на Дон, где укрепился в городке Кагальнике. Сюда стали собираться беглые крестьяне, видевшие в Разине долгожданного вождя.
Правительство готово было смотреть сквозь пальцы на выходки казаков и послало в 1670 г. Разину царскую грамоту, спрашивая о его дальнейших намерениях и приглашая на службу. Надо было принять окончательное решение. Грамоту начали обсуждать на «кругу», но Разин спровоцировал убийство царского посла Евдокимова, таким образом фактически объявив войну Москве. Весной казаки окружили Царицын, а посланные из Астрахани стрельцы присоединились к ним. В июле 1670 г. Астрахань была взята почти без сопротивления. В городе ввели самоуправление по казацкому образцу, избрали атаманов, есаулов и казначеев; объявили о свободе торга и выпустили из тюрем заложников. Разин с десятитысячным войском пошел вверх по Волге «с боярами повидаться», к нему присоединялись крестьяне и посадские, города (Самара, Саратов) сдавались без боя. В сентябре был осажден Симбирск, сильная, недавно построенная крепость с большим войском воеводы Мстиславского. На помощь к нему шел из Казани князь Барятинский, но Разин встретил его и разбил. Удалось поднять значительную часть Поволжья на восстание; войско казаков пополнилось марийцами, татарами, мордвой. Были захвачены новые города (Саранск, Пенза, даже Шацк и другие). Волнения дошли до Соликамского, Вятского и Устюжского уездов на севере. Грабили боярские и помещичьи усадьбы, дворы ростовщиков, даже монастыри (Макарьевский Желтоводский). «Прелестные грамоты» Разина читали по всей России, а его посланцы появлялись и под самой Москвой.
Однако осада Симбирска затянулась, а охватить восстанием всю страну не удалось. На Слободской Украине казаки брата Разина, Фрола, и его дяди, Никиты Черетенка, отступили. (Родня Разиных сражалась рядом с ним: в одном бою стрельцы захватили даже мать Степана, Матрену Говоруху.) Правительство понимало, что надвигается новая Смута. Алексей Михайлович собрал полное дворянское ополчение (до 60 тысяч людей), двинув его в Поволжье. Барятинский все же пробился к Симбирску, где два дня, 2–3 октября, кипел ожесточенный бой. Разинцы не выдержали ударов полков иноземного строя и рот европейских наемников и отступили с большими потерями. Степан в бою был изранен («рублен саблей и застреляй из пищали»). Уйдя на стругах, он смог укрепиться только в Кагальнике и собирался предпринять весной новый поход. Но правительство уже договорилось с низовыми казаками: атаман Яковлев пошел из Черкасска на Кагальник, взял его приступом и захватил братьев Разиных. 6 июня 1671 г. Степан был казнен на Красной площади в Москве.
Борьба прекратилась не сразу. В 1671 г. казаки из Астрахани пытались подняться по Волге, но неудачно. Долго пытались строить засеки и даже возводить валы со рвами, отбивая царских воевод, свирепость которых в подавлении бунтов была предельной: уничтожались целые селения, и порой в уезде количество дворов после усмирения падало процентов на двадцать. Но угрозы массовых выступлений уже не было, и в 1673 г. Алексей Михайлович имел все основания принять поздравление с подавлением бунта от английского короля Карла II, которому раньше помог в борьбе во время английской революции, прислав дорогие меха.
Напомню, что контакты Москвы и Лондона во второй половине XVI в. начали налаживаться, благодаря созданию англичанами особой Московской компании для торговли с Востоком через русские земли. В 1645 г. в Англию прибыл русский гонец с известием о восшествии на престол Алексея Михайловича, а также с просьбой о займе и найме войска для службы в России. Получив известие о том, что в стране уже три года идет война короля Карла I с парламентом, гонец Герасим Дохтуров отказался вести переговоры с последним, и вскоре привилегия англичанам беспошлинно торговать в Архангельске была отменена. Царь оказал прямую помощь сыну казненного короля, Карлу II: когда в 1650 г. в Москву прибыл его посол, то получил заем на огромную сумму в 20 000 руб., правда, выплаченный не деньгами, а мехами и отчасти хлебом.
Устройство и действия «самоуправляющейся вооруженной ватаги» Разина, с ее массой небольших судов, вооруженных пушками; речными и морскими операциями на торговых путях; захватами прибрежных крепостей и базами на морских островах, более всего напоминают устройство «пиратских республик» Индийского океана и Карибского моря XVII–XVIII вв. Можно лишь догадываться, какой виделась Разину конечная цель начатой им войны – но это, конечно, не просто грабеж в масштабе всей страны. Разин выступал как защитник угнетенных. Судя по действиям в завоеванных городах, ему виделось создание «казацкой страны» со справедливым царем во главе, но без бояр, крупных землевладельцев, откупщиков и ростовщиков. Методы его, в духе Средневековья, были насыщены примитивным варварством: массовыми казнями и расправами без суда; пытками и поджогами (так погиб первый парусный корабль европейского типа, построенный по приказанию Алексея Михайловича, бриг «Орел»). Все эти черты Разина нашли яркое отражение в народных песнях и сказаниях, сложенных о любимом герое.
РасколНе менее крупным движением, показавшим глубину противоречий в позднем Московском царстве, был церковный раскол, социальная борьба, облеченная в религиозную форму, что типично для Средневековья. В основу расколалегла борьба духовной власти со светской за главенство в обществе. Ее начал близкий Алексею Михайловичу (царь звал его «собинным другом») и крайне властный патриарх Никон. Он выступал против вмешательства в управление церковным имуществом и финансами, против создания Монастырского приказа (для сбора податей с крестьян, принадлежавших Церкви, и суда над духовными лицами). Борьба напоминала соперничество между императорами Священной Римской империи и римскими папами, имевшее место в Европе на несколько веков раньше. Похожи были и многие аргументы Никона. Он mhofo писал о «двух мечах» власти, светском и духовном. Патриарх получает свой «меч» и власть непосредственно от Бога, царь же – из рук патриарха. Поэтому же власть царя – как свет месяца, отраженный от солнца (Церкви). Никон придавал большое значение символике, публичным акциям. Такие обряды, как «шествие на осляти в неделю Ваий» (вербное воскресение), когда пеший царь вел за узду белого коня, на котором восседал патриарх, по Красной площади, показывали, что духовная власть выше светской. Перенеся из Соловков останки митрополита Филиппа, убитого по приказу Грозного, патриарх добился, чтобы царь произнес над мощами покаянную речь. Титул патриарха уровняли с царским и называли его «великим государем». Никон даже пытался управлять страной, когда царь оставлял столицу (начальники приказов являлись к нему по утрам с докладами), и, пользуясь влиянием на царя, вмешивался во внешнюю политику. Двор патриарх содержал с царской роскошью: ведь на его землях было около 125 тысяч крестьянских дворов, то есть жило примерно полмиллиона населения, и оно постоянно увеличивалось (Никон «приписывал» к своим новым монастырям земли старых, не гнушался захватывать землю опальных бояр). Его богатства были столь велики, что только на оклад к иконе Иверской Богоматери он издержал гигантскую сумму в 14 тысяч руб. Одной из его «затей» был символический перенос из Палестины в новый центр православного мира «священной топографии». Недалеко от Москвы, на реке Истре, начали строить резиденцию патриарха «Новый Иерусалим». Его ядром был собор Воскресения, план которого точно повторял план храма над Гробом Господним и Голгофой в Иерусалиме, построенный еще при Константине Великом в IV в. Но большинство проектов Никона не были доведены до конца. Самодержавию нужна была послушная Церковь. После большой ссоры с царем Никон затворился в Новоиерусалимском монастыре, уверенный, что его позовут назад. Но, как часто бывало при дворе, отсутствие укрепило позиции его врагов. В 1666 г. для расследования дел патриарха собрали особый собор и лишили его архиерейского сана, отправив на север, в Ферапонтов монастырь. В вину ему поставили самовольное оставление паствы, гордость и дерзость с царем.
Одновременно с многими претенциозными проектами Никон задумал дело, которое с его уходом получило совершенно неожиданное развитие, расколов общество. С кружком близких ему священников (они называли себя «ревнителями благочестия») он начал реформы богослужения. Было известно, что в текстах книг, по которым служили в храмах, из-за многовекового переписывания скопилось много ошибок (в монастырях Афона, например, русские служебные книги считали чуть ли не еретическими). Решено было найти греческие оригиналы книг и выправить («сверить») по ним русские переводы. В 1653 г. ученый монах Арсений (Суханов) привез с Афона 600 «оригиналов», и началась сверка. Значительные изменения были внесены и в обряд. Предписывалось креститься не двумя распрямленными пальцами, а тремя, сложенными в щепоть. Запрещалось служить одновременно на нескольких престолах. Вести службу (то есть читать Евангелие и петь) можно было теперь в одном храме только на одном алтаре (раньше служили на нескольких, и разобрать слова было очень трудно). Вместо двоекратного вводилось троекратное пение «Аллилуйя».
Церковная реформа была одобрена собором. Но часть верующих и священников (особенно низшего духовенства) увидела в этом возвращении к более древней греческой традиции лишь искажение обряда. Нашлись защитники даже у совершенно неприемлемой «параллельной службы» на многих алтарях: она сокращала время пребывания в церкви, дорогое для работников, которым иначе пришлось бы проводить на службе целые дни. Искажения, убранные из книг и обрядов, были давно привычны верующим. От бесконечного повторения священниками (часто не знавшими грамоты и учившими службу «с голоса») они стали нераздельны со всем ходом богослужения на Руси. Все это было частью традиции, завещанной отцами и дедами, а все, что восходило к «старине», считалось достойным сохранения и подражания. Буква текста и жест обряда ценились русскими людьми, которые само слово «вера» понимали как «верность», то есть точное следование образцу. Исправлениям сопротивлялись как «порче». Приверженцы старины, истовые проповедники, готовые на мученичество, отказались им следовать. Эту часть Русской Церкви стали называть раскольниками, или староверами. Во главе них стояли Иван Неронов, протопоп Аввакум (Петров) и боярыня Морозова. Ожидаемый в 1666 г. очередной «конец света» («подтвержденный» чумой 1664 г. и неурожаем 1665 г.) усилил их позиции. Раскол, начавшийся в кругу московских купцов, бояр и кремлевских священников, нашел поддержку посада, крестьян и казаков, священства и некоторых монастырей – у всех, кто чувствовал за «никонианством» наглое вмешательство власти в «святая святых» народных верований. Проповеди Аввакума и его сподвижников воспринимались как общая, а не только церковная, критика. Спасаясь от «никониан», крестьяне бежали на север, в Сибирь, на Дон, где создавали тайные скиты. Раскольники поддержали Разина и не сложили оружия после разгрома его восстания, продолжив борьбу в Соловецком монастыре (1668–1676 гг.), подчинения которого смогли добиться только военной силой. «Пассивное» сопротивление режиму (в котором, по мысли раскольников, воплощалось мировое зло) или бегство от него включало такие неистовые формы, как массовое самосожжение (в некоторых случаях страшной смертью одновременно гибли тысячи людей, известен случай самосожжения 9 тысяч верующих). Позже староверы окажут сопротивление реформам Петра I и не раз поддержат выступления крестьян и казаков, включая Пугачевщину.
Староверы отрицали «новизну» не только религиозных обрядов, но также в жизни и быту (боролись с западными мотивами в искусстве, отказывались курить табак, пить спиртные напитки, кофе и чай). В дальнейшем, в XVIII–XIX вв., они создадут свою культуру, близкую по морали буржуазному протестантизму Европы, и сыграют большую роль в развитии торговли и финансов России, в сохранении и изучении памятников древнего церковного искусства и письменности. Старообрядческая церковь существует и сейчас.
Пешком до КитаяНачав двигаться в XVI в. на восток, «московские люди» не могли остановиться, поскольку долго не встречали сопротивления других государств. В Сибири плотность населения была низкой, а местные племена малоразвитыми. Этот «вакуум» как бы всасывал в себя русских первопроходцев. В Сибирь шли прежде всего за ценными мехами. Их брали как подать государству; меняли на дешевые ремесленные изделия или спиртные напитки; просто отнимали. Сибирь стала рынком для сбыта изделий молодой русской мануфактуры (железных, медных и бронзовых бытовых изделий, от орудий труда до зеркал, пряжек). Поэтому «освоение» Сибири можно назвать и колонизацией. Безмерно выгодное для правительства движение в Сибирь отвечало потребностям самых активных и мало управляемых групп, например казачества и беднейшей части населения, в поисках новых источников благополучия. Кроме того, «за Камень» (то есть за Урал) можно было скрыться от возраставшего гнета помещичьего государства. Шли туда в основном московские служилые люди, стрельцы, казаки и промышленники, в меньшей степени – крестьяне. Но это не значит, что русские в Сибири не занимались земледелием: большинство первопроходцев было хорошо знакомо с крестьянским трудом, а гарнизонам «острогов» требовался хлеб, везти который из центра страны было дорого и далеко. Правительство предпочитало помогать переселенцам ссудами и инвентарем. Начали заниматься земледелием и местные народы.
Освоение Сибири сходно с такими процессами, как движение испанских и португальских конкистадоров по Южной Америке (XVI–XVII вв.) и «освоение» Запада Соединенных Штатов американскими пионерами. Оригинальные черты русской колонизации – ее «сухопутный» характер, территориальное и государственное единство колонии и метрополии, не разделенных морями. Технологический разрыв между культурой коренных народов Сибири (особенно ее южной части) и русских первопроходцев был все же менее разителен, чем между европейцами и коренными народами Америки, что делало более простым и естественным их контакт и смешение. Колонизация севера Евразии помогла упрочить в России экономику «экстенсивного характера», при котором развитие основано не на росте производства и улучшении техники, а на расширении государственной территории, умножении населения и природных ресурсов.
К концу XVI в. русские контролировали весь бассейн реки Обь с притоками, а к концу XVII в. дошли до северо-восточной оконечности Евразии и Тихого океана. Их продвижение шло двумя потоками: по рекам Кете и Енисею, затем по реке Верхней Тунгуске, откуда суда с припасами переводили волоком в верховья Лены. Более северный путь вел из Мангазеи и Туруханска по реке Нижней Тунгуске и волоком на Вилюй, приток Лены. По пути стрельцы и казаки ставили небольшие деревянные остроги, служившие торговыми факториями, военными крепостями и административными центрами, из которых местное население облагалось податью (ясаком) (1619 г. – Енисейский острог; 1632 г. – Якутский, 1652 г. – Иркутское зимовье). К середине XVII в. уже осваивали берега озера Байкал, рек Ангары и Енисея. Началось покорение тунгусов (эвенков), якутов и бурят. Енисейские кыргизы, наследники традиций средневекового Кыргизского государства, оказали отчаянное сопротивление. Нежелание переходить в подданство московского царя было понятно: значительный ясак (обычно соболями) вымогали зачастую с помощью насилия, в залог брали жен, детей и родню местной знати. Вымогательства или грабеж были в Сибири заурядным явлением. С их помощью собирали так много мехов, что пришлось даже издать указ, запрещавший воеводам вывозить из Сибири «мягкой рухляди» на сумму больше 500 рублей.
Помощь в продвижении по северным территориям оказывал опыт, накопленный в ходе арктического мореплавания охотниками на морского зверя и торговцами Русского Севера в XVI–XVII вв. Отважные промышленники, двигаясь по Сибири на север, достигли Северного Ледовитого океана и вдоль кромки берегов Евразии дошли до Чукотки. В 1639 г. атаман Копылов, перевалив Становой хребет, добрался до Охотского моря; через десять лет (1648) устюжанин Семен Дежнев, выйдя из Якутска, по реке Колыме вышел в океан и достиг мыса, названного его именем, где столкнулся с местным населением – чукчами.
Движение на восток в конце концов привело русских к границам китайской империи Цинь. В 1643 г., когда казаки спустились из Якутска к реке Амур, перед ними внезапно открылся не дикий край, населенный племенами охотников, а прекрасно обработанные земли: цветущие поля ячменя, овса и проса, фруктовые сады и огороды; пастбища лошадей и овец. Жители края, дауры, были вассалами китайского императора. Один из промышленников, Ерофей Хабаров, в 1649 г. собрал «охочих людей» и напал на даурские селения. В 1651 г. на месте городка даурского князя Албазы поставили Албазинский острог, а в 1654 г. на притоке Амура – Нерчинский. В конце концов разгорелась война, и в 1685 г. китайские войска осадили Албазин. Археологические работы на месте острога в 1990-х гг. открыли интереснейшие следы его обороны: превращенные в кладбища жилища защитников, русское и китайское оружие. Борьба шла до 1689 г., затем был заключен первый русско-китайский мирный договор: русские уходили с Амура, и пограничными реками между государствами становились Аргунь и Горбица. Первые русские посольства достигли Пекина еще в 1650-х гг., а в 1670-х гг. туда совершил путешествие дипломат и ученый Николай Спафарий.
В общем движении русских на восток Евразии традиционным было юго-восточное направление, между Нижней Волгой и Яиком и дальше в глубь Азии. Кочевавшие здесь кыргизы в 1656 г. признали себя подданными московского государя, но дальше на восток открывались новые просторы: здесь в 1630-х гг. возникло единое государство калмыков Джунгария, в котором правили князья-тайши, а религией был ламаизм (разновидность буддизма). В 1670-х гг., при тайши Галдане, воспитанном на Тибете, конница калмыков доходила до границ Китая и Монголии. К границам Западной Монголии подходили и русские отряды. Здесь в верховьях Енисея, на озере Алтын-Норе, лежало государство Алтын-ханов («золотых царей») – сильная держава, повелевавшая кочевыми племенами. С ним Москва завязала дружеские сношения в 1616 г., но в середине XVII в. обмен посольствами сменил обмен набегами, особенно на русские остроги Красноярска, Томска и Кузнецка.
К концу XVII в. Московское государство очертило круг своих интересов на Востоке и начало освоение огромных, но мало населенных территорий, восточный край которых обозначил Тихий океан (в начале XVIII в. будет открыт Берингов пролив между Евразией и Америкой). Это был контур огромной, многонациональной империи. Южный край ее не был четко отмечен географически: здесь ощущалось сопротивление азиатских государств, но перспективы движения сохранялись. У Московского государства не было достаточно сил, чтобы продолжать расширение границ, – но в ближайшие два века его преемница, Российская империя, сделав неожиданный рывок в развитии, продолжит освоение Дальнего Востока и Средней Азии. Но сам этот рывок обеспечат огромные средства, получаемые от покоренных народов Востока, с достижениями техники Запада.