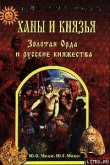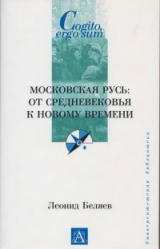
Текст книги "Московская Русь: от Средневековья к Новому времени"
Автор книги: Леонид Беляев
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 20 страниц)
Считается, что Московское государство в XVII в. оставалось «закрытым» и боялось сближаться с европейскими странами. Но на самом деле западное влияние ощущалось постоянно. И не будь этой постепенной подготовки к вступлению в семью европейских народов, будущие реформы Петра Великого были бы обречены на безусловный провал.
Московия начала осознавать себя европейским государством и «копить» черты западного влияния (в военном деле, религиозном искусстве, народном быте) по крайней мере с конца XV в. Начало Реформации значительно облегчило контакты с Европой в XVI в.: больше не было «единого католического фронта», а страны, где победил протестантизм, стремились к общению с православным миром. В эпоху Смуты Московию наполнило настоящее «половодье» иностранцев. Русские люди ближе познакомились с «избранными представителями» европейских народов. Прежде всего это были военные: грубые наемники-ландскнехты из Швеции, Франции, Швейцарии, Шотландии и германских государств. С Лжедмитрием I и вслед за ним приехали вельможи и шляхта из Польши и Литвы; авантюристы всех мастей; купцы. Выбор, конечно, оставлял желать лучшего, но даже у этих людей было чему поучиться. Многие из них преданно служили нанявшим их правительствам или лицам, а по окончании интервенции остались в России. Окончание Тридцатилетней войны резко понизило в Европе спрос на военных, и Руси легче стало получать нужных специалистов – отряды наемников (вместе с капитанами, знаменами и оружием), инструкторов для обучения полков «иноземного строя», саперов. Новая «техника войны» требовала крепостей «бастионного» типа, с укреплениями из земли, обложенной дерном. Такие крепости как нельзя лучше подходили к рельефу и традициям строительства Руси, их стали возводить в городах и на засечной черте. При Алексее Михайловиче стали задумываться над строительством военного флота европейского образца и спустили на воду построенный голландцами парусный корабль «Орел».
Среди иностранцев многие были «невоенных» профессий: купцы и переводчики, врачи и аптекари, часовщики и ювелиры, слесари, музыканты и даже парикмахеры (что означает, что в Москве уже носили парики и европейскую одежду). Некоторые из иноземцев внесли немалый вклад в создание русской культуры. Купец Тоннис Фенне и английский пастор Ричард Джеймс в начале XVII в. первыми составили «толковые словари» русского языка, записали русские былины, интереснейшие пословицы и поговорки, раскрывающие духовный мир (чего стоит одно: «Торговать как воевать: кому Бог пособит»). Записки путешественников позволяют увидеть жизнь Руси «со стороны» или под неожиданным углом.
Иностранцев в XVII в. было уже так много, что Церковь начала беспокоиться и потребовала законодательно ограничить их присутствие. Приезжим иноверцам запрещено было носить русское платье и посещать церкви, селиться среди москвичей. Для них выделили особые участки за пределами городских укреплений: за Калужскими и Таганскими воротами и в Заяузье, в особой Иноземной слободе. При царе Михаиле она насчитывала до тысячи семей и быстро росла.
В XVII в. Московская Русь пережила период особого интереса к постоянному и хорошо изученному противнику, Речи Посполитой. При Алексее Михайловиче польская мебель и картины польских художников становятся украшением богатых хором, а польская одежда – обычной в боярских и дворянских кругах. После воссоединения с Украиной одним из важных источников знакомства с европейской культурой стал Киев и его духовная академия, созданная митрополитом Петром Могилой. Там изучали греческий и латынь – язык международного общения и науки Средневековья. Из Киева в Москву приглашали учителей и переписчиков церковных книг. Монахи из Киева перевели учебники (катехизис, грамматику, арифметику) и книги для чтения.
Предшественники Петра Великого, управлявшие страной, – отец Алексей Михайлович, единокровный брат Федор Алексеевич и сестра Софья Алексеевна – понимали важность европейской культуры для России. Алексей Михайлович превратил старую подмосковную усадьбу Романовых, село Измайловское, в настоящую «опытную станцию», где пытался развести розы и виноград, шелк-сырец и хлопок; заказал строительство огородных машин, а также пытался развести «аптекарский огород». При нем Посольский приказ начал выпуск рукописного подобия газеты о европейских событиях («Вести» или «Куранты»), а в селе Преображенском создали «комедийную хоромину», где для царя и бояр разыгрывали сценки на поучительные библейские сюжеты («Как Юдифь отсекла голову Олоферну», «Притча о блудном сыне»). Их тайком смотрела и царица с приближенными.
В XVII в. русские люди стали и сами гораздо чаще ездить за границу и оказались, в общем, способны правильно воспринимать тамошнюю жизнь. Посланник царя Алексея Михайловича, Петр Иванович Потемкин, был в Испании, Франции (1667–1668) и Англии (1681). В Париже он посетил представление комедии Мольера «Амфитрион».
В течение всего XVII в. в Москве не переводились пристрастные сторонники европейской культуры (иные из них даже покидали страну, как подьячий Посольского приказа Григорий Карпович Котошихин, бежавший в Швецию, который оставил ценное, но не совсем объективное описание государственного порядка России при первых Романовых). Многие «просвещенные бояре» видели, что «западный» путь развития неизбежен для России (среди них А. Ф. Ордин-Нащокин, А. С. Матвеев, В. В. Голицын). Дипломат Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин поражал приезжавших в Москву иноземцев знанием европейских событий и языков (латынь, польский, немецкий). Боярин Артамон Сергеевич Матвеев, также дипломат, женатый на англичанке Гамильтон (что само по себе вызывало изумление), организовал у себя в доме настоящий «салон», где обсуждали европейские новости, книги и спектакли; в доме был даже театр, и дворовые обучались комедийному искусству. Князь Василий Васильевич Голицын, фаворит царевны Софьи и фактический правитель государства, завел в своем дворце европейскую обстановку и библиотеку. Конфискационная опись его имущества – любопытнейший документ, демонстрирующий венецианские зеркала рядом с картинами и изразцовыми печами голландских мастеров, французскую штофную обивку и резное дерево.
Западная культура приходила в Москву и «кружным путем», благодаря выходцам из Греции и славянских стран, таких как хорват Юрий Крижанич. Крижанич призывал славян объединиться против ненавистных «немцев» и заимствовать из Европы не бытовую мишуру и светские привычки, а то, что поможет сделать Россию процветающей и благоустроенной страной, развить умственную культуру, побороть страшный недостаток – косность. В 1687 г. была утверждена в Москве при Заиконоспасском монастыре первая Академия, получившая название Славяно-греко-латинской. Ее профессорами стали братья Лихуды, ученые монахи из Греции, а настоятелем монастыря – писатель Сильвестр Медведев. Громадным авторитетом пользовался Симеон Полоцкий, знаток церковной философии и богословия, учитель царевича Федора Алексеевича.
В преддверии реформПри Федоре Алексеевиче (1676–1682), вступившем на престол четырнадцатилетним юношей, власть держали сторонники Нарышкиных, из семьи которых происходила царица Наталья Кирилловна, во главе с А. С. Матвеевым (в его доме она воспитывалась). Но возросло и влияние князя В. В. Голицына, руководившего в 1681 г. реформами «устроения и управления ратного дела» и системы налогов. Была введена единая подать, «стрелецкая», а войско стало делиться не на сотни (память о делении татарских туменов), а на роты, по европейскому образцу, под командой иностранных инструкторов. Менялось и управление страной. Стало ясно, что знатность рода не должна служить причиной назначения на высокие должности, и в 1682 г. издали указ об отмене местничества, торжественно сожгли разрядные книги и окончательно запретили споры о «местах».
По смерти (апрель 1682) царя Федора Алексеевича на престол могли претендовать два других сына Алексея Михайловича: старший Иван (по матери Милославский), болезненный и слабоумный, и заметно превосходивший его в развитии младший, Петр (по матери Нарышкин). Властный патриарх Иоаким поддержал кандидатуру Петра. Но Милославские сумели воспользоваться вечным недовольством московских стрельцов, которые видели себя гвардией царя и не желали подчиняться Стрелецкому приказу и своим полковникам. Милославские пустили слух, что Нарышкины погубили царя Ивана. Этого было достаточно, чтобы 15 мая 1682 г. стрельцы по набату поднялись из слобод на Кремль и потребовали выдачи Нарышкиных. Царица Наталья Кирилловна, в окружении бояр и духовенства, показала с дворцового крыльца двух царевичей. Толпа стрельцов отхлынула, но бессмысленно-дерзкое поведение князя Долгорукого (он сбежал с крыльца и стал кричать на стрельцов, понося их) вызвало взрыв. Князь был убит (стрельцы, «взем за ноги и вонзя копия в тело, влачили в Спаские ворота на Красную площадь… и повергоша… у Лобнова места, сечаху мертвое тело… в мельчайшия частицы» (Сильвестр Медведев, Созерцание краткое лет 7190, 7191 и 7192, в них же что содеяся во гражданстве // Чтения в Обществе истории и древностей Российских, 1894, № 4, Отд. III, с. 55), а вместе с ним Артамон Матвеев и приверженцы Нарышкиных. Всего погибло шесть бояр, двое дьяков, четыре стольника и люди более низких рангов. Холопы же разгромили Судный и Холопий приказы, уничтожив все акты. Стрельцы торжествовали победу: они воздвигли первый в Москве публичный памятник – «столп» с описанием своих «подвигов». Им выдали жалование и присвоили желанное наименование «надворной пехоты». От имени обоих царевичей теперь должна была править их сестра царевна Софья Алексеевна, которая фактически делила власть со своим фаворитом, князем В. В. Голицыным.
Новое правление не полностью удовлетворило «надворную пехоту». Стрельцы-раскольники требовали возврата к старой вере, и Софья разрешила публичный диспут (он состоялся в Грановитой палате и длился целый день, не дав окончательного результата). Начальник Стрелецкого приказа, князь И. А. Хованский, тоже склонялся к старой вере. Возникла опасность дворцового переворота, поэтому Хованского с сыном схватили и казнили. Когда слух об этом достиг населения города, он мгновенно превратился в крепость, и стрельцы раздали оружие посадским людям. Собранное дворянское ополчение отрезвило буйные головы, и царевне не пришлось брать собственную столицу штурмом. Стрельцов лишили завоеванных привилегий: их столп был снесен, зачинщики бунта сосланы, во главе приказа поставлен Федор Шакловитый, преданный Софье. (Это народное возмущение получило в истории название «Хованщина».)
В. В. Голицын был человеком опытным и знающим, образованным и глубоко преданным идее «европеизации» страны. Он понимал слабость (прежде всего военную) Московского государства в сравнении с ее западными соседями. Но время требовало активных действий, – геополитическая обстановка угрожала окончательно отодвинуть Россию в круг «восточных деспотий», обреченных в будущем на колониальный раздел. Нужно было подтвердить права на полученную после Андрусовского перемирия часть Украины. После войн с гетманом Дорошенко, Турцией и Крымом этого удалось добиться: в 1681 г. в Бахчисарае заключили мир, оставлявший Левобережную Украину и Киев за Москвой; в 1686 г. «вечный мир» с Россией подписала и Польша (на условиях Андрусовского перемирия). Россия, в союзе с Австрией и Венецией, должна была выступить теперь против Турции. Поэтому В. В. Голицын дважды водил войско на Крым (1686, 1689), доходя до Перекопа. Неудачно организованные походы в полупустынную степь привели к большим потерям и кончились ничем. Это сильно подорвало положение Милославских и самой Софьи. Недовольная знать повернулась в сторону Нарышкиных и подросшего к тому времени царевича Петра. Его «потешное войско», обученное европейскими инструкторами, укреплялось в военных лагерях, Преображенском и Семеновском. Стороны готовились к решительной схватке, и в августе 1689 г. Софья, чувствуя, что время уходит, стянула в Кремль полки стрельцов. Предупрежденный в последний момент, Петр ускакал в Троицкий монастырь, куда к нему ушли «потешные полки» и часть стрельцов. Знать и патриарх Иоаким остались за царем, и это решило дело. Софья вынужденно уступила власть, князь Голицын уехал в подмосковную деревню. Стрельцы выдали военачальников, и Петр I торжественно вступил в Москву. Началась новая эпоха в истории России.
Заключение. Чем же была Московская Русь?Что же за страну, что за общество строили жители Москвы и Московии, начиная со времен Даниила Московского? На этот вопрос нет единого ответа. Это только людям XVIII в. допетровская Русь казалась чем-то абсолютно неподвижным, омутом застоя и всеобщего сна. На самом деле это не так. Одно только стремительное продвижение на Восток характеризует Московскую Русь как динамически развивающуюся структуру. И московское общество никак не назовешь «вялым», лишенным внутреннего развития. Его социальные слои находились в состоянии постоянного брожения. Да и срок, отпущенный Москве для создания своей цивилизации, не располагал к медлительности. У нее было «на все про все» четыре столетия развития, из которых только два – в условиях независимости. Московская Русь претерпела в середине XVI в. длительную и жестокую диктатуру Ивана Грозного; на рубеже XVII в. – гражданскую войну общенационального масштаба, а на протяжении этого столетия – серию казацких, крестьянских, городских мятежей. Можно сказать, что становление Московского государства не полностью завершилось даже к началу XVIII в.: основные идеи и принципы были еще очень расплывчатыми.
Но оригинальные черты, порожденные всем ходом становления Московского государства и великорусской народности (два понятия, составляющих единое целое), проявились в полном объеме. Они сформировались к XVI–XVII вв., но отчетливо просматриваются раньше и продолжаются в грядущем, в России Нового времени. Это, прежде всего, военно-служилый уклад государства и тенденция (не всегда осуществимая) к централизации как управления, так и всего хозяйства, доходящая до порабощения значительной части населения. В идеологической сфере этому соответствовали сильно выраженный монархический принцип и убежденность в уникальной, высокой миссии православия.
ЧАСТЬ II
ДЛЯ ТЕХ, КТО ЛЮБИТ ЗНАТЬ ПОДРОБНОСТИ
В первой части мы рассмотрели историю Московской Руси согласно принятому порядку, от ранних событий к поздним, согласно их естественному хронологическому течению. Однако в рамки такого изложения трудно уложить рассказы о судьбах людей, о наиболее знаменитых городах и монастырях, об устройстве многих общественных институтов. Эти отдельные блоки сведений, как каменные глыбы, загромождают дорогу и мешают связному изложению. В то же время читателю трудно отказать в праве знать больше о личностях, землях и явлениях, которые упомянуты в тексте (или подразумеваются, исходя из него). Наверняка захочется узнать побольше о вскользь упомянутом Великом Новгороде (конечно, он заслуживает не краткой статьи, а отдельной книги в нашей серии); захочется поближе познакомиться с чередой тверских князей (большинство которых даже не названы нами до сих пор по имени); невозможно будет не предложить хотя бы некоторые детали устройства русского войска и, одновременно, некоторые сведения о главных монастырях Московской Руси – своеобразных средневековых «государствах в государстве». В нарративе даже такие заметные явления, как отдельные города, выглядят обычно похожими друг на друга и различаются только названием и географическим положением, а ведь они очень разные (недаром говорят: «Что город – то норов»). Так что имеет смысл посвятить каждому заметному городу хотя бы краткую, но отдельную «справку». В ходе такой работы сложилась своего рода маленькая энциклопедия, которая и составила второй раздел книги. Читатель, привыкший к стремительности в изложении событий, может этот раздел пропустить, но для тех, кто любит разбираться в истории самостоятельно, он представит особый интерес: ведь это дополнительный материал для собственных размышлений и построений.
ВОЙСКО
В русских княжествах XIII–XV вв. и позднее в Московском царстве войско было предметом постоянных забот, ведь его мощь была первым условием государственного суверенитета и экономического процветания. Сперва неизбежная упорная борьба за независимость от Орды и первенство на Руси; потом оборона границ огромной протяженности (от природы почти неукрепленных); наконец, быстрое продвижение на восток и гораздо более медленное на запад – все это требовало максимального напряжения военных сил страны.
На устройстве войск Московской Руси, на их стратегии, тактике и вооружении сказались два важнейших геополитических историко-культурных фактора. Государству приходилось, вплоть до конца XVII в., сосредотачивать силы на юге и востоке против больших масс сравнительно легко вооруженных, но крайне мобильных конных воинов, которые нападали внезапно и так же внезапно исчезали. Им необходимо было противопоставить хорошую дальнюю разведку, а также достаточно многочисленную столь же мобильную кавалерию. Требовалось также ограничить свободу маневров кочевников, чтобы не позволить им прорваться внутрь коренной территории государства: охранять броды и пригодные для конницы дороги на границе, устраивать завалы, укрепленные заставы и городки (так возникли «засечные черты»). Но борьба со степняками не требовала особенно мощных крепостей: враги рассчитывали больше на внезапность и редко осаждали готовые к отпору большие города. Для отпора в степи хорошо подходили даже поставленные по кругу обозы, а особенно – разборная деревянная крепость, так называемый «гуляй-город». Тогдашние артиллерия и вооруженная огнестрельным оружием пехота в открытом поле представляли скорее обузу, чем поддержку, поэтому против степняков боролась в основном поместная конница и служилые отряды казаков. Основным их оружием на дистанции был лук со стрелами, а в ближнем бою – сабля и копье.
Однако этого было далеко недостаточно для войны на западных рубежах. Общая тенденция развития военного искусства в Европе в XIII–XIV вв. состояла в выдвижении на первый план как раз пехоты и артиллерии (этот процесс на Западе часто называют «пороховой революцией»). Главную роль играли уже не рыцари, и вообще не конница и не полевые сражения, а вооруженная огнестрельным оружием пехота и борьба за укрепленные по последнему слову инженерии крепости. Поэтому Пскову, Новгороду, Твери и Московскому государству пришлось в XIV–XVI вв. вести борьбу за мощные каменные крепости врага, а также строить собственные. Наиболее успешным организатором военных сил, в какой-то степени отвечавших требованиям новой «западной» стратегии, в конечном счете оказалась Москва. Она одна, благодаря сложившейся традиции сильной центральной власти, смогла сосредоточить необходимые средства для организации дорогостоящего производства огнестрельного оружия, подготовки больших отрядов обученных специалистов-профессионалов, строительства огромных крепостей. И все это наряду с содержанием многочисленной легкой «поместной» конницы.
Понятно, что в этой ситуации «полезность» члена общества определяли, исходя из степени его участия в укреплении военного могущества страны. Каждый житель Московии рассматривался либо как служилый воин, либо как тот, кто обеспечивает его всем необходимым, – между государством и войском можно было ставить знак равенства. Войско требовало огромных затрат, но товарно-денежные отношения оставались неразвитыми, а плотность населения на значительной территории, нуждавшейся в защите, сравнительно низкой. Все это привело к необходимости, во-первых, занять военным делом очень значительный процент населения, а во-вторых, к введению столь высоких дополнительных налогов на производство пороха, пушек и содержание корпуса воинов-профессионалов, что это повлекло к усиленному бегству крестьян и, как следствие, к ужесточению крепостнических законов. В-третьих, к сложению системы службы «с земли», при которой огромная часть воинов получала содержание не столько в денежной форме, сколько в виде закрепляемых за каждым пахотной земли («поместья»), обрабатываемой трудом зависимых крестьян.
Можно сказать, что, в соответствии с задачами двух направлений политики, «восточного» и «западного», велось формирование двух главных составляющих войска: поместной конницы и вольнонаемной пехоты. Испомещенный дворянин и владеющий землей, полученной по наследству, боярин были главными фигурами в войске по крайней мере до второй половины XVII в. Они должны были регулярно являться на службу «конно, людно и оружно», выступали в поход обычно как тяжеловооруженные конники, имея под началом отряды конных же военных слуг. Неявка грозила конфискацией земли, а выставление дополнительных вооруженных воинов позволяло надеяться на прибавку поместья. Службу тщательно контролировали, результаты контроля записывали в специальные десятни (списки смотров) и «разрядные» книги (подробные росписи полков и воевод), составление которых часто связывали с конкретным походом. Первые рукописи разрядов дошли до нас только от 1470-х гг., но полагают, что подобные записи вели уже при Дмитрии Донском. Так, например, к походу на Тверь 1375 г., донскому походу 1380 г. и новгородскому 1385 г. А в 1682 г. «разрядные» книги были окончательно отменены для уничтожения местничества. С XVI в. к конному «дворянскому» войску добавлялись полки служилых казаков.
Пехота, которая не играла значительной роли в войске до XVI в., состояла из служивших «по прибору», то есть нанявшихся непосредственно на службу к великому князю или царю и получавших оплату из казны воинов. Это были опытные стрелки с дорогостоящим огнестрельным оружием, которым их снабжало государство, – сначала пищальники (т. е. стрелки из ручных пищалей, «ручниц» – фитильных ружей, у которых порох поджигался особым фитилем), затем стрельцы (пользовавшиеся мушкетами, сначала с усовершенствованным фитильным, а позже с кремневым замком) и пушкари. При несовершенстве ранних образцов оружия успешную стрельбу обеспечивали лишь огромная сноровка и постоянное обучение, поэтому пищальниками и стрельцами (что приблизительно соответствует европейским «аркебузирам» и «мушкетерам») могли быть исключительно профессионалы.
В XIII–XV вв. основным на Руси оставалось холодное оружие, которое продолжало и развивало домонгольскую традицию. Даже монгольское нашествие не изменило коренным образом этого направления: ордынцы в степях пользовались не оружием, принесенным из Китая и Сибири, а традиционным половецким боевым набором, мало отличавшимся от русского. Правда, под влиянием Востока продолжалась замена меча (двулезвийного прямого оружия) на однолезвийную изогнутую саблю. Полностью она произошла на Руси в XV в., то есть раньше, чем в Европе (XVI в.), но значительно позже, чем у степных кочевников (с X в.). Преимущество сабли перед мечом в скользящем режущем ударе, который наносится всем лезвием, оставляя длинную и глубокую рану, но меч был более эффективен против европейского воина в тяжелых доспехах, поэтому он дольше задержался в Пскове и Новгороде. Для борьбы с рыцарством хороши были боевой топор (в XIV–XV вв. он значительно потяжелел) и булава (то и другое могло служить также символом командования), специальные граненые кинжалы и копья с узким граненым наконечником (прежде плоским и в форме ромба). Массовым оружием ближнего боя долго оставалось ударное копье; при столкновении больших масс войск древки, ломаясь, издавали характерный звук, упоминаемый летописцами (легкие метательные копья-сулицы также известны). Но к XVI в. главным оружием ближнего боя стала сабля, которой располагал каждый дворянин и очень многие слуги, количество же копий резко уменьшилось.
Традиционным оружием степняков был лук со стрелами, поэтому русским воинам пришлось научиться владеть им столь же искусно, стреляя на скаку, причем как перед собою, так и во все стороны, и назад. Налетая внезапно на противника, конники стремились осыпать противника тучей стрел и ускользнуть раньше, чем будет дан ответный «залп». Кроме того, обмен стрелами предварял рукопашную схватку в большом сражении и при осадах. Боевые граненые стрелы пробивали даже броню (у луков они делались черешковыми, у арбалетов – более массивными, пирамидальной формы с втулками). Арбалеты («самострелы»), судя по находкам стрел, были довольно распространены в XIII–XIV вв., но они не стали основным стрелковым оружием, – на Руси не было свободного бюргера, решительно противопоставившего в Европе арбалет рыцарской броне. Метательное оружие дополняли камнеметы-баллисты (большие самострелы), бросавшие каменные ядра, но с XIV в. началась замена их пушками, которые вскоре полностью изменили военное дело.
Защитный доспех русских воинов XIII–XVII вв. был металлическим или кожано-матерчатым (стеганые кафтаны-тегиляи). Голову защищал характерный для Руси с домонгольских времен шлем-«шишак»: заостренный кверху, с прутком для флажка и прикрепленной к ободу кольчужной сеткой (бармицей), закрывавшей шею и часть лица. Его делали индивидуально, под размер головы, могли украсить гравировкой, в отдельных случаях – золотой насечкой, священными изображениями и текстами; в парадные шлемы князей и царей вставлялись даже драгоценные камни. Существовали и более простые защитные «железные шапки». Тело покрывала кольчуга – рубаха, собранная из мелких колец (диаметром около 1 см), каждое из которых отдельно заклепано; она не стесняла движений воина, равномерно распределяя по телу вес металла. Более тяжелый кольчатый доспех, байдана, делался из крупных стальных шайб. Существовали и чешуйчатые доспехи (масса продолговатых, чуть выпуклых пластин, нашитых на кожаную основу и заходивших концами друг на друга, подобно чешуе). Кольчуга, байдана, пластинчатый или смешанного типа панцырь (юшман, бахтерец) суммарно назывались доспех, или бронь; а их защитные свойства позволяли сохранить жизнь, но не гарантировали полностью от сильных ушибов и ран. В эти доспехи позже стали включать большие цельнометаллические (булатные) круглые пластины («зерцала»), поручи. Средством защиты был и щит, функция которого в XIII–XV вв. постепенно менялась: из прикрывавшего все тело миндалевидного, длинного и малоподвижного, он превратился, по мере улучшения доспеха, в маленький круглый, предназначенный для активного отражения ударов. Его обычно делали из дерева, обтянутого кожей, а центр щита часто украшала личина (традиция, восходящая еще к античным временам) или другое центрическое изображение (звезда, розетка); миндалевидные щиты часто несли изображения львов, драконов и прочих устрашающих геральдических тварей. В XVI в. щиты почти исчезают из употребления.
О вооружении богатого дворянина и его слуг Дает представление описание: «быти ему… на коне, в пансыре, в шеломе, в зерцалех, в наручах, з батарлыки (тип поножей), в саадаке (лук в налучье с колчаном), в сабле, да за ним 3 человека на конях, в пансырех, в шапках железных, в саадацех, в саблях, один с конем простым, два с копьи, да человек на мерине с (вь)юком»; менее состоятельный являлся «на коне в тегиляе в толстом, в шапке в железной, в саадаке, в сабле, да человек на мерине с (вь)юком» (XVI в.). Защитного доспеха многие воины не имели, сражаясь «на коне в саадаке и в сабле».
Основными центрами, из которых воины снабжались оружием, были централизованные государственные арсеналы-мастерские, возникшие в XV в. в Москве, – прежде всего Оружейная палата. В XVI–XVII вв. они превратились в общерусские, расширили ассортимент производимого, повысили его качество, вырастили собственных мастеров, работавших теперь рядом с датскими, немецкими и итальянскими (их изделия отмечены в завещаниях многих горожан: «шолом московского дела», «зерцала московского дела»). Дворцовые оружейники относились к высшему слою мастеров: они не только получали денежное жалованье (им было под силу вносить по себе вклады в крупнейшие монастыри, такие как Троице-Сергиевский), но и верстались поместьями; они могли иметь собственные мастерские вне Кремля, где выполняли и государственные, и частные заказы. Оружие, конечно, можно было покупать и на открытом рынке, в специальных рядах. Кроме того, в стране продавалось и оружие из-за рубежа: например, пистолеты из Англии; панцырь из Италии, сабли, шлемы и щиты из Персии.
Существовали, однако, и полностью централизованные государственные оборонные предприятия, такие как Пушечный и Пороховой дворы. В Европе пушки вошли в употребление с XIV в., – в конце этого столетия они отмечены и на Руси: из них стреляли в осаждавших Москву воинов Тохтамыша; несколько позже (1389) Тверская летопись сообщает, что «из немець вынесоша пушкы»; под 1394 г. упоминаются пушки в войне псковичей с новгородцами. В XV в. особым качеством отличались, кажется, тверские пушки, о посылке которых союзникам или боевом употреблении при осаде городов упоминается неоднократно, но артиллерия была уже и в столицах более отдаленных княжеств – например, в Галиче (упомянута в 1450 г.). Первые дошедшие до нас орудия принадлежат эпохе Ивана III. Сперва железные, они делались путем ковки и сварки, оставлявшей швы и ухудшавшей качество стрельбы. В конце XV в. на Руси научились отливать цельнолитые стволы из бронзы, но более дешевые железные пушки еще долго делались и применялись.
Особого расцвета достигло литье пушек в XVI в.: теперь некоторые усовершенствования появлялись на московском Пушечном дворе одновременно или даже раньше, чем в Европе. До нас дошли имена самых знаменитых мастеров (таких, как Андрей Чохов, отливший гигантский дробовик «Царь-пушку», Степан Кузьмин). Лучшие образцы были собраны в Оружейной палате, где иностранцев устрашали «очень красивые медные пушки» и «хороший запас военных снарядов». Многие орудия, действительно, были прекрасными произведениями искусства, и каждая пушка носила собственное имя. Однако индивидуальность и исключительность, важные в художественных изделиях, для оружия скорее недостаток: все пушки имели разный калибр, и каждая должна была снабжаться ядрами своей величины, что резко снижало эффективность огня. Позже, в XVII в., многие из этих орудий (как та же «Царь-пушка») приобрели скорее парадный, чем боевой характер. Литейщики и кузнецы, делавшие пушки и железные ядра, трудились, конечно, централизованно – на Пушечном дворе близ реки Неглинной, рядом с Кузнечной слободой, и на Успенском Вражке, где варили селитру для пороха (о чем известно из рассказа о пожаре 3 июня 1531 г., когда «на Успленьском враге на Алевизовьском дворе» взорвалось «зелье пушечное» и погибло 200 мастеров). Производство пушек, ядер и пороха не было целиком сосредоточено в Москве, но распространилось по всей стране (тем более, что для него необходимо было добывать сырье – селитру).