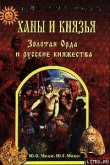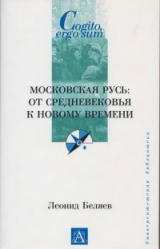
Текст книги "Московская Русь: от Средневековья к Новому времени"
Автор книги: Леонид Беляев
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 20 страниц)
МОНАСТЫРИ
Монастыри – это религиозные общины христиан, дающих обет безбрачия, удаления от мира, праведной жизни и молитвы. Первые монастыри появились в позднеантичную эпоху (IV–V вв.) в Египте и на Ближнем Востоке, причем сразу в двух наиболее распространенных формах: отшельнической и киновиальной (коммунальной, коллективной). Основатели этих двух видов монастырей, Св. Антоний и Св. Пахомий, создали соответствующие правила их устройства, которые легли в основу последующих монашеских уставов как восточного христианства (из них наиболее известны устав Св. Василия, Св. Кассия, Св. Федора Студита), так и западного (основополагающая версия принадлежит Св. Бенедикту). Господствующим типом монастыря Средневековья стал киновиальный, или общежительный, поскольку лишь он обеспечивал поддержание традиции, развитие экономической базы и поддержание политического влияния обители. (Монастыри, в которых жили отшельники, достигали слишком резкого отрыва от мирской жизни и могли опираться лишь на свой духовный авторитет.)
Русское монашество унаследовало традиции византийского. Здесь существовали обе формы общин, но, судя по источникам, основу составляли киновиальные монастыри, каковым стала уже при Феодосии Киево-Печерская лавра. Он заимствовал известный общежительный устав Студийского константинопольского монастыря, позже принятый другими русскими обителями (в числе прочих сохранилась копия, сделанная для Аркажского Благовещенского новгородского монастыря конца XII – начала XIII в.). Устав (типик) определял не только правила богослужения в монастыре, но и всей организации жизни общины, включая правила поведения монахов, поскольку они являлись важнейшим элементом на пути спасения души («устави в монастыре своем, како пети пенья монастырская, и поклон как держати, и чтенья почитати, и стоянье в церкви, и весь ряд церковный, на трапезе седанье, и что ясти в кыя дни, все с уставленьем»). Позже, в XIV–XVI вв., уставы для общежительных монастырей часто составлялись их игуменами; они различаются в деталях, но содержат общие основные принципы. Член монашеского общежития отказывался от владения имуществом; давал обет послушания (то есть беспрекословного повиновения наставнику); проводил время исключительно в молитве или труде; не должен был совершать никаких действий без благословения игумена; отрекался от всех мирских забот и общения с внешним миром («не есть и не пить нигде, кроме трапезы; из монастыря не выходить, иначе как только с благословения; отрокам не жить ни в кельях, ни на дворах монастырских и женскому полу в монастырь не входить, и все свершалось бы по свидетельству общежительных преданий»). В XV в. русская Церковь в богослужебной практике откажется от Студийского устава и перейдет на широко распространившийся в XIII–XIV вв. по православному Востоку более строгий Иерусалимский устав. Несмотря на то что уже к концу XV в. Иерусалимский устав сделался общепринятым в русской Церкви, Студийский сохранялся в некоторых монастырях до середины XVI в., а некоторые его элементы остались в русском богослужении до наших дней. Строгость Иерусалимского устава касалась в основном не дисциплинарной, а богослужебной части: более строгими становились посты; в некоторые дни совершались продолжительные всенощные бдения (и, как следствие, некоторые последования, такие как малая вечерня, обряд благословения хлебов на вечерне); ежедневно совершались полунощницы и все «часы» как общеобязательные церковные службы; службы, за счет увеличения числа стихир, становились более долгими.
Внутреннее устройство монастыря, особенно большого, могло быть достаточно сложным: во главе стоял игумен; уставщик отвечал за соблюдение норм чтения и пения; эконом, келарь, ключник и церковные строители ведали имуществом, казной, выдачей вина, масла, других припасов, устройством трапез, печением просфор и хлебов; вратарь следил за входящими и уходящими из монастыря. Кроме того, жившие в монастыре делились на принявших постриг (монахи и схимники) и ожидающих его (служки и послушники).
«Ктиторский монастырь» – явление довольно позднее в Византии. Ктиторские монастыри основывали богатые люди как фамильные. Вложив в него недвижимость и деньги, они владели им на основании ктиторского права. Вследствие этого ктитор определял ту часть Устава, где оговариваются условия и права монастыря на владение землей и имуществом. Он мог также регламентировать дисциплинарную часть Типикона, в которой употребляемая повсеместно общежительная традиция приспосабливается к условиям конкретного монастыря. Однако общежительный строй, и особенно богослужебную часть Типика, освященные авторитетом святых отцов и традиции, ктитор не имел надобности изменять до тех пор, пока не появятся новые тенденции в монастырской и литургической практике.
Эта система была в меньшей степени приложима к монастырям, где общежитие не вводилось и сохранялось «особное» житие. В таком монастыре можно было владеть кельей (и даже продавать и покупать кельи), иметь собственную кухню и запасы, одежду и утварь; братия таких обителей не имела ежедневных общих трапез и собиралась только на богослужения. Таких монастырей, как правило более мелких, было особенно много в Новгороде и Пскове, но известны они и в Северо-Восточной Руси. Временами они становились чуть ли не основным типом монастырей, например в конце XIII – первой половине XIV в.; позже количество их могло ненадолго возрасти, но общей тенденцией было постепенное превращение большинства обителей в киновии.
С XIV–XV вв. на Руси был, несомненно, известен и так называемый Афонский, или скитский, устав, распространенный на Балканах. Им руководствовались те, кто не считал себя готовым ни к полному отшельничеству, ни к сосредоточенной духовной жизни в «развлекающей» обстановке большой киновии, тесно связанной с мирской жизнью. Скит представлял поселение небольшой группы верующих, которые проводят дни в безмолвии в кельях, поставленных в глубине леса или иной «пустыни», но время от времени собираются для совместных служб и «просвещаются беседами духовными». Таким уставом пользовался Кирилл Белозерский на первых порах, до того, как его скит превратился в многолюдную киновию, но последовательным сторонником жизни в скиту стал Нил Сорский (в котором долго видели основоположника скитских монастырей на Руси). Нил видел в скитском устройстве жизни особый, «средний путь» к спасению, лежащий между отшельничеством и общежитием.
Монастыри, как правило, делились на мужские и женские (их корректнее именовать девичьими), но существовала и древняя традиция совместного проживания чернецов и черниц в одной обители (полностью общения между полами невозможно было избежать хотя бы потому, что мужчины-священники должны были ежедневно приходить в девичьи монастыри для совершения богослужения). Однако этот обычай стремились изжить, и уже митрополит Фотий (начало XV в.) требовал раздельной организации обителей («Если в каком монастыре находятся чернецы, там бы черницы не были; но черницы жили б себе в монастыре, а черницы себе в особом монастыре. Для того узнать, где исперва были чернецы, тут и ныне оставались бы чернецы, а где сперва были черницы, тут и ныне жили бы черницы. У чернецов пусть и попами будут чернецы, а в обители черниц избирать попов-бельцов с попадиами, вдовых же туда не посылать».) Впрочем, смешанные монастыри сохранялись до середины XVI в. (их вновь запрещает одно из постановлений Стоглава) и даже позже.
Монашеское движение на Руси в течение всего Средневековья было очень активным. От домонгольского периода до нас дошли сведения примерно о 70 монастырях; в период XIII–XV вв. было восстановлено или вновь основано около 200, в XVI в. – 100, в XVII в. – 220. Особенно быстрым умножение монастырей было во второй половине XIV в. (насчитывают до 160 новых обителей). Это было связано с коренной реформой монастырской жизни и возобновлением общежительного устава Сергием Радонежским в середине века, что открыло новый период в истории русского монашества. Монастыри не только возросли в числе, охватив новые территории, они стали одним из средств освоения малообжитых пространств Русского Севера и мощными проводниками влияния московских князей.
Длительные, тяжелые монастырские службы и уединенные молитвы не оставляли времени для работ по самообеспечению. Нужен был покровитель и защитник, снабжающий всем необходимым для жизни братии и финансирующий церковное строительство. Им мог стать князь или члены его семьи, митрополит или епископ, боярин, богатый гость. Эти ктиторы имели право вмешиваться во внутренние монастырские дела (например, выбирали игумена, судили братию), сохраняли ряд прав на вложенное в монастырь имущество, передавали монастыри по наследству («право патроната»). Первую задачу такого «своего» монастыря светский вкладчик видел, конечно, в «строении души» (собственной и своего рода): обитель служила местом погребения для семьи ктитора, здесь совершался весь годовой круг поминальных служб по ее усопшим членам и молитв за здравствующих; в памятные и праздничные дни на братию ставили особые яства на средства владельца. Но не менее важным было значение монастыря как «депозитария» семьи (особенно если устав позволял владение имуществом): здесь накапливались вклады землей, особенно оставляемые по завещаниям («духовным»); в ризнице монастырского храма собирались драгоценные сосуды, книги, утварь; иногда составлялся денежный «капитал», который обители пускали в оборот. Всем этим можно было воспользоваться в трудную минуту по меньшей мере двумя способами: уйдя в собственный монастырь, получить там защиту от мирских напастей и средства для приличного боярину образа жизни или получить от монастыря поддержку за счет ранее вложенных средств, вернув их часть. Некоторые подчас злоупотребляли этими правами: видели в приобретаемых обителью средствах свою собственность, брали бессрочные беспроцентные ссуды, отнимали подарки (за это на князя Бориса жаловался, например, Иосиф Волоцкий в письме Василию III).
Выведенная на «общегосударственный» уровень способность монастырей аккумулировать средства была оценена великими князьями и, особенно, царями Московского государства. Они часто опирались не только на духовную поддержку, но и на политическое влияние, материальные средства крупнейших монастырей. Они охотно использовали монастыри как важнейшую опору в социальной политике; среди законодательно закрепленных за монастырями обязанностей были функции благотворительности, которые мы сегодня безусловно назвали бы государственными: призрение нищих, бездомных, состарившихся и вообще нетрудоспособных; содержание больниц и богаделен. (В ряде случаев монастыри даже возникали при ранее основанных богадельнях.) Государство попыталось даже, хотя и с разной степенью успеха, превратить часть обителей в стратегические опорные пункты господства в стране и отражения внешней угрозы.
Однако средства, собранные монастырями, особенно их постепенно возраставшие земельные владения, с конца XV в. постоянно вызывали зависть служилых людей и побуждали государственную власть принимать меры если не к секуляризации церковных земель, то по крайней мере к ограничению их роста. Вспыхивала полемика по поводу права Церкви владеть землей и имуществом (см. выше: иосифляне, нестяжатели).
В домонгольской Руси известны почти исключительно городские или пригородные монастыри, их владения были своего рода самоуправляемыми «государствами», замкнутыми стеной и освобожденными от налогов и повинностей. Основание монастырей в сельской местности активизируется только в XIV в. (в это время говорят даже о «вторичной христианизации»: облик христианского быта и культуры изменился под воздействием идеалов монашеской жизни, а нормы Студийского устава, монастырской культуры стали входить в жизнь города и деревни). На малоосвоенных территориях такие монастыри в XVI–XVII вв. становились центрами сельской округи, обзаводились слободой и сетью хозяйственной инфраструктуры, охватывая окрестности и подчас распространяясь по всей стране. Вокруг них группировалась хозяйственная и административная жизнь области. Крупнейшие монастыри играли в XVI–XVII вв. роль небольшого города. Их слободы превращались в торгово-ремесленные посады, которые часто оставались второстепенным деловым придатком при монастыре, выполнявшем роль «кремля», принадлежащей государству военной крепости. Наиболее знаменитые среди них (Троице-Сергиев, Кирилло-Белозерский), приобрели вид сказочных городов с высокими каменными стенами и башнями, за которыми спрятаны многочисленные церкви и кельи, напоминающие снаружи маленькие дворцы.
Внешние, архитектурные, черты монастырей были выражены у разных типов обителей в неодинаковой степени. Частновладельческие (ктиторские) монастыри не имели особой формы, поскольку под них часто отводилась попросту домовая церковь с участком, городской двор, усадьба. Кроме того, строгую структуру было трудно создать в маленьких особножительских монастырях, где кельи (подчас не отличавшиеся от боярских палат) находились в собственности монаха, а общественные здания иногда ограничивались только церковью. Однако монастыри-киновии нуждались в зданиях для хранения обширного имущества и припасов, в помещениях для приготовления пищи, в трапезной, иногда в скриптории-книгохранилище и других мастерских, наконец, в прочной ограде, которая могла защитить все это, по крайней мере, от разбойников. Поэтому они начали вырабатывать более-менее устойчивые формы плана и типы зданий уже с IV–V вв. В западноевропейском монашестве этот процесс очень рано вылился в сложение очень устойчивой структуры монастырского комплекса, предписываемой уставом того или иного ордена. В Византии такая степень формализации не была достигнута.
Хотя первые монастыри Руси появились в XI в., но их здания XI–XV вв. уцелели лишь в единичных случаях, а нынешние постройки принадлежат в основном XVI–XIX вв. Поэтому их ранняя планировка мало изучена, и даже о первоначальном месте расположения часто спорят. Сделано много попыток вскрыть в планах монастырей устойчивую функциональную или символическую зависимость, но они не дали результата. Более того, полностью реконструировать путь развития хотя бы одного комплекса от зарождения до Нового времени до сих пор ни разу не удавалось.
Большинство городских и пригородных монастырей уже с XIV в. стояли не в глухих уединенных местах (как обычно полагают). Их располагали ближе к людным перекресткам больших дорог, на пересечении торговых путей, в давно обжитой местности, где кипела активная жизнь, где были обильны даяния паломников, благоприятны условия для торга, приема на хранение товаров, денежных операций. (Первый в Москве Данилов монастырь основан на месте одного из древнейших, конца X в., славянских поселений Подмосковья, вблизи переправы через Москву-реку.) Богатства монастырей нуждались в защите, которую давали крепостные стены, – поэтому их во множестве ставили прямо в городе, вблизи усадеб ктиторов, которым было важно участвовать в службах и присматривать за вложенным имуществом (так расположен, например, великокняжеский Спасский монастырь).
Киевская Русь и позже Московское государство, видимо, наследовали византийскую традицию монастырского строительства, со свободным планом и замкнутой внешней стеной. В плане монастырь мог иметь любую форму – она определялась рельефом местности, а в городах – полученным для строительства участком. Но постепенно специфические черты организации монастырской жизни воздействовали и на плановую структуру, и на выработку особых типов зданий. Начиная с конца XV–XVI в. план ограды обычно стремился к четырехугольнику, а в XVII в. мог получать форму правильного прямоугольника, ромба или квадрата. Это объясняют влиянием планировки регулярных, «европейского типа» крепостей и городов, а также представлениями о монастыре как Небесном Иерусалиме, описанном в Библии. Внутри монастырь делился на три зоны. Примерно в центре, на специальной площади, ставили собор, трапезную, вторую церковь, колодец или источник чистой воды, колокольню. Их окружали по периметру кельи и другие жилые покои, больницы. Вдоль стен, а позже и в башнях, помещали склады, службы, ремесленные мастерские. Вне ограды лежала «зона контакта» с внешним миром: конюшенный двор, монастырские службы, слобода с ее особой церковью.
Особым типом постройки, выработанным в монастырях-киновиях Руси, стали двух-трехэтажные трапезные. Зимой всегда стремились уменьшить расход тепла и ограничить передвижения вне зданий, поэтому монастырский комплекс для коллективных трапез, по крайней мере с XV в. строившийся в камне, стал идеальным решением этой задачи. В одном здании соединили хранилища припасов (ледники, кладовые), общую столовую со всеми подсобными помещениями и, часто, церковью, кухню и хлебопекарню с мощными печами, которые одновременно обогревали по проложенным в стенах каналам все здание.
К важнейшим элементам архитектуры монастыря относилась ограда. В XX в. распространилось мнение, что это связано с важными военными функциями монастырей. Однако археология этого не подтверждает. До сих пор не обнаружено ни одного монастыря XI–XV вв., который имел бы крепостные валы и рвы (наиболее характерный тип фортификации на Руси в этот период), до нас дошли в основном сведения о деревянных оградах, в одном-двух случаях – о каменных (но не крепостных) стенах. С середины XVI и особенно со второй половины XVII в. ими окружили многие монастыри, которые стали внешне напоминать крепости. Но функция стен – в защите небесной, символической, а не реальной. Это наглядное выражение отгороженности от внешнего мира, его архитектурный образ. Военные возможности монастырских оград ограничены: например, главные ворота ограды, «святые врата», были непригодны для эффективной обороны, поскольку обычно несли большую церковь (это уникальный элемент русской православной архитектуры). До начала XVI в. нет сведений об использовании монастырей и как фортов, напротив, с приближением врагов защитники города их уничтожают, чтобы лишить противника удобных опорных точек. В немногих случаях, когда монастырь намеревались использовать как военную крепость, его укрепляли дополнительно (снаружи от «святых врат» ставили еще одни, уже боевые, без церкви; устраивали на стенах и башнях площадки для пушек), а внутри размещали гарнизон из профессиональных воинов. Монастыри, накопившие огромные богатства, были заинтересованы в этих укреплениях, но большая часть обителей продолжала обходиться символической, хотя и внушительного вида, оградой. Особый тип обителей представляли пещерные монастыри, известные в Киеве (первый из них – Успенский Печерский, затем Зверинецкий, Выдубицкий), Чернигове (Ильинский), на северо-западе (Псково-Печерский) и на юге (группа монастырей XVII в. на реках Дон и Оскол). В равнинной Руси не было настоящих гор, поэтому, подобно римским катакомбам, кельи, церкви и некрополи пещерных монастырей, сообщавшиеся коридорами, специально вырубали под землей, в мягком грунте.
Важным элементом монастырского комплекса был некрополь. Сейчас монастырские кладбища хорошо изучены: погребения обычно почти не содержат вещей, но изредка встречаются кресты-тельники (металлические, деревянные, костяные или плетеные из кожи), иконки, элементы облачений (великолепная коллекция вышитых куколей XVII в. собрана в московском Моисеевском монастыре). Важны следы совершения обрядов восточнохристианской церкви: например, в могиле оставляли посуду, из которой совершалось последнее помазание елеем и окропление покойного (с конца XIV в. для этого пользовались специальными майоликовыми чашами или обычной глиняной посудой; в самых богатых погребениях XVI в., например у царя Ивана Грозного и его сыновей, находят европейское стекло; в XVII в. оно распространяется шире, а с середины XVIII в. дополняется фарфоровыми сосудами местного и европейского производства). Для захоронений здесь использовали не только деревянные гробы и колоды, но и каменные саркофаги из светлого известняка, на поверхность могил с XIII–XIV вв. в Московском княжестве клали плоские надгробные плиты. Те и другие украшал орнамент, а с конца XV в. и надписи (их текст строится по унаследованной от Византии строгой информативной формуле: дата смерти (от сотворения мира); указание на церковный праздник в день смерти; имя (а также монашеское имя) покойного; его родовое имя (для женщин также имя мужа или отца); изредка – сведения о профессии, положении в обществе, в исключительных случаях – об обстоятельствах смерти и похорон; никогда не включаются священные или литературные тексты, сожаления, благопожелания, молитвенные обращения). В Новгороде и Пскове плиту обычно заменял каменный крест.
Среди монастырей было много прославленных, имевших общегосударственное и общецерковное значение, обладавших огромным богатством, политическим влиянием, привлекавших тысячи паломников и известных на Руси каждому. О них мы расскажем подробнее.