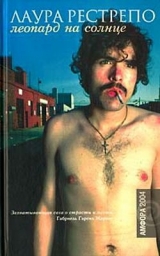
Текст книги "Леопард на солнце"
Автор книги: Лаура Рестрепо
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 15 страниц)
Он велел, чтобы ему дали знать о малейшем признаке тревоги. Наступает шесть часов утра, в патио врывается яркий свет и будит кур на насестах, певчих дроздов, собак, склонную к рукоблудию обезьянку. О Монсальве ни слуху, ни духу.
Северина никогда не видела, чтобы ее сын так нервничал. Ни отвар батата с петрушкой, приготовленный ею, чтобы его успокоить, ни терпеливое похлопывание кончиками пальцев по голове не идут ему на пользу. Он снял свои очки «Рэй-Бэн», и его близорукие глаза блуждают, ни на чем не останавливаясь, затуманенные смятением. Его тревожит не то, что противник нападет, а то, что он этого не делает. Он не выносит, чтобы ему ломали сложившуюся схему. Одна мысль о том, что время «зет» пройдет спокойно, выводит его из себя, и мучительная тревога нарастает в нем градус за градусом, как лихорадка.
Уже полседьмого, цыплята клюют маис, служанки стирают белье в прачечной, все на свете делают, что им положено, кроме Монсальве – они не появляются.
– А если они не нападут? – спрашивает Нандо в пространство ошеломленным голосом. – Если на этот раз никто не будет убит?
– А если и в следующий раз? – эхом подхватывает его вопрос Северина.
Вот-вот наступит семь часов, когда время «зет» истечет, и Нандо охватывает полное смятение с упадком сил и тахикардией. Встревоженные Барраганы окружают его.
– У него грипп начинается, – заявляет кто-то.
– Это от усталости, – поправляет другой.
– У него давление.
– Нет, – говорит Северина, – это догадка.
– Догадка?
– Догадка о том, что жизнь могла бы быть иной.
* * *
Радиоприемничек марки «Санио» маленький, но мощный. Мани всю ночь прижимает его к уху, включив на едва слышимую громкость. Алина, примостившаяся рядом, спрашивает, почему он не выключит радио, и он отвечает, что хочет слушать музыку. Но на самом деле он жадно ловит сводки новостей.
Они коротают ночь в полусне-полубодрствовании, одурманенные зыбкой дремотой и монотонным бормотанием приемника, обнявшись и затерявшись среди великолепных просторов своей кровати «Кинг-сайз» – мягкой и нежной, розово-сиреневой, безграничной, ирреальной, изолированной от мира, атласной и пуховой.
– Настало семь утра, а в новостях так и не было сообщения, которого так боялся Мани, – об убийстве Нарсисо. Это значило, что время «зет» истекло, и Нарсисо спасен.
Старуха Йела приносит им завтрак в постель, и Мани, который обычно пьет только черный кофе, на этот раз требует яиц, хлеба, кровяной колбасы, молока, фруктов, и удивляет Йелу и Алину аппетитом, какого за ним никто прежде не замечал. Потом он приказывает, чтобы их не беспокоили ни по какому поводу – они будут спать все утро.
Он наконец выключает «Санио», прижимается к Алине Жерико, как ребенок к матери, и тихо погружается в сокровенную область спокойных сновидений, где он не бывал уже очень давно. Оказавшись в ней, он раздевается и купается в расщелине, в пресной прохладной воде, что бежит безостановочно, беззвучно, меж зеленых камней до самого моря.
– Это был поток, бегущий в «Деве Ветра»…
* * *
Дом Барраганов умиротворен теплым запахом только что сваренного кофе. Люди принимают отдых ошарашенно, как если бы они ожидали конца света, и в последний момент получил сообщение о его переносе на другой день. Домашние животные ведут себя с простодушным легкомыслием существ, побывавших, не ведая того, на волосок от смерти. Солнце щедро изливается на всех, расточая милосердие и прощение.
Нарсисо Барраган вылезает из подвалов злой как черт. Он ни с кем не здоровается, он даже не отвечает Северине, предлагающей ему кукурузную лепешку с яйцом и ломтиками папайи.
– Я же им говорил – они не явятся. Бабьи бредни, нафиг, идиотизм поганый, – возмущенно бормочет он, отряхивая белый фрак, непоправимо испорченный в эту самую долгую и утомительную ночь в его жизни, в эти адские десять часов, проведенных в осаде злости, клаустрофобии и катакомбных газов.
Он проходит мимо Нандо, не удостаивая его даже поворота головы в его сторону, он только фыркает от злости. Он уже не отплясывает кумбью и не лучится обаянием: пинает собак и рычит на людей. Также он не блистает белизной и элегантностью: он грязен, потрепан и страшен, как какой-нибудь Пташка Пиф-Паф, как какой-нибудь Симон Пуля.
Он хватается за телефон, звонит своей подружке-модели, пытается говорить спокойным голосом:
– Вечером я не смог, моя прелесть… Это не по моей вине, лапочка… Конечно, я понимаю, твой день рождения… Клянусь тебе, нет… Дай мне объяснить… Конечно, ты можешь так думать, но я… Дело в том… Жди меня, я немедленно выезжаю.
Он вешает трубку, бросается к умывальнику, моет лицо без мыла и чистит зубы без пасты, меняет рубашку, схватив, какую попало, вылетает из дома как угорелый, паникуя, как ученик, опаздывающий в класс, и на бегу проводит расческой по волосам.
– Должно быть, это был единственный случай, когда Нарсисо Барраган вышел из дому, не проведя продолжительного времени перед зеркалом…
– Это правда. Он был в такой спешке и в такой ярости, что никому «до свиданья» не сказал, даже своему отражению.
Он заводит свой несравненный «Линкольн» и жмет на газ, заставляя машину мчаться с реактивной скоростью. Она проносится по Зажигалке, как фиолетовый болид, сметая бампером мешки с песком, еще не убранные соседями. Он покрывает километр за километром, не глядя на светофоры и дорожные знаки.
Лучи солнца раскаляют «Линкольн» и Нарсисо, он поджаривается внутри машины и чувствует дурноту от застоявшегося запаха собственных духов, – тогда он открывает все четыре окна и впускает ветер, мощный поток воздуха врывается, унося усталость и дурное воспоминание о прошедшей ночи.
Нарсисо въезжает в пригородный жилой квартал: улицы, затененные гуаландаями, [48]48
Гуаландай– тропическое дерево высотой до 20 м, диаметр ствола до 50 см, с раскидистой кроной и длинными перистыми листьями.
[Закрыть]редкое движение, палисадники, засаженные оранжевыми бугенвиллеями и фуксиями. Он ничего не видит и не думает ни о чем, кроме спасительной начальной фразы, способной преодолеть негодование женщины, попусту прождавшей его всю ночь.
Если сказать ей правду, она не поверит, если соврать – не простит. Как объяснить ей, такой тонкой, изящной и цивилизованной, – он заставил ее ждать лишь потому, что не мог вырваться от своей ведьмы-сестрицы, державшей его под прицелом?
Он оставляет позади просторные чистенькие особняки, похожие друг на друга, с заботливо подстриженными садовыми лужайками и роскошными автомобилями у входа. Лучше сказать ей, что какая-нибудь деловая встреча затянулась до утра. Или что-нибудь о неожиданной болезни матери: приступ астмы или споткнулась и ушиблась, ложная тревога.
Он едет через парк с качелями, где играют дети и беседуют служанки. А может, лучше не давать ей никаких объяснений, а не будет довольна, так и ну ее? Свет на ней клином не сошелся… Нет, ни за что. Он не хочет ее потерять. Их у него много, но его честолюбие не выдержит потери ни одной из них, а тем более этой…
Он подъезжает к торговому центру, с супермаркетом, аптеками, магазинами одежды, почтовым отделением, цветочной лавкой. Может, остановиться и купить ей розы… Но нет, заднее сиденье завалено увядшими цветами, которые он собирался преподнести ей вечером…
Булочная, прачечная, ювелирные изделия… Можно купить ей изумруд… Но еще рано, здесь закрыто. Остается позади торговый центр, поворот направо, налево, еще раз налево, и он въезжает на ее улицу.
Посреди беспорядочного, с бесконечными трущобами города, этот квартал – редкое явление, ни куч мусора на тротуарах, ни выбоин на асфальте… Работники Городского благоустройства в новенькой желтой униформе чинят фонарные столбы, их серая машина стоит поперек улицы в самом ее конце.
Тихий, спокойный район… Мальчишки играют в футбол посреди проезжей части. Нарсисо нажимает на клаксон, чтобы они отошли.
Он уже видит ее: вон третий дом справа, она появляется на крыльце, в больших солнечных очках, босиком, в свободной маечке и шортах, отрывающих ее километровые ноги. Она машет ему рукой. Приветствует? Тогда, пожалуй, она не вне себя от гнева… Но футболисты не дают ему проехать, и он приходит в нетерпение, давит на клаксон, высовывает в окно голову, желая крикнуть им, чтобы ушли с дороги. Она выглядит очаровательно, блистательно, пожалуй, она его уже и простила, Нарсисо не дождется минуты, когда сможет ее поцеловать, но его беспокоит мысль об отсутствии подарка… Может, подарить ей бутылки шампанского… В столь ранний час? Нелепо. Он просто поцелует ее, и все.
Но мальчишки-футболисты не уходят с дороги. Один, высокий, белобрысый, неприятной наружности, слишком взрослый, чтобы гонять мяч с подростками, приближается к автомобилю.
Нарсисо не обращает на него внимания, потому что смотрит только на нее, она ждет его в дверях, и он успокаивается, видя, что она посылает ему сияющую улыбку, безо всяких упреков.
Белобрысый спортсмен подходит еще ближе, он касается дверцы машины, словно хочет о чем-то попросить. Вдруг Нарсисо чувствует, что в его выражении есть нечто ужасное: он читает на его лице готовность к убийству. Тогда, наконец, в последнюю долю секунды, восхитительные глаза Нарсисо, Лирика, открываются на реальность и беспомощным взглядом успевают увидеть, как некрасивый тощий тип зубами выдергивает чеку и бросает гранату в открытое окно «Линкольна» цвета одежд кающихся грешников [49]49
Участники процессий кающихся грешников на Страстной Неделе часто бывают одеты в лиловые балахоны с закрывающими лицо капюшонами.
[Закрыть]– снаружи и золотого внутри, священных цветов алтаря в страстную пятницу, в день страстей Господних и распятия.
* * *
Нарсисо, вернее, то, что осталось от его изуродованного трупа, покоится в полумраке фамильной молельни.
Мертвого обряжает тот, кто больше всех его любит: Нандо Барраган снимает с плечиков рубашку из органзы, с воланами на манжетах, белую, до хруста накрахмаленную и пахнущую чистым бельем. Он склоняется над своим любимым братом и с трудом надевает ее на останки с неуклюжестью несмышленого ребенка, что пытается починить сломанную, искореженную куклу.
Он накрывает его лицо шелковым носовым платком и лицом вниз кладет брата в гроб, выстланный кружевом.
– На платке остался отпечаток прекрасного лица Нарсисо, во всем совершенстве черт, каким оно было до взрыва гранаты. Платок этот, до сих пор пахнущий порохом и духами, хранится в соборе, куда к нему с молитвами приходят люди с разными уродствами на лице, а также те, кто сделал пластическую операцию. Священник вынимает платок из урны и накрывает им лица верующих. После чего они восстают, исцелившись от своих уродств и избавившись от шрамов.
Гул несется с колоколен городских церквей, похоронный звон застилает небо, точно стая воронов. Нандо Барраган взваливает гроб себе на спину, выносит на улицу ногами вперед и передает женщинам, пешком провожающим его на кладбище, – медлительная и черная, как воды мертвой реки, процессия.
Нандо один возвращается в дом, обезумев от колокольного звона. Он запирается в кабинете, стискивает своими челюстями крупного хищника деревянный брусок и дает выход гневу и боли. В такт каждому удару колоколов, рассекающему воздух, он бьется головой о стены, сбивая штукатурку ударами могучего черепа. Он рвет в клочья одежду, разбивает себе кулаки, заставляет предметы летать по воздуху, не касаясь их, одним лишь магнетизмом своего неистовства.
– Он хотел подавить душевную боль телесным страданием, потому что в своей долгой дикарской жизни он знавал второе, но никогда не испытывал первого.
– Его великое отчаяние было понятно. Нарсисо, его обожаемого брата, убили в неурочный час, после истечения времени «зет». И к тому же гранатой. Никогда за всю их войну никого не убивали так жестоко и вразрез всем правилам. До сих пор не использовали и наемных убийц.
– Фернели это не волновало. Он убивал, как придется. Но Нандо этого не знал. Он даже не знал, что Фернели существует.
Северина возвращается с кладбища и сквозь запертую на задвижку дверь кабинета слышит удары, которыми казнит себя ее сын Нандо, но почтительно не прерывает его страданий. Она ставит у дверей табурет и садится, чтобы, оставаясь снаружи, быть с ним вместе и ждать. – Колокола сводят его с ума, – говорит она. – Они уже скоро замолчат.
Колокола смолкают и затихает эхо ударов. Теперь она может слышать его дыхание: хриплое, точно в агониии, прерываемое рыданиями дыхание поверженного мужчины, смертельно раненого хищного зверя, чьи клыки сломаны, а душа растерзана.
Три дня и три ночи Нандо проводит взаперти, предаваясь посту и покаянию. Через трое суток он открывает дверь и возвращается в сей мир, выживший, однако изможденный, измученный, весь в кровоподтеках. Он выпивает бутыль холодной воды, сует разбитую голову в маленький бассейн во дворе и отдает своим людям приказ:
– Узнайте, кто убил Нарсисо.
Северине он поверяет одно сомнение, которое прожигает ему нутро, и от которого только она одна в силах его освободить, потому что только она умеет разгадывать загадки своих по крови:
– Мать, почему Мани обманул меня?
– Это не он.
* * *
– Случалось ли вам замечать, что в жару, когда печет очень уж сильно, все выглядит нечетким, словно окутанным вуалью? Это оттого, что отраженные лучи солнца так же заволакивают предметы, как пары бензина. А от слишком яркого света цвета выгорают… Такими мы и увидели Барраганов, появившихся на кладбище в тот знойный день, когда умер Нарсисо: они были точно клубы испарений. Точно процессия пятен с расплывчатой фотографии.
– На кладбище присутствовала пресса. Репортеры и газетные фотографы – ведь убийство Нарсисо Баррагана стало громкой новостью. Но говорят, что ни одна из фотографий, сделанных ими, не вышла как следует: объективы улавливали только слепящее сияние, не принадлежащее нашему миру.
Кучка соседей и зевак проводит некоторое время в ожидании появления Барраганов. Ожидающие спасаются от грома колоколов, заткнув уши кусками ваты. От разъяренного солнца люди укрываются под распростертыми крыльями гипсовых ангелов – только они и дают клочки тени в обители мертвых.
Могилы Барраганов занимают весь северовосточный сектор кладбища: там громоздятся вплотную друг к другу их надгробия – имена высечены на светлом мраморе, рассыпающемся известковой крошкой. Кое-кто имеет эпитафии:
Эктор Барраган, Справедливый.
Диомедес Г. Барраган, своею дланью ты долги взимал.
Уилъмар Х. Барраган, мститель за свой род милостью Господней.
Тем, кто был Барраганами только по матери, от отцовской фамилии оставлен лишь заглавный инициал с точкой, чтобы члены клана оставались едиными и опознаваемыми и в иной жизни. Барраганы и еще Барраганы, все умершие насильственной смертью, ждут страшного суда в могилах, раскаленных, словно печи, огромным белым светилом.
– И что же, достигают мертвецы вечного упокоения, при такой-то жаре?
– Нет. Они вертятся в гробах, терзаемые своими грехами, поджариваются в собственном соку, и разбухают, пока не лопнут.
Соседи слышат женщин Барраган издалека, раньше, чем видят их, и пугаются: не из загробного ли мира доносятся эти женские стоны, звучащие тоньше самых мелких колоколов? Нет. Это человеческие голоса, они уже близко, уже можно разобрать слова:
– Бедный наш Нарсисо, увы твоей красоте, погублена ока!
– Черные твои глаза, земля их поглотит!
– Ай, глаза твои прекрасные, Нарсисо Барраган, не видать нам их больше на земле, не посмотрят они на нас!
– Убит наш Нарсисо, Лирик! Врагами он убит! Не пощадили твоего тела и саму душу растерзали!
Только Северина кричит низким, хриплым голосом, придушенным злобой. Про себя она бормочет боевой девиз, языческую литанию, что не просит ни прощения, ни пощады, ни вечного упокоения:
– Кровь моего сына пролита днесь. За кровь моего сына врага настигнет месть.
– А на могиле Нарсисо написали они эпитафию?
– Да. Странная эпитафия, не похожая на остальные, но ее сам Нандо продиктовал. Вот что там было сказано – да и теперь, поди, можно прочесть, если только не стерли жара и время:
Нарсисо Барраган, Лирик. Здесь он покоится убиенный, хотя никого не убивал.
* * *
Адвокат Мендес едет с закрытыми глазами в наемной машине по улицам Города. За рулем Тин Пуйуа, помощник и правая рука мани Монсальве. Именно от последнего исходит приказ держать глаза закрытыми, чтобы не знать, куда везут.
– Садитесь назад, развалитесь на сиденье, крепко закройте глаза и притворитесь, что спите, – велел ему Тин. – Мани не хочет, чтобы вы знали, куда я вас повезу, да и вам лучше этого не знать, так что, пожалуйста, следуйте указаниям.
Адвокат Мендес пытается и впрямь поспать в дороге, но не может. Это ему досадно, потому что так долго держать веки насильно опущенными нелегко. Они начинают дрожать, глаза грозят открыться. Кроме того, его мутит. Темные стекла машины подняты, ему жарко и трудно дышать, но он предпочитает не открывать их. Хуже было бы ехать с открытыми окнами с риском, что его увидят люди Нандо Баррагана.
Здоровый румянец на щеках адвоката и присущий ему свежий вид утрачены, пульс неровен. Он сел в эту машину не по доброй воле, его взял в плен Тин Пуйуа, подступивший к нему, когда адвокат выходил из своей конторы в центре Города: Тин сказал, что Мани Монсальве хочет его видеть и приказал доставить его. Тин обращался с ним вежливо, но повелительно. Поначалу адвокат Мендес попытался отказаться, ссылаясь на то, что в данный момент у него нет времени ехать в Порт для встречи с Мани.
– Мани не в Порту, – отвечал Тин. – Он здесь, в Городе. Он приехал специально, чтобы с вами повидаться, и уедет сразу по окончании встречи.
Адвокат сел в машину, не задавая дальнейших вопросов: он хорошо знал семью Монсальве и понимал, когда им не следует говорить «нет». Помимо того, он чувствовал, что дело действительно чрезвычайное – иначе Мани не явился бы в Город спустя две недели после убийства Нарсисо Баррагана, рискуя попасть прямо под гнев Нандо.
В настоящее время Мендес едет на заднем сиденье, а его тошнота усиливается с каждым поворотом машины, – Тин петляет по городу, стремясь удостовериться, что их не преследуют. Парень внезапно тормозит, резко крутит руль, и в этот момент адвокат успевает сообразить, что они едут по проспекту против движения, уворачиваясь от транспорта. Решив было встать и приоткрыть глаза, Мендес замечает, по наклейке на стекле, что машина взята напрокат. Это его слегка успокаивает: по крайней мере, меньше вероятность, что их настигнут Барраганы, которые рвутся в дом Монсальве, как смертельно голодные псы.
После получаса петлянья по улицам, Тин останавливает автомобиль и велит адвокату выходить. «Но не открывайте глаза, пока я вам не скажу», – предупреждает он его.
Адвокат Мендес идет, незрячий, со склоненной головой, ведомый за руку Тином Пуйуа. Он проходит по коридору, пахнет чистотой и новизной отделки. Быстрый бесшумный лифт поднимает его на несколько этажей, он чувствует, как чьи-то руки ощупывают его с головы до ног, слышит, что кто-то открывает дверь, и тогда он оказывается в помещении, устланном коврами, ощущает искусственный холодок кондиционированного воздуха, садится в удобное кресло и, наконец, получает приказ открыть глаза. Адвокат повинуется, но он так долго и усердно держал их зажмуренными, что видит только световые точки на черном фоне.
Мало-помалу зрение возвращается к нему и он различает сидящего напротив, в таком же кресле, Мани Мосальве, только что из ванной, с падающими с волос каплями, завернутого в банный халат. В распахе халата виднеется рукоять револьвера – он держит его под мышкой, на голом теле. В руке у него бутылка холодной «Кола Роман», он предлагает адвокату другую. Голос Мани звучит не как обычно: более тускло. Немногие слова, которые он произносит, падают ударами молота. Адвокат соглашается выпить газировки и осматривается вокруг, пока Мани встает за бутылкой. «Мы в номере перворазрядного отеля, и нас оставили здесь наедине», – мысленно говорит он себе, стараясь освоиться.
В других ситуациях общение Мендеса и Мани бывало легким. Дружеским, лишенным напряжения и выжидательного молчания. Сегодня все иначе. Мани не спешит продолжить беседу, и адвокат Мендес молчит. Он предпочитает выждать. Секунды капают одна за одной, тяжкие и медлительные, цепляясь за стрелки часов.
Погрузившись в кресло, Мани нарочито растягивает молчание, пока оно не становится невыносимым, он не выказывает и тени желания сломать лед, словно испытывая выдержку адвоката. Тот понимает все это и старается не утратить спокойствия: глубоко дышит и пьет маленькими глотками. Мани тоже пьет «Кола Роман». Наконец адвокат заговаривает первым.
– Скажи мне, в чем дело, – говорит он. – Ты велел доставить меня сюда.
– Дело в Алине Жерико, – отвечает Мани, и у адвоката екает сердце – его подозрение подтверждается. «Да, дело щекотливое, – думает он. – Одно неосторожное слово, и ты покойник».
– Алина Жерико в порядке, – отваживается он сказать, заставляя свой голос звучать почти естественно.
– Может, она и в порядке, но она не со мной. Она покинула мой дом в день смерти Нарсисо Баррагана. И вместе с моим еще не рожденным ребенком. Она сняла квартиру и переехала в нее. Известно ли вам, доктор, кто помог ей снять эту квартиру?
– Да, мне это известно, да и тебе тоже, ты ведь приказал своим людям не спускать с нее глаз день и ночь. Я помог ей найти квартиру. И еще купить мебель, и шторы, и все, что нужно на кухне… Я сделал это, потому что она просила меня об этой любезности. Потому что она мне сказала, что ее желание – жить подальше от тебя, чтобы защитить своего ребенка.
– Неделю назад Алина дала обед в снятой квартире. Известно ли вам, доктор, кто на нем присутствовал?
– Ее сестры с мужьями, и я. Подавали жаркое из цыплят, картофельное пюре, зеленый салат и пиво. Я сказал что-нибудь новое для тебя?
– Три дня назад вы, доктор, летали самолетом из Порта в столицу. На вас был шерстяной деловой костюм…
– Да. А несколько раньше, утром, я был в хлопковом костюме. Я переоделся в доме Алины. Я должен был помочь ей подписать контракт об аренде, а после этого у меня не было времени вернуться к себе в отель перед поездкой… Нет, Мани, я не любовник твоей жены. Не строй иллюзий: она оставила тебя не ради меня. Будь оно так, тебе достаточно было бы убрать меня с дороги… Дело гораздо серьезней, и тебе это известно. Солнце-то пальцем не закроешь.
Вновь молчание расползается по комнате, холодное, как изморозь на бутылках с красной газировкой.
Адвокату Мендесу всегда было нелегко справляться с темпераментом Барраганов и Монсальве, особенно, когда они в раздражении. И одержимы ревностью, как Мани в настоящее время.
«Пожалуй, больше я не увижу дневного света», – думает Мендес и пытается посмотреть в окно. Но ему мешают задернутые гардины. Он останавливает взгляд на большой картине в голубых и бледно зеленых тонах, – ковер и обивка мебели в номере тех же цветов. На картине он видит парусник, чересчур статичный, несмотря на волны, и думает, что она плохо написана. Он следит за взглядом Мани Монсальве – глаза Мани неподвижно устремлены в одну точку на ковре, словно он ждет, что шерстинки ковра подрастут. Адвокат видит, как по груди Мани все еще катятся капли воды, он задерживает взгляд на выглядывающей из халата деревянной рукоятке. Мендес думает: «Пожалуй, он сейчас выхватит это оружие, и мне конец». Его не удивляет эта мысль. Его удивляет, что этого до сих пор не произошло.
Адвокат Мендес – земляк Барраганов и Монсальве, только его предки были белыми, а Монсальве и Барраганы происходят от аборигенов. Его дружба с обеими семьями возникла еще до начала войны между ними. Когда они ввязались в нелегальную торговлю и у них пошли нелады с законом, адвокат Мендес почувствовал себя обязанным помочь им – каждой семье в свою очередь – ввиду старых уз солидарности. С каждым днем их доходы преумножались, множились и их судебные тяжбы, и адвокат раз от разу все больше увязал в их защите. Он много раз хотел выпутаться и не мог, потому что, сам того не предполагая, сел в поезд без обратного билета. Оказавшись в браке без права на развод равно с Барраганами и с Монсальве, он потратил свою молодость и часть зрелых лет на изнурительную работу: оставаться в живых, сохраняя выверенное равновесие и скрупулезную беспристрастность перед лицом обоих кланов.
Он знает, что его физическая неприкосновенность до известной степени защищена древними законами обеих семей, предписывающих беречь жизнь адвокатов противной стороны, так же, как жизнь женщин, стариков и детей. Адвокат твоего врага – символ его защиты не от тебя, а от внешнего мира – неприкосновенен согласно законам войны внутренней. Плохо только, что нет закона, запрещающего каждой семье ликвидировать своих собственных адвокатов. По обвинению в предательстве, например. И именно это сейчас произойдет. Для человека пустыни нет худшего предательства, чем коснуться его жены.
Когда Алина Жерико обратилась к нему за поддержкой, чтобы начать жить отдельно от Мани Монсальве, адвокат Мендес предвидел с полной ясностью события сегодняшнего дня – именно такой разговор и именно такое чувство покорности перед лицом смерти, которое в конечном счете не что иное, как внезапная усталость от жизни – предвидел так, словно все это заранее показали в теленовостях.
Было очевидно, что такой человек, как Мани, и в мыслях не допускает возможности, что другой мужчина, приблизившись к его жене, не окажется в ее постели. К тому же его возмутил, расстроил и оскорбил ее недавний уход. Все это было ясно адвокату с самого начала. Но не помочь Алине и ее будущему ребенку избежать проклятия чуждой им войны – такое было не в его характере. Так что выбирать ему не пришлось.
Теперь уж ничего не поделаешь. «Все идет как по писаному», – думает он, поудобнее усаживается в кресле, поправляет галстук и возвращает себе устойчивость. Он пребывает в мире со своей совестью. Он не тронул и волоска Алины Жерико. Он не сделал ей ни малейшего намека.
Хотя… Зачем лгать самому себе в час великой правды… Он не сделал этого не потому, что ему этого не хотелось, а потому, что она не дала ему повода. Также из уважения к ее беременности… и кроме того, из страха перед Мани Монсальве. Его отношения с Алиной не выходили за границы простого приятельства, основанного на профессиональных делах, что верно, то верно. Но в основном потому, что она так себя поставила. Адвокат улыбается. «Сейчас я поплачусь жизнью за нечистые помыслы», – мучительно думает он. Мысль эта кажется ему забавной, и он дает ей другое направление: «„Пожелал жены ближнего? Смертная казнь!„Звучит, как заголовок из желтой прессы».
В свою очередь Мани, погруженный в мучительные сомнения, беспокойно ерзает в кресле. В глубине души он понимает, что адвокат говорит правду. И что его проблема – не проблема рогов. Уж лучше бы оно было так, всего-то и надо было бы убрать соперника. Но нет, все куда глубже, куда серьезней. С одной стороны его утешает, что не надо убивать друга всей жизни, с другой стороны, он не может смириться с тем, что справиться с его несчастьем потрудней, чем прострелить чью-либо голову. Он спорит сам с собой, мысленно поворачивая монету то одной стороной, то другой, раз за разом бросая ее в воздух, чтобы рассмотреть сперва решку, потом орла, снова решку и снова орла.
Проходит много времени, и когда адвокат Мендес ждет только звука выстрела, который разнесет его череп, он слышит вместо этого голос Мани.
– Я верю вам, доктор. Верю тому, что вы мне сказали, – его тон уже не холоден, скорее в его словах слышится беззащитность и инфантильность, хотя говорит он громко, с нажимом. – И я вас поздравляю. Вы только что спасли жизнь. Свою собственную. Вы можете идти, куда пожелаете, Тин доставит вас туда, откуда забрал.
У адвоката Мендеса нет охоты отвечать и не хватает духу подняться. Он так и сидит безмолвно, зажигает сигарету, хотя и знает, что Мани не выносит дыма, и употребляет все время, оставшееся в мире, на то, чтобы выпить остатки «Кола Роман», словно у него нет лучших планов на этот вечер. Тогда Мани встает, раздвигает гардины и начинает разглядывать проспект перед окном, усеянный уличными торговцами, разложившими свой товар прямо на земле, в скудной тени чахлых миндальных деревьев. Из своего кресла адвокат Мендес тоже видит улицу и узнает ее: в самом деле, несмотря на долгое петлянье Тина в попытках запутать следы, они находятся лишь в нескольких квадрах от конторы адвоката.
– Алина не желает говорить со мной, даже по телефону, – говорит Мани, все так же стоя спиной к адвокату и глядя перед собой. – Я послал ей несколько дюжин роз, она их возвращает.
Мендесу слышится нечто странное в его голосе. «Возможно ли, чтобы этот человек плакал?» – спрашивает он себя. Да. Сдавленные рыдания прерывают речь Мани. «Минуту назад едва не отправил меня к праотцам, а теперь рыдает на моем плече», – не без улыбки думает Мендес, и отвечает ему:
– Предоставь дело времени, Мани. Найди реальное решение проблемы. Розы и акты отчаяния тут не помогут.
– Каково же решение?
– В три действия, и мы уже об этом говорили. Первое: ликвидируй распрю с Барраганами. Второе: купи себеимя и положение в обществе. Третье: отмой все свои деньги и вложи их в легальную торговлю и собственность.
– Я уж не первый год этим занимаюсь, да оно ведь непросто.
– Сейчас представляется исключительный случай. Национальный Банк собирается открыть, что называется, «левое окошко»: будут принимать доллары, сколько ни принесут, не спрашивая ни фамилии, ни их происхождения, ни документов, ничего. Единственное условие: менять только по тысяче на человека. Пошли сто человек, и в один день отмоешь сто тысяч.
– Вы мне поможете, доктор? С тремя действиями, я хочу сказать? – в голосе Мани – благодарность, раскаяние, едва ли не раболепство перед человеком, которого он чуть не убил и которого теперь признает единственным связующим звеном между собой и своей женой.
– Надо думать.
Адвокат Мендес встает, оправляет пиджак, мягко проводит рукой по волосам, как будто лаская свою чудом уцелевшую голову, и собирается уходить.
– Погодите, доктор, – останавливает его Мани. – Я в долгу перед вами.
– Забудь, – отвечает адвокат.
– Я хочу чем-нибудь отплатить за вашу любезность, – настаивает Мани. – Скажите, кто ваши враги.
Адвокату Мендесу понятна его фраза: это старая формула благодарности, принятая среди людей пустыни, она равносильна словам: «Твои враги – мои враги».
– Они не стоят того, чтобы ты их убил, – отвечает он с искренней улыбкой, и сердечно прощается с Мани.
* * *
– Мани Монсальве тоже мучился мыслью, что он обманул Нандо Баррагана своим телефонным звонком?
– Отчасти, но не так, как Нандо. Они были разные. Нандо был человек принципов, Мани – реалист. Нандо был неисправимый мечтатель, Мани – прагматик, чьей единственной мечтой была Алина Жерико. Нандо был сын пустыни, Мани покинул ее слишком юным, и песок барханов не успел набиться ему в нос и осесть в сознании.







