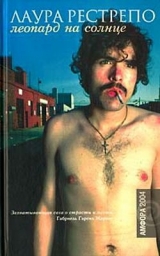
Текст книги "Леопард на солнце"
Автор книги: Лаура Рестрепо
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 15 страниц)
Нандо снял свои очки «Рэй-Бэн» и протер глаза, сначала с недоверием, потом – сраженный очевидностью: он узнал ее под морщинистой и печальной маской.
– Что же с тобой было, Соледад?
– Видишь, какая я теперь. Когда ты убил Адриано, Монсальве сожгли мое ранчо. Я собрала уцелевшие пожитки и приехала сюда мыкать горе да бороться с судьбой, и жила в страшной бедности. С годами дела мои поправились, и теперь вот старость пришла, ранняя, но спокойная.
В слабом освещении кухни Нандо замечает, как в глазах Северины вспыхивают искры гнева. Она выпускает из рук нож и луковицу и встает, глядя в глаза своему старшему сыну.
– Это она-то спокойна, Соледад Брачо? А ты не напомнил ей о мертвых, что убиты по ее вине?
– Это не ее вина была, и ничья. В первую годовщину Марко Брачо случилось то, что должно было случиться, и всем нам теперь кранты, во все поколения.
– А если бы случилось что-то другое?
– Замолчи, мать. Вспомни дядю Ито Монсальве: он начал вот так задумываться да и слетел с катушек. От таких сомнений люди с ума сходят.
* * *
– Никто не узнал бы тайну капрала Гильермо Вилли Киньонеса, не усни он однажды после полудня в доме Барраганов.
– А что произошло?
– Был полдень обычного буднего дня и мир накрыла липкая влажность. Капрал пообедал двумя тарелками сытного горячего супа, в котором плавали желтые глазки жира, и без сил развалился в одной из качалок на галерее. Спустя какое-то время он проснулся в смущении и не смог вспомнить, что ему снилось. У него было такое чувство, что кто-то провел тряпкой по доске его памяти, где сны были записаны мелом, и оставил только смутный, как облако, след. Чувство его не обманывало. Немая воспользовалась случаем, чтобы сесть подле него и просмотреть его сны, беззвучные и черно-белые, как старинное кино. Она так испугалась того, что увидела, что ее первым побуждением было велеть его убить, прямо на месте, во сне. Чтобы он прямо из сна отправился в преисподнюю, без права на раскаяние и на просьбу о прощении.
– Что же она такое увидела?
– Предательство.
– И она осудила его на смерть?
– Нет. Она придумала кое-что получше.
* * *
– В день похорон Арканхеля Баррагана произошли вещи странные и противоречивые. Одни под землей, другие на земле.
– Никто не знал о том, что случилось в подвалах дома Барраганов во время этих похорон, как раз в тот момент, когда лопаты могильщиков стали засыпать землей гроб юношей. Все знали на Зажигалке, но эта тайна осталась неузнанной на много лет, да и теперь еще многие сомневаются.
Печальный звон колоколов саваном одевает Город. Северина идет за гробом, завернутая в черную шаль, и ее вечный траур, в десятый раз обагренный кровью, заставляет содрогнуться фундаменты зданий.
Плакальщицы расчищают ей дорогу среди толпы скорбящих и любопытных бесхитростными воплями, от которых в раскаленном кладбищенском воздухе разбегаются трещины:
– Сострадания ее горю! Меньшого сына у нее убили!
Она, сеньора страдания, потерявшая десятерых детей, медленно шагает рядом с телом своего меньшого. Лице ее мрачно, губы зловеще бормочут суровое проклятие: «Кровь дитяти пролита днесь. За кровь дитяти врага постигнет месть».
По взволнованной толпе, общим шепотом возмущения, разносится весть: «Лучший друг предательски убил его». Из уст в уста передается имя убийцы: «Гильермо Вилли Киньонес, чтоб его дьявол утащил в пекло».
– Чем же он убил его?
– Да собственным оружием покойного, застрелил из «Вальтера Р38» – этот пистолет был проклят еще в прошлом, потому что был орудием военных преступлений – из него расстреливали евреев.
В Городе только об этом убийстве и говорят; да и во всей стране тоже. Газеты на первых страницах обсуждают кровавое событие, журналы заполнены гипотезами, интервью, репортажами. Один желтый листок вопрошает: «Где же убийца? Что случилось с капралом Киньонесом?»
Никто не знает его местонахождения. Он сбежал после преступления, и где он, неизвестно. Как обычно, ни власти, ни правосудие не находят ни следов, ни улик, ни свидетелей, да им и дела нет до всего происшествия. Но народ-то знает. Народ всегда все знает. Киньонесу не удалось сбежать, Барраганы отомстили и покончили с ним.
– А куда же в таком случае делся его труп, ведь и трупа не видели?
– Его бросили собакам, и те его сожрали. Чтоб его не искали, чтобы не нашли его никогда. Ни следа от него не осталось, ни памяти. Разве что голая кость где-нибудь в дальнем патио.
– Никто не видал Немую на похоронах…
– Ее не видали, потому что ее там и не было. Но вот чего никто не знал, да и теперь знают немногие, так это, что и самого Арканхеля Баррагана, покойника, там не было.
– Не может быть. Все мы видели его гроб.
– А его внутри не было. И не умирал он вовсе. Северина сознательно похоронила пустой ящик.
– Так это все был блеф?
– Да.
– А где же тогда был Арканхель?
– Он был спрятан в одном из закоулков в подвалах, вместе с Немой. И со своим другом капралом Гильеромо Вилли, который тоже был жив.
В тот день, когда Гильермо Вилли уснул в доме Барраганов, Немая, просмотрев его предательские сны, вцепилась в его руку, вонзив ногти так, что кровь потекла. Она втащила его в глубину дома, заперлась с ним один на один в кладовке с инструментами, и давала ему пощечину за пощечиной, пока он, и не попытавшись защититься, не заплакал как ребенок и не рассказал ей все.
– И что же он ей рассказал?
Он открыл ей, что Монсальве заплатили ему, чтобы он завоевал дружбу и доверие Арканхеля и убил его. Он открыл ей и то, что много раз у него была такая возможность:
– Но я не хотел его убивать, потому что Арканхель в самом деле стал мне братом. – Монсальве тревожились, потому что время шло, а их приказ не выполнялся, и давили на него угрозами. Они дали ему неделю срока. Эта неделя уже прошла. – Теперь Фрепе Монсальве не доверяет мне. Мои дни сочтены, – сказал Немой капрал Гильермо Вилли, и она проникла вглубь его помышлений и чувств, и узнала со всей достоверностью, что они искренни.
Тогда-то она и составила весь план и приступила к его исполнению. Она привела Арканхеля и знаками заставила капрала повторить перед ним то, что он ей рассказал. Она превратила Северину, Макаку и Ану Сантана в своих единственных сообщниц, взяв с них клятву молчать, и вместе с ними – общаясь с помощью записок – изобрела мнимые преступления, спрятала юношей в подвалах, распустила фальшивое известие об их смерти, устроила фиктивные похороны.
– А Нандо они открыли правду?
– Что смерть Арканхеля – обман, это они ему сказали, чтобы поберечь его – а то горе его бы надвое разорвало. Но они и словечком не намекнули ему о бегстве, и не сказали, где спрятаны юноши. Боялись, как бы Нандо не прикончил капрала в припадке ярости, ведь он не знал жалости к предателям, даже раскаявшимся.
Немая достала свой запас долларов, припрятанных в годы благоденствия, и вручила их Арканхелю. Сумма была достаточной для того, чтобы уехать далеко и жить без забот в любой стране мира. Она собрала чемоданы с одеждой и приготовила для побега «джип», где было оружие для двоих, запас бензина, бидоны с водой и корзина с провизией.
Когда остальные уходят на кладбище, оставив пустыми дом и весь квартал, и пока рассказы о преступлении и треволнения похорон владеют общим вниманием, Немая ведет племянника и его друга по темным потайным переходам подвалов, которые выводят их под землей за пределы Города. Они идут по пути сточных вод, торопливо ускользают по городским кишкам.
Они заживо погребены в подземном мире штолен и канализационных труб и продвигаются вперед на свет фонаря, как зомби. Их окутывают подземные испарения и жар из центра земли, их задевают по лицу, пролетая, невидимые летучие мыши. Они слышат над своими головами поток шагов и молитв, который параллельно их движению течет по поверхности, рождая мрачное эхо. Арканхель ошеломленно узнает причитания на собственных похоронах.
На цыпочках юноша идет за своей теткой. Он повинуется ей молча и покорно, хотя и знает, что туннель, по которому он идет, – это туннель времени, шаг за шагом уводящий его от того прошлого, в котором она остается. Его сердце, сбившись с ритма, несется вскачь на двух противонаправленных скоростях: систолы сжимает агония оттого, что он ее покидает, диастолы расширяет волнение перед лицом целого мира, который ждет его, одновременно пугающий и притягательный.
– Они добрались до конца подземного лабиринта в тот самый момент, когда лопаты могильщиков закрывали землей могилу Арканхеля.
Перед ними возникает лестница в тринадцать ступеней, она ведет наверх, к двери, из-за которой пробивается белый луч дневного света, озаряя их лица. Быстрыми движениями, без канители и промедления, Немая удостоверяется, что у Арканхеля висит на шее Каравакский крест, вручает ему ключи от «джипа», припаркованного снаружи, отпирает ржавые висячие замки, отодвигает задвижки, снимает цепи и толкает дверь – та скрипит, подается и распахивается настежь. Их накрывает прямоугольник света, свет заливает их с головы до ног. Ослепленные, они трут глаза, и теряют несколько секунд, пока к ним не возвращается зрение.
Арканхель обнимает Немую. Он ничего не говорит ей, но она чувствует у своей груди бой бешеных бонго, [68]68
Бонго– негритянский барабан.
[Закрыть]что гремят в груди у него. Тогда безо всякого усилия она произносит, звонко и внятно, единственные слова, которые ей суждено сказать в жизни:
– Уезжайте подальше, и забудьте.
Двое юношей бегут по грунтовой дорожке к «джипу», а Немая остается позади, прислонившись к косяку двери. Она вслушивается в последние отзвуки уже расходящейся похоронной процессии, сует руки в карманы своей черной юбки и смотрит бесслезными глазами вслед своему позлащенному и возлюбленному племяннику, Арканхелю преславному, навеки уходящему от нее, воскресшему днесь от своей мнимой смерти.
* * *
Снова Нандо Барраган в оглохшем и зеленом мире. В мире цвета мяты, и зеленого стекла, и зеленого халата хирурга. Несущие боль волны просветления и уносящие боль волны забытья, сменяя друг друга, проходят по неспокойным водам его рассудка. Анестезия безжалостно покидает его, оставляя одного, в груди у него жжет.
– Почему он опять оказался в больнице, его что, снова ранили?
– Нет. Точнее, и да, и нет. Он попал в больницу в результате целой цепочки неожиданных событий, начавшихся в один прекрасный день в девять часов утра.
Ровно в девять утра национальные вооруженные силы впервые в истории вмешались в дела Нандо Баррагана и вторглись в его дом. Они приехали на восьми «джипах», трех мотоциклах и одном броневике. Шестьдесят три солдата под командованием полковника Пинильи обшарили все до последнего уголка в поисках оружия, взрывчатки, наркотиков, отпечатков пальцев, подозрительных книг, иностранной валюты, подрывных прокламаций, карт Кубы, ну хоть чего-нибудь, чего бы то ни было, что могло бы скомпрометировать Нандо Баррагана.
– Они были уверены, что обыскали все до последнего уголка, но ничего не нашли. Оружие хранилось в одном из закоулков в подвалах, куда им было не добраться. Так или иначе, они арестовали Нандо.
– Как же, если они ничего не нашли?
– Они сказали, что нашли пять пуль под кроватью, надели на него наручники и увезли. Пташка Пиф-Паф, Ножницы и все прочие ничего не могли поделать: они и пикнуть не успели. Никогда раньше они не сталкивались с танковыми орудиями и полубатальоном солдат. Даже и сам Нандо не протестовал, так велико было его изумление. От кого угодно он ожидал бы подвоха, но не от властей: они ни разу против него не выступали.
– Так что же, только за эти пять пуль они арестовали второго Рэмбо?
– Именно так. Его заперли в камере все еще в состоянии полного замешательства, за которым последовал взрыв смертельного гнева – так бывает с ягуаром, только что отловленным прямо в сельве и после дозы успокоительного выпущенным в зоопарке. В этом состоянии его и застал визит адвоката Мендеса – сам же адвокат был бледен, с изменившимся лицом, и одет кое-как, без обычной тщательности. Его волнение и великая озабоченность были настолько очевидны, что Нандо их сразу заметил:
– Что происходит? – спросил он.
– Монсальве купили Пинилью, того полковника, что захватил тебя. Они посадили тебя сюда, чтобы иметь возможность убить.
– Они думали изрешетить Нандо прямо там, в камере?
– Таков был их план. Но Мендес подсуетился быстро, и у него на руках была медицинская справка со всеми подписями и печатями, согласно которой Нандо требовалось безотлагательно перевести в больницу.
– Мы выходим отсюда, – сказал адвокат, – потому что тебя должны оперировать.
– Оперировать? Хорошо бы узнать, по какому поводу?
Мендес, уже таща его за руку к двери, ответил:
– Неважно, по какому поводу, так надо.
– И что за операцию ему сделали?
– Нандо заменили тюрьму на больницу, и доверенный хирург адвоката согласился поставить ему фальшивый кардиологический диагноз. Он усыпил Нандо наркозом, вскрыл ему грудь по линии старого шрама и спустя некоторое время снова зашил, не тронув ничего внутри.
В зеленой больничной палате Нандо Барраган возвращается к реальности из очень дальней дали, словно астронавт – из межзвездного пространства. При первом контакте с землей он чувствует жжение в груди; при втором уверенно, с закрытыми глазами, распознает присутствие женщины.
– Милена, ты? – спрашивает он все еще пьяным от пентотала голосом.
– Нет. Я Ана Сантана.
– Подойди, не уходи. Дай мне воды, Ана. В последний раз, когда я очнулся от наркоза, рядом была Милена. Она и до этого была рядом, во время пальбы, когда Мани Монсальве ранил меня в колено. Я не почувствовал боли, но понял, что колено он мне раздробил. Я упал ничком в лужу собственной крови и с пола не мог защищаться. Милена подняла меня, поставила на ноги, чтобы я мог стрелять, и прикрывала меня своим телом, служа мне при этом опорой. Она сильная женщина. И не один раз она рисковала собой ради меня.
– Тебе есть за что ее так любить.
– Подойди, Ана, иди поближе.
Ана Сантана делает шаг вперед и останавливается рядом с ним.
– Разденься, – просит Нандо, и ее глаза и рот округляются в полнейшем изумлении.
– Говорю тебе, раздевайся.
Словно готовясь совершить святотатство, Ана Сантана озирается по сторонам, чтобы убедиться, что нет свидетелей. Она никого не видит: медицинскому персоналу нет до них дела, а охранники, приставленные к арестованному, – по ту сторону дверей. Ана одна с мужем в послеоперационной палате. Она готовится исполнить приказ, от застенчивости медля. Расстегивает блузку, нерешительно, пуговку за пуговкой. Закрывает глаза и задерживает дыхание, словно ей должны сделать укол. Наконец набирается храбрости, рывком снимает блузку, и так и застывает, оставшись в бюстгальтере «Леониса», удрученная и героическая, как Жанна д'Арк на костре.
– Догола, – приказывает Нандо.
«Леониса» такой ширины и плотности, что напоминает бронежилет, а его бретели и резинки так туги, что отпечатываются на ее белой девической коже. Ее руки бродят за спиной, возятся вслепую с упрямыми петлями, пока наконец не расстегивают их. Застежки пружинно стреляют, и в послеоперационной палате груди Аны появляются залитые зеленым светом среди устаревших хирургических аппаратов, выкрашенных кремовой краской. Нандо глядит на нее недолгое время, и велит ей снять оставшуюся одежду и лечь с ним на каталку.
– Их видели две проходившие мимо медсестры, они-то потом и стали рассказывать. Они говорили, что Ана Сантана была совершенно голая, сидела на Нандо верхом, и они занимались любовью.
– А как же он мог, с только что зашитым разрезом на груди?
– А он и не мог. Он был слаб и измучен болью, и толку не вышло. У него не встало, и в тот момент исполнилось предсказание.
– Какое предсказание?
– Первое предсказание Роберты Каракола.
Когда Ана Сантана выходит из реанимационной палаты, застегивая блузку, растрепанная, с пунцовыми от стыда щеками, она сталкивается с адвокатом Мендесом – он, вместе с Пташкой Пиф-Паф, Симоном Пулей и Кудрей, идет повидать Нандо. Найдя Нандо в сознании, он рассказывает ему, что через несколько минут после того, как они покинули тюрьму, там в коридоре взорвалась бомба, задев осколками одиннадцать заключенных в соседних камерах. Пташка Пиф-Паф и остальные подтверждают это: они были свидетелями взрыва, о котором уже сообщили по радио.
– Ты спас мне жизнь, – говорит адвокату мнимый больной. – Откуда ты узнал, что меня хотят убить?
– От Алины Жерико.
– Я опять твой должник. Ты и на этот раз не позволишь уплатить тебе долг?
– Позволю, Нандо. На этот раз – да.
* * *
– Смотрите, какие бывают в жизни совпадения. В те же дни, когда Нандо был в Центральной больнице Города, самый престижный пластический хирург Порта амбулаторно сделал Мани операцию, чтобы удалить шрам на лице.
– Так и было. Но заметьте разницу. Нандо вскрыли старую рану, тогда как Мани удалили ее навсегда.
– Кто-нибудь навещал Нандо во время его, так скажем, выздоровления?
– Да, Ана Сантана каждый день ходила к нему в больницу. Приходила с рассветом, приносила ему сигареты «Индианка» и фасоль домашнего приготовления. Он обращался с ней ласково, как никогда раньше, но звал ее не Ана, а Милена. Эта путаница имен стала постоянной, вплоть до того, что Нандо Барраган окончательно вычеркнул из своего словаря настоящее имя жены.
– И Ана не возражала?
– Нет. Она легко свыклась со своим новым именем и новой личностью, и благодарно принимала немыслимую прежде ласку, которую ее муж стал к ней проявлять. Однажды она даже решилась пожаловаться ему на его мать. Она сказала, что Северина продала их брачное ложе, подарок Нарсисо, в один шикарный отель, купивший его, чтобы начать льготную программу, с подарками и скидками, для молодоженов, приезжающих на медовый месяц.
– Неважно, – сказал Нандо. – Оно и лучше. Это было дурацкая штуковина.
Ана возразила:
– Но где же мы теперь будем спать?
– Спи со мной, Милена, в гамаке.
* * *
Генерал с внушительными патриотическими усами и пятнами плесени на лице разглядывает со своего холста Мани Монсальве, ведущего конфиденциальную беседу с Тином Пуйуа в главном зале своей резиденции, перед холодным камином.
– Мани, после того как он велел убрать со своего лица шрам, стал немного походить на зеленого генерала с портрета. По крайней мере, такой слух распускала, преисполнившись гордости, сеньорита Мельба Фоукон – она ставила это себе в заслугу.
Но сегодня на лице Мани – сумрачное выражение дикого лесного зверя, которое испугало бы сеньориту Фоукон. Тин Пуйуа, напротив, снова выглядит самоуверенным, снова чувствует себя свободно, он словно подключился к высоковольтному источнику энергии и за долгие месяцы впервые оказался в своей тарелке. За время, прошедшее со вчерашнего вечера, он возвратил себе утраченное место в сердце своего патрона, и говорит с ним шепотом, шепчет в самое ухо, хотя они одни в огромном помещении – так близко друг к другу, что их руки соприкасаются.
– Разве Мани не питал отвращения к физическому контакту с людьми?
– Да, но в тот день ему нужна была поддержка Тина.
Между ними витает та братская близость, что объединяла их некогда, во времена пережитых вместе опасностей. Они снова одинаково смотрят, одинаково чувствуют, повторяют одни и те же слова, дышат в унисон, проявляют одинаковые рефлексы, как когда они были лучшими дружками, товарищами до конца во всем хорошем, а особенно в дурном.
– Что же их снова так связало, точно двух быков за рога веревкой?
– Сообщение, доставленное одним из агентов.
Они перебирают последние события, прокручивают информацию и все время приходят к единственно возможному заключению, исторгающему вспышки зловещего света из глаз Мани: Алина Жерико сообщила Нандо Баррагану, что его собираются убить. Только она могла сделать это: должно быть, слышала, как Фрепе у бассейна в «Деве Ветра» планировал покушение. Дала знать птичке, та вспорхнула и была такова. Это адвокат Мендес предупредил Нандо в тюрьме, оформил ему специальное разрешение и переправил его в больницу прямо перед тем, как грянул гром. Нельзя не заключить, что Мендес узнал обо всем от Алины, хотя мысль о предательстве жены и причиняет Мани Монсальве столь острую боль, какой он еще не испытывал в своей бурной жизни.
Тин, напротив, упивается, смакуя удовлетворение от того, что его предостережения оправдались. Он всегда подозревал Алину, никогда не мог скрыть неприязни к ней, и если сейчас он не упрекает Мани в недостатке чутья – мол, говорил я тебе, – то лишь потому, что не хочет влагать персты в его рану. Ему достаточно знать, что он восстановил свое положение единственной близкой души, устранив конкурентку, да так, что и пальцем для этого не шевельнул.
– Алина совершила огромное предательство, передав Барраганам секретную информацию, но это было еще не все, она была на пороге второго предательства, куда хуже первого.
– Какого?
– Агент из полиции предостерег Мани насчет рейса 716 авиакомпании «Авианка» на Мехико в 2.15 ночи. Этим самолетом должны были лететь вместе адвокат Мендес и Алина Жерико.
Мани Монсальве выслушивает сообщение молча: он бросает эту отравленную кость в кастрюлю своей души и варит на медленном огне в остром супе из ревности, гнева и боли, приправленном солью безумия, горькими каплями подозрения и кисло-сладкими на вкус листочками надежды. Тин Пуйуа ворошит угли, помешивает похлебку половником, сдабривая ее пикантными и пряными щепотками мести. Потом он разливает ее по двум глубоким тарелкам и усаживается вместе с Мани хлебать варево полными ложками, с пылу с жару, так что оно обжигает им внутренности.
– Этот тип хочет увезти навсегда мою жену и моего ребенка, – говорит Мани, пьяный от бурлящего супа, и в его голосе звучит голос гуманоида, на далекой заре времен бросавшего вызов враждебной вселенной ради сохранения своего рода.
– Алина – обманщица и предательница, – напоминает Тин, он говорит так ему в глаза, зная, что Мани уже не может это опровергнуть. Любой ценой он хочет воспрепятствовать тому, чтобы его хозяин помиловал грешницу и попытался ее спасти. Он решает продвинуться еще на шаг:
– Кара должна постигнуть всех троих, – изрекает он.
– Ребенка – нет, – рычит будущий отец. – На нем нет вины. Предупреждаю тебя: что бы там ни было, с малышом ничего не должно случиться.
Они уговариваются рассматривать это дело как сугубо личное, не сообщая о нем остальным Монсальве, и действовать вдвоем, по своему разумению и на свой риск, безо всякого предварительного плана, по мгновенному вдохновению и повинуясь свободному велению инстинкта.
Отбрасывая назад свисающую прядь волос, дрожа от возбуждения, Тин возвращается в гараж, чтобы подготовить «джип» и оружие. Мани поднимается в свою комнату, идет в душ и вверяется щедрому потоку: дает лавине воды уменьшить жестокий жар, грозящий расплавить его мозг и низвергнуться в сердце, подобно лаве вулкана. Он твердит самому себе, что час озноба миновал. Надо совладать с огненной рвотой. Отныне и далее, что бы ни произошло, все должно быть под контролем и делаться хладнокровно. Он чувствует, как пар пропитывает его, разделяя надвое: Мани, обугленный горем, разрушается и выходит вон, как пена из сифона, в то время как другой Мани, охваченный жаждой возмездия и обаянием авантюры, ободряется, восстанавливается, отдается напору воды, впитывая необходимую для действия энергию, и остается в таком положении, не торопясь и не глядя на часы, столько времени, сколько просит тело и сколько требует душа.
Он выходит из-под душа и направляется в комнату, двигаясь вновь гибко и легко, как молодой и наглый кот. Он отвергает мысль одеться в ту изящную и скромную одежду кандидата в приличные люди, в которую его нарядила сеньорита Фоукон. Также он отказывается и от кричащего обличья пройдохи с претензиями, в котором он начинал удаляться от своего прошлого.
Из дальнего ящика, куда он спрятал их от своей советницы по имиджу, он вынимает свои старые голубые джинсы, мягкие и гибкие, как вторая кожа, свои излюбленные во времена похождений с шайкой кроссовки, свою выцветшую просторную хлопковую рубашку без пуговиц, уже махряшуюся от многочисленных стирок. Он одевается тщательно, любовно оглаживает, словно священнодействуя, каждый предмет одежды – точно вояка, стирающий пыль с испытанного в сотне боев оружия.
– Он снова стал таким, как раньше.
– Да, таким же. Но нет. Чтобы стать таким, как раньше, ему не хватало одной детали: шрама. Шрама уже не было: стать прежним он уже не мог.
Мани Мосальве хватает какой попало револьвер, спускается в гараж и впрыгивает в «джип» рядом с Тином Пуйуа – тот, за рулем, исполненный решимости и готовый действовать, нетерпеливо рвется вперед.
– В аэропорт, брат, – командует Мани, ободряя его понимающим хлопком по плечу.
* * *
Адвокат Мендес произносит «одиннадцать» и не верит сам себе. Он пересчитывает еще раз: в самом деле, чемоданов одиннадцать – ими битком набита маленькая гостиная в квартире Алины Жерико.
– Здесь мои вещи, Йелы и малыша, – как ни в чем не бывало, объясняет Алина. – Мы весь день укладывались.
– И Йела? – он ошарашен, его голос выражает изумление.
– Разумеется, без нее я не поеду.
– Это невозможно, Алина, я не брал ей билета…
– Купим в аэропорту.
– Как ты не понимаешь, а если мест не будет?
– Я знаю одно, что без Йелы я не поеду.
– Да что это ты вздумала, а паспорт?
– У нее есть, она однажды ездила в Эквадор к брату, он уже умер.
У адвоката Мендеса было двадцать семь часов, ни минутой больше, на подготовку побега в Мексику: паспорта, билеты, доллары, разрешение на работу, рекомендательные письма для его новых работодателей, неожиданности, возникающие в последний момент, и еще тысяча забот. Он действовал в строжайшей тайне, чтобы не возбудить подозрений. По его плану следует выехать в аэропорт скрытно, скромно, чтобы остаться незамеченными. Совершенно ясно, что если Мани Монсальве что-нибудь узнает, он убьет их сразу же, и так он и говорил Алине, хотя и смягчал свои слова, чтобы не усилить ее и без того большого волнения.
И теперь оказывается, что он должен провести эту секретную, в высшей степени рискованную, операцию не только вместе с беременной женщиной на девятом месяце, но в придачу со страдающей сердечной болезнью старухой и с одиннадцатью чемоданами. Однако он не произносит ни слова, поскольку угадывает, что беззаботность, чуть ли не легкомысленность речей и поведения Алины, – маска, скрывающая ее глубокую тревогу; он видит, что она стремится резкими мазками толстой кисти нанести слой лака на свое безмерное уныние, рожденное принятым вопреки сердцу рассудочным решением.
Поскольку телефон в квартире Алины прослушивается и пользоваться им опасно, Мендес бежит к автомату на углу и звонит в аэропорт, чтобы попытаться заказать место для Йелы. Ему отвечают, что это не проблема: к счастью, самолет отправляется пустым.
Он возвращается в квартиру. Одиннадцать часов вечера, в аэропорту им надо быть самое позднее в без четверти час, дорога занимает полчаса, но Алина все еще ходит босиком, с бигуди в волосах, и упаковывает какую-то посуду. Она любовно заворачивает каждую тарелочку в газетную бумагу, прежде чем положить ее в картонную коробку, и адвокат думает, что такими темпами она никогда не закончит.
– Алина, мне очень жаль, но у нас нет времени…
– Помогите мне, доктор, – увидите, как мы быстро управимся. Если бросить вещи кое-как, то когда я вернусь, они никуда не будут годиться.
– Может быть, пройдет много лет, пока ты сможешь вернуться…
– Тем разумней оставить вещи в порядке.
Мендес не хочет давить на нее. Он не собирается добавлять ни капли лишней тяжести в ее лущу, и без того натянутую, как струны типле. Он знает: одно лишнее слово, и может прорваться напряжение горечи и досады, которые вызывает у нее необходимость похоронить отрезок жизни, нерадостный, но безудержно живой до сих пор.
Он опускается на колени вместе с Алиной и начинает укладывать тарелки неловкими руками и с бесконечным тщанием, словно никогда не делал ничего более важного и в более подходящий момент. Он знает, что его единственный шанс в ее глазах зависит теперь от длинной цепочки простых дел вроде этого, которые мало помалу подорвут оборонительное недоверие женщины, достаточно молодой, но убежденной, что уже достаточно поздно, чтобы начинать жить во второй раз.
Обливаясь потом, обвешанный по уши сумками и чемоданами, адвокат спускает на лифте весь багаж и грузит его в автомобили, ожидающие в гараже. Когда он снова поднимается наверх, Алина заворачивает последние кофейные чашечки. Хотя от только что пережитых тревог она потеряла несколько килограммов, и на девятом месяце беременности выглядит, как будто она всего лишь на седьмом, Мендес боится, что у них возникнут проблемы при посадке в самолет – авиакомпании отказываются перевозить женщин, у которых слишком близок срок родов.
– Надо скрыть этот живот, – советует он.
– А как?
Мендес заранее все предусмотрел. Он оставил под рукой старое, очень просторное пальто, сохранившееся у него со времен его студенчества в Европе. Алина высокого роста, а рукава можно подвернуть. Она бурно протестует: так она умрет от жары, и вид нелепый, и цвет ей не нравится, но наконец сдается. Времени уже опасно много, Алина уже обута и причесана, все, похоже, готово, и адвокат открывает дверь квартиры, чтобы выходить, но она останавливает его: прежде ей надо поговорить с ним с глазу на глаз.
– Они уже поговорили, когда события настигли их и стало ясно, что у них нет иного жизненного выбора, кроме бегства. Ободренный критичностью ситуации, адвокат открыл Алине свою великую любовь, и она ответила спокойным взглядом серых глаз, сказавшим ему, что она знала обо всем с самого начала. Тогда он предложил ей жить вместе в Мексике, и она согласилась.
Йела, в шляпе, обходит гостиную с кувшином воды, в последний раз поливая растения, а они вдвоем закрываются в спальне.
– Я хочу, чтобы вы ясно понимали, доктор, – я уезжаю с вами в Мексику, потому что я очень вас уважаю и потому что на карту поставлена жизнь моего ребенка, но я по-прежнему люблю Мани Монсальве.
– Не беспокойся. Я буду так любить твоего ребенка, что тебе ничего не останется, кроме как полюбить меня.
В начале второго часа ночи, адвокат Мендес торжественно въезжает в аэропорт: с одиннадцатью чемоданами (двенадцать вместе с его собственным), старухой в шляпе и беременной в зимнем пальто. Немногочисленные пассажиры сонно бродят по обширным помещениям, разглядывая в витринах вещи, которые они не собираются покупать, они двигаются медленно, словно ждут опоздавших невесть на сколько самолетов. Алину охватывает уныние, оно – в холодном свете, струящемся из неоновых трубок, и в запахе набитых вчерашними окурками пепельниц, и она вдруг понимает: это час отъезда тех, кто не стремится вернуться, тех, кого некому проводить.







