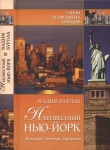Текст книги "Чернее, чем тени (СИ)"
Автор книги: Ксения Спынь
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 19 страниц)
Сейчас же по указаниям Софи Кедров переключал трансляцию с камеры на камеру, то отматывая назад, то возвращаясь в реальное время, то снова перематывая к самому началу.
«В Ринордийске всё спокойно, мерно башенка звонит»… Совсем как в старой песне.
Иногда, указывая на кого-нибудь из прохожих, Софи спрашивала: «Ну а что ты скажешь про этого человека?» Кедров отвечал ей, с виду только скользнув взглядом по указанному, а на самом деле подмечая всё: темп и направление движения, походку, одежду и всякий багаж, настрой, манеру держаться, а также кучу других мелочей, по которым с большой вероятностью можно было догадаться, кто этот человек, куда и зачем он идёт.
Это как раз и нравилось ей всегда в Кедрове, и это же выдавало в нём истинного потомка ссо-шника. (Видимо, тот, кто назвал «секретарями по связям с общественностью» людей с понятными обязанностями, отличался специфическим чувством юмора). Что касается лично Кедрова, то, думается, он вполне мог бы занять место своего прадеда в «чёрное время», никто бы не заметил подмены.
Главная площадь, юго-западный район, улица Кобалевых, Турхмановский парк…
Зелёный сквер на востоке города. «Зелёный» – это название, на самом деле зеленью здесь никогда и не пахло независимо от времени года. Софи жестом остановила Кедрова, чтоб посмотреть, что происходит там прямо сейчас.
В общем, всё как обычно, ничего особенного. Люди… Ходят, разговаривают. Их тут всегда гуляет какое-то количество – то меньше, то, как сейчас, больше. Но взгляд цеплялся за что-то, Софи даже не сразу поняла, за что именно.
А, та самая девчонка, которую она уже видела на улице, с постамента. Конечно, она тоже может здесь гулять, но Софи нахмурилась, заподозрив неладное: очень уж странно та вела себя. Почти сразу, как началась трансляция, девчонка вскочила со скамейки и стала озираться по сторонам. Будто почувствовала, что на неё смотрят. Да и что-то не нравилось Софи в самом этом человеке, как часто не нравится большое непонятное насекомое: может, оно и безопасно, а если нет?
Она и сама не понимала, чем это вызвано: это ведь всего лишь девчонка, самая обыкновенная и ничем не примечательная, таких много… Забавно, подумалось вдруг Софи: примерно в таком виде – светлые волосы, не достающие до плеч, голубые глаза, простоватое открытое лицо – обычно рисуют страну, когда хотят изобразить её человеком. Только рисуют её всё же чаще в сарафане или платье цветов национального флага, а девчонка по-прежнему была в курточке и джинсах. И, возможно, кого-то ещё она напоминала…
Прекратив озираться, она быстрым шагом вышла из зоны обзора камеры. Видимо, у неё первой сдали нервы. Софи чуть усмехнулась, но продолжала молчать в задумчивости.
– Что-то не так, Софи? – вполголоса осведомился Кедров. – Я ничего подозрительного не вижу, но, может, ты…
– Нет, всё нормально, – она отмахнулась. По экрану взад и вперёд всё так же ходили сероватые люди. – Выключай, мы сегодня хорошо поработали. Всё же необходимые меры были приняты вовремя.
– Благодаря дальновидности Вашего Величества, – полушутя заметил он.
– А также благодаря работе твоих людей. Надо признать, ты умеешь организовать их. Но смотри, Эндрю, – Софи предостерегающе подняла палец, – если что, ты у меня первый под прицелом.
Она рассмеялась и хлопнула по карману, где у неё лежал револьвер. Кедров в ответ сдержанно улыбнулся.
Эта шутка повелась у них с давних пор, так же, как повелись в их компании названия «Эндрю» и «Волчонок».
Можно вспомнить и остальных. Хотя, нет, не стоит. Они уже вычеркнуты.
11
К вечеру они успели даже немного поцапаться – после того, как Лаванда спросила, что за человек Софи Нонине. В промежутках тишины было слышно, как зрачки кошки на стене щелчками следовали за секундами, а потом их снова перекрывали голоса. Стрелки подползали к пяти.
– Я же тебе объясняю! – всё больше раздражался Феликс. Досада брала его, что ему не верят на слово. – Я же говорю, что так всегда и бывает. Все они сначала такие: альтруисты, патриоты, любимцы народа… Потом уже начинается. А когда начинается, то уже слишком поздно: все только стоят с открытыми ртами – «ой, как же это так, а раньше так не было, ой, а может, нам правителя подменили, а мы и не заметили, ой, а что же теперь, ой, это, наверно, так и надо, ему виднее, переживём как-нибудь»… А нифига так не надо, просто никто не понимает, что можно и по-другому.
Лаванда хотела что-то возразить, но Феликс перебил снова:
– Вот пока страна будет доверять всяким сволочам и бывшим ссо-шникам, так всегда и будет. Люди вроде Нонине будут пользоваться этим в своих целях.
– Вот целей её я и не понимаю, – заметила наконец Лаванда, воспользовавшись просветом между потоком слов. – Я не верю, что Нонине просто вот так пришла и просто вот так чинит зло, чтоб всем было плохо, без всякой цели. Я бы поверила, если б она была отрицательным персонажем книги, но Софи всё же – человек, какой бы она ни была. Ради чего бы ей понадобилось всё это?
Феликс пожал плечами:
– Ради власти. Разве это не очевидно?
– Власти… Но что она такое, эта власть, сама по себе? Нет, я не понимаю, – она покачала головой. – Ради особых возможностей, ради материальных благ, в конце концов… Но ведь это всё было бы у неё и так.
– А фиг её знает, – раздражённо отмахнулся Феликс. – Слушай, по-моему, не суть важно, чем там руководствуется Нонине, главное – что делать с последствиями.
– А мне кажется, – тихо проговорила Лаванда, – мне кажется, что, возможно, это и есть самое важное… Если бы знать, как это всё в действительности. Как это происходило, что и когда случилось точно, пока не стало, как сейчас. Если б было, у кого спросить это всё, кто бы всё это помнил…
– А это идея, кстати, – с внезапным интересом отозвался Феликс. – Вообще, конечно, человеческая память – штука ненадёжная и подвержена всяческим причудам. Когда речь идёт об исторических событиях, даже очевидцы начинают со временем забывать, как всё было на самом деле. Известная вещь, что на их рассказы нельзя слепо полагаться.
– И на твои, значит, тоже?
– Разумеется. Но поскольку, – досада на его лице сменилась просиявшей гордостью, – я был в курсе такого обстоятельства, то заранее придумал кое-что понадёжнее.
– Что же?
– У меня хранится архив газетных и журнальных вырезок, – вполголоса, торжествующе заявил он. – Я их начал собирать лет в пятнадцать, ещё до того, как пришла Нонине. В них – все значимые в масштабах страны события за все эти годы, и никакие причуды памяти их не изменят. Правда, я это вовремя придумал? – Феликс тихо рассмеялся.
Глаза Лаванды широко открылись:
– Всё за последние годы… – восхищённо выдохнула она. Так вот он, тот ликбез, который она тщетно искала. Если проштудировать это, может быть, в её голове и устоится что-нибудь понятное и определившее форму, что уляжется ровными кирпичиками и не будет больше тревожить своей неопределённостью.
– На самом деле, не только за последние, есть и более давние номера, – как бы между прочим уточнил Феликс. – Конечно, уже не с такими подробностями, но если мне попадалась какая-нибудь старая газета или журнал, я пытался утащить их к себе.
– А этот архив, – осторожно поинтересовалась Лаванда, – он секретный, да?
– Почему? Обычный архив. Я, правда, устроил для него тайник, но это просто на всякий случай. А так не секретный, конечно.
– Я бы взглянула на него… – ещё осторожнее заметила она. – Ну, то есть, если можно…
– Конечно, можно! – тут же оживился Феликс. Горящий энтузиазм в его глазах выдавал, что просто обладания архивом ему не хватало и что уже давно хотелось показать его кому-нибудь.
– Я его держу в кабинете, – затараторил он. – Сейчас покажу. Там не только все важные новости, есть и просто знаковые для эпохи вещи: награждение там какого-нибудь деятеля или чей-нибудь приезд… Ну, сама сейчас увидишь, там всё по годам. Можешь прямо тут, в кабинете и устроиться, я тебе мешать не буду, – и тихо пробормотал, видимо, сам себе. – Попробую пока дописать эту чёртову статью.
12
Ринордийск… Древний и вечно новый, вечно шумящий и блистающий и – в то же время – зловеще молчаливый; город фейерверков и чёрных теней, переменчивый, обманчивый, как витражи Сокольского собора: не поймёшь, в улыбку или оскал сложились эти губы, мирное спокойствие отражается в глазах или затаённая горечь. Как большой зверь, разлёгся он на холмах: то тихо дремлет, то приоткрывает неспящий лукавый глаз, то закрывает вновь.
Играет, будто сам по себе. На самом же деле следит внимательно: смотрят ли на него, следуют ли за ним, любуются ли, внимают ли.
И да, точно – огромная страна вращается вокруг него.
Сидя на полу рядом с тайником (архив хранился под днищем шкафа, за узкой съёмной панелью), Лаванда неспешно и внимательно перебирала папку за папкой и просмотренные уже листы откладывала в стопки около себя.
Подборка у Феликса, надо сказать, и впрямь была обширная. Самые ранние номера отсылали ещё в позапрошлый век. Таких вырезок, правда, нашлось немного, но были они весьма красноречивы.
На самом первом – пожелтевшем и помятом – листе глаз привлекали две новости. Одна – на лучшем месте передовицы, про празднование пятидесяти лет правления императора Константина III Неизменного. По центру листа торжественно разместилось фото – старое, в сепию, с мягкими, точно сглаженными контурами. Император Константин застыл на нём изваянием и с мягкой улыбкой смотрел на читателя. Этого пожилого человека вообще отличала какая-то доброта во взгляде и во всём облике. Недлинная борода лучиками расходилась от подбородка. В руке император держал хрустальную сферу – символ власти, который, как помнила Лаванда из школьной программы, обозначает мир людей: в лице жителей страны он как бы вручается в руки правителя.
Ниже была заметка поменьше: сообщалось, что по случаю пятидесятилетия восшествия императора на престол была открыта Арка Великого Стояния, на одном из холмов, в самой высокой точке столицы. Арка была облицована цветным мрамором и возносилась на десять метров вверх, название же было выбрано в память о старой полузабытой легенде. У подножия арки были выгравированы описания всевозможных заслуг Константина III, а наверху, над проходом стену украшал барельеф, созданный лично В.С. Цапелем – известным скульптором того времени, как следовало из заметки.
На барельефе была изображена прекрасная дева-воительница, побеждающая чудовище – мантикору со злобно открытой пастью. Лаванда удивлённо всмотрелась: да, контуры чуть-чуть другие, менее изящные, драматично заострённые, но в них безошибочно узнавалась скульптура паркового фонтана. В заметке говорилось, что по замыслу фигура девы символизировала народ в целом, а мантикора – некого абстрактного угнетателя, поработителя.
Удивилась же Лаванда вот чему: сколько она помнила по фотографиям и всевозможным описаниям Арку Великого Стояния, над её проходом всегда красовался вовсе не этот барельеф, а государственный герб. Более того, хотя сюжет на тему воительницы и мантикоры был довольно распространён, первые упоминания о нём ассоциировались с временами куда более поздними – с эпохой нововластья, когда императоров заменили первые выборные президенты. Запечатлённое в камне противоборство стало тогда символом победы над старым строем, но ни о каком скульпторе Цапеле при этом речь не заходила. Лаванда вообще не помнила, чтоб ей где-то прежде встречалась эта фамилия. Может быть, этот Цапель не был уж так известен, как утверждала статья? Либо же здесь скрывалась какая-то тайна.
Оставив этот вопрос будущему, Лаванда продолжила изучать папку. На странице следующего номера, более позднего, но не так уж намного отстоящего от первого, сообщалось о строительстве грандиозного моста через реку Тусконку, отделявшую западные области вместе с Ринордийском от центральных и восточных регионов. До этого момента сообщение через реку осуществлялось только посредством лодок и мелких паромов. Сделано это было, помимо прочего, во избежание массового бегства нарушителей закона подальше от столицы. Открытие моста, как радостно заключала статья, ознаменовало момент, когда необходимость в этом отпала: ведь наступили новые, просвещённые и гуманные времена. Кроме того, это означало, что центр и восток станут ближе к Ринордийску и сменят упадок на процветание.
К этой статье фото не было, только чёрно-белая картинка с аккуратно выведенными тонкими контурами. Мост на ней казался таким лёгким, почти невесомым, а ведь наверняка он был рассчитан не только на одиночных пешеходов, но и на огромные грузовые фуры. Вокруг конструкции всё ещё суетились маленькие фигурки: что-то подправляли, подрихтовывали, подкрашивали, наводили последний лоск. Невероятно, как они всё же смогли это построить.
А время шло, промелькнули годы и десятилетия. Большая стройка железных дорог и распространение самолётов, революция и конец императорства, новые эйфории нового мира, совпавшие с первыми годами нового столетия, расцвет науки и искусств, которые были наконец с лихвой поддержаны государством, спонтанно возникающие повсюду общества и движения… Внезапный раздор в рядах высших лиц – похоже, они не могли договориться об общих приоритетах и дальнейших действиях – фактически закончился исчезновением официального правительства, и какое-то время страна существовала вообще без всякой постоянной верхушки. Эйфорическим настроениям это не помешало, они даже усилились, правда, приобрели какой-то почти разрушительный характер. Чтоб почувствовать это, не обязательно было даже вчитываться в новости: фото тех лет и заголовки передовиц говорили достаточно. («Депутаты отпраздновали День солнца костром на крыше парламента», – гласила крупная надпись на одном из листков).
Дальше вырезок становилось заметно больше, сложены они были более упорядоченно, причём встречались в них не только заметные события, но и эпизоды обычной жизни, да и просто разные интересные мелочи – вроде старой полустёртой фотографии танцовщицы на городской площади («Новая звезда Ринордийска», – пояснял заголовок).
Объявившийся вдруг новый правитель пришёл внезапно, будто бы из ниоткуда. Сначала его тоже называли президентом, но эту игру в приличия он поддерживал недолго и через год честно провозгласил себя просто Верховным Правителем. (Софи Нонине, вспомнила Лаванда, прождала дольше – целых пять лет). Тут начиналась эпоха, которую позже в учебниках окрестят «чёрным временем».
Впрочем, оно наступило не сразу, не вдруг. Несколько лет – долгих, насыщенных невозможными событиями лет – жизнь сражалась с обрушившимся на неё камнепадом, не хотела проигрывать. И, конечно, проиграла, но что это были за годы…
Время расцвета творческой интеллигенции, когда на каждом клочке под солнцем теснилось по нескольку шедевров сразу, время безрассудства и отчаянного веселья, как в последний день, время красивых жестов – бессмысленных, но эффектных, время открытых ещё протестов и всеобщих забастовок как будто на пустом месте, время настоящих подлостей и самоотверженных поступков, время общепринятой трусости, время неожиданного и подлинного героизма.
Лаванда всматривалась в эти лица, пробегая по ним пальцами: лица художников, лица рабочих, лица репортёров, которые рискнули что-то освещать в такое время, лица людей из правительственных кругов и лица маргиналов, подвешенных в воздухе эпохи…
Среди всевозможных газет и журналов попалась вдруг плохо отпечатанная листовка на тоненькой бумажке – скорее всего, делали самостоятельно, подручными средствами, и при взгляде на содержимое становилось понятно, почему.
Текст – с опечатками, с кое-где не прорисованными буквами – сообщал о суде над неким поэтом, ещё совсем молодым человеком, который обвинялся в государственной измене и подрыве авторитета действующей власти. Вроде бы он написал какую-то эпиграмму на правителя, – ах да, Лаванда вспомнила эту историю. С любопытством всмотрелась она в бледную, но с чёткими контурами фотографию. Очевидно, снимок был сделан задолго до всех этих событий: мужчина в гражданском, по моде тех лет, выглядел вполне довольным жизнью и никак не походил на осуждённого. Не походил он, однако, и на пламенного борца с режимом, каким представляли его учебники по литературе. Это был скорее человек не от мира сего, мечтатель, сам плохо понимающий, кто он и где находится, и которому не так уж много дела до окружающих людей и их проблем. (Как это было понятно и знакомо…)
Когда Лаванда отложила листовку и перешла к следующей бумаге, это оказался куда более новый газетный номер, изданный примерно в середине прошлого века. Наверно, сюда он был вставлен не в хронологическом порядке, а по тематике: в статье разбирались теперь, спустя десятилетия, все обстоятельства того длинного и запутанного дела.
Очевидно, покровы, призванные хранить неприглядные стороны власти Правителя, были теперь сдёрнуты, и многое всплывало теперь на поверхность. Сотни желающих готовы были перерывать документы и свидетельства очевидцев, выуживая новые и новые факты.
Зачитавшись и погрузившись в подробности этой истории, Лаванда не заметила, как сзади подошёл Феликс.
– Про что читаешь?
Она вздрогнула от неожиданности и обернулась.
– Про поэта, который написал эпиграмму… и про эту девушку…
– А, дело Лунева, – Феликс навис у неё над плечом и внимательно рассматривал номер, будто не видел его уже десятки раз. – Красивая была эпоха.
Он отошёл немного и задумался, улыбаясь чему-то.
– Стрёмная, но красивая. Вырезки по «чёрному времени» я специально собирал. Выискивал их везде, где можно. Неплохая коллекция получилась, а?
– Да, неплохая, – согласилась Лаванда. – А почему именно «чёрное время»?
Феликс пожал плечами:
– Просто… нравится. Всё-таки это было время великих людей и великих дел.
– Думаешь?
– Да… Что ни говори, теперешние люди сильно измельчали. Да и вообще многое измельчало, – он как-то горько усмехнулся, но быстро переделал эту усмешку в горделивую улыбку. – Кстати, а ведь Лунев учился в том же университете, что и я в своё время.
– Правда?
– Да. Только тогда он назывался РФИ – Ринордийский филологический институт, а сейчас называется ГУЖ и СМИ.
– А что это значит? – не поняла Лаванда.
– Государственный университет журналистики и средств массовой информации, – насмешливо почему-то расшифровал Феликс.
– А… – Лаванда мало что смогла уловить в этом нагромождении слов. Её больше занимало, о чём думает Феликс, когда, как недавно, смотрит с чуть заметной улыбкой в пространство, будто видит там что-то своё.
– Ты хотел бы жить в ту эпоху? – негромко спросила она.
– Ээ… почему? Нет, конечно, – вопрос, кажется, сбил его с толку, но в следующую секунду Феликс уже вернул себе обычную уверенность. – Нет, это было бы глупо. Жилось там не очень-то легко, я думаю.
Он вроде бы собирался покинуть кабинет, но остановился в дверях. Лаванда пристально смотрела ему в спину. Настоящий ответ, – поняла она, – наверняка был «да».
Да – потому что жизнь невыносима, со всеми своими мелкими неприятностями и редкими моментами сомнительного довольства, со своей ненасытной рутиной, поглощающей всё. Да – потому что в душном пространстве так не хватает чего-то величественного и героичного. Да – потому что достаточно было пары строчек, чтоб ярко вспыхнуть и тут же сгореть, и, если повезёт, даже оставить след в истории и в памяти, и не надо было бы больше раз за разом писать длинные однообразные статьи, которые никто не читает.
Ведь ты этого хотел бы на самом деле, правда, братишка?
Но скажи она сейчас всё это вслух, это прозвучало бы насмешкой и, скорее всего, било бы по больному. Поэтому Лаванда промолчала.
Феликс обернулся, уже изображая обычный свой жизнерадостный вид:
– Через пару часов начнётся «Главная линия». Если закончишь к тому времени – приходи, сравнишь. Новости разных эпох довольно забавно смотрятся рядом.
– Я постараюсь, – кивнула Лаванда.
Феликс оставил её.
Откладывая листок за листком в скопившиеся вокруг стопки на полу, Лаванда постепенно продвигалась от давних и мрачных годов к современности.
Перед ней промелькнули лица самых истовых приспешников Правителя: Лаванда увидела и как их награждали в годы его власти, и как после его внезапной кончины они лишались этих наград, как имена их предавались анафеме, а большинство из них ждала совсем уж незавидная участь. Ну, кроме разве тех, кто успел почить собственной смертью (как министр внутренних дел Шмульнов, что мирно преставился в своей постели), и тех, кто – как, например, Кирилл Эрлин – вовремя отчалил за границу.
Года постепенно стали медленными, тягучими – не потому даже, что вырезок снова поубавилось, нет, сама жизнь теперь текла так: мерно, несколько однообразно, прерываясь лишь внезапными причудливыми идеями очередного президента, да нарушающими приличия скандалами, да иногда локальными военными конфликтами в отдельных регионах, почему-то постоянно одних и тех же.
В целом же всё двигалось, как широкая равнинная река, и даже становилось уже слегка скучно просматривать всё это, хотя, несомненно, жилось в те года совсем неплохо.
Но тут в воздухе повеяло чем-то тревожным, недобрым. Будто в ночной тишине подозрительного вида автомобиль остановился у соседнего подъезда.
Появился Чексин.
13
Эдуарда Чексина часто называли диктатором и узурпатором. В определённом смысле, так и было.
Всегда очень эффектный и производящий впечатление, он, казалось, старался задушить и припечатать к земле всё, что хоть немного расходилось с его воззрениями, чтобы потом в одиночестве возвышаться над поверженными противниками. Возможно, это даже доставляло ему определённое удовольствие. Тем не менее, поначалу Чексин многим нравился – именно за грубоватую силу, за откровенность в выражениях, за уверенный взгляд победителя по жизни. Даже внешний его вид очень подходил к этому образу: Чексин был высоким и подтянутым, похожим чем-то на крадущегося чёрного ягуара, профиль его был строгим и чётким, а глаза – светлыми, почти прозрачными. Давно страна не помнила такого правителя – настоящего, такого, как надо.
Постепенно, однако, становилось понятно, что за громкими словами и смелыми обещаниями, как правило, ничего не следует – или следует совсем противоположное. Яркая мишура цветастых фраз, в которой бесполезно было искать смысл, застила взор, и после уверений, что вот-вот жизнь наладится и станет лучше, казалось, что так и будет. Но лучше всё не становилось и не становилось. Это несколько поубавило симпатий к Чексину, да и от его манер ссо-шника были в восторге далеко не все.
Но то ли президент не понимал этого, то ли ему не было дела, что там думают о нём все эти люди. На фото последних годов Чексина маска сильного и справедливого правителя будто бы пошатнулась: в нём проглядывало уже что-то откровенно агрессивное, хищное. Чексин будто бы точно решил, что ему необходимо, и точно знал, что прав в этом, а какой ценой дастся желаемое – уже неважно. Любое противодействие давилось в зародыше, будь оно гражданского или личного характера. Со своими врагами Чексин расправлялся безжалостно.
Последней ошибкой, которой ему, видимо, так и не простили, стала вспыхнувшая с новой силой война на южных и западных окраинах страны. Когда очередные усложнения в процедуре внутренних полётов и железнодорожных поездок, вопреки обещаниям, никому не улучшили жизнь, в нескольких областях поползли разговоры об отделении. Реакция Чексина была мгновенной. Только на этот раз что-то не сработало в безотказном механизме госпропаганды: прежние приёмы дали сбой. Не так-то легко оказалось убедить людей, что ввести войска в свои же земли и сражаться со своими согражданами, которые вдруг стали врагами, было и вправду необходимо. Многие остались несогласны и недовольны, и, хотя прямых призывов и демонстраций почти не было, что-то странное завитало в воздухе. Как-то подозрительно стало нарушаться сообщение с крайним востоком, да и центральные области смотрели на столицу в глубокой задумчивости.
Разруха, нехватка самого необходимого и – главное – бесконечная и бессмысленная война подрывали спокойствие страны, но не Эдуарда Чексина. С последнего фото, где он представал ещё в качестве президента, глядел умиротворённый человек, абсолютно уверенный, что всё сделал правильно. И в самом деле, разве кто-то усомнился бы в этом?
Возмездие пришло неожиданно и неотвратимо.
Возмездие пришло в виде подпольной группировки – около дюжины молодых и дерзких ребят, которые – в силу ли связей, личной харизмы или просто везения – сумели добыть себе оружие и народную поддержку. Долгое время в прессе не мелькали даже имена этих людей; они именовались только как одно целое и безлично: сначала бандой, потом преступной группировкой, затем – мятежниками, после – группой повстанцев и, наконец, отрядом Сопротивления. Примерно начиная с «повстанцев» они стали появляться на фото – сначала изредка, как бы по ошибке, потом всё больше и больше. Это было что-то дикое, ничем не сдерживаемое, опасное и, в то же время, притягательное. Каждый раз их было по два или три человека, не больше, всегда не позируя, как бы случайно попав в кадр. Но чаще остальных встречалась она.
Софи Нонине.
Нет, никто пока не называл её так, вообще ещё никак не называли и не выделяли из остальных. Но Лаванда безошибочно узнала эту всегда ускользающую, почти неуловимую тень. Немного нелепая, похожая то ли на мальчишку, то ли на девчонку-сорванца, она мелькала то там, то здесь на перекрытых войсками и баррикадами улицах Ринордийска.
На одном из фото – Лаванда внимательно вгляделась в него – камера успела поймать Софи возле загоревшегося торгового центра, когда она на секунду обернулась, покидая это место. Порыв ветра откинул назад тёмные волосы, за которыми постоянно скрывалась Нонине, и лицо её в отсветах пламени было переменчивым и потусторонним – будто она была не живым человеком, а призраком, спустившимся на поле битвы.
Кто это – явление будущего или случайный фантом? Надежду несёт или погибель? Тогда ещё никто не мог знать.
Несколько месяцев, и вдруг – радостная новость: Чексин побеждён! Отряд Сопротивления захватил его резиденцию, а сам президент, засидевшийся на своём месте, оказался в плену. Так сообщала передовица одного из основных государственных изданий, которое прежде упоминало Чексина не иначе, как с учётом его абсолютной непогрешимости. А уж как пестрели вырезки из оппозиционных газет и журналов…
Как именно развивались события в ночь переворота: как сумели повстанцы пробраться в неприступное здание резиденции, как справились с охраной и добрались до самого Чексина, – этого никто точно не мог сказать. Сами участники событий, когда им задавали такой вопрос, только мило улыбались (или не очень мило, уж как умели) и ограничивались общими фразами о взаимовыручке и вере в победу. Но в одном они все сходились: без Софи Нонине этой победы бы не было. Одолела Чексина именно она.
Это случилось на исходе октября…
Ноябрь прошёл в смятении и эйфорической суматохе. Пока заканчивали с оставшимися сторонниками «режима», пока обнаруживали и обезвреживали тех, кто под шумок хотел договориться с иностранными интервентами, пока… Да мало ли находилось дел в первые дни свободы, и мало ли проблем вставало теперь на каждом шагу. Нонине в эти дни почти не появлялась на публике, хотя о ней говорили повсеместно. Только один раз – на публичном, пусть и неофициальном суде над Чексиным: не произнося речей, она только дала отмашку, бросив «Пусть его судит народ». (Эта короткая фраза привела всех в восторженное умиление: Софи Нонине – с простыми людьми).
Народ осудил: толпа разорвала Чексина на части.
В начале декабря, в тёмные и холодные дни первой зимы, столица стояла необычно притихшая, малолюдная. Страна, – теперь хорошо можно было различить это, – зависла на самом краю.
Казна была выпотрошена, все связи – нарушены, будничное течение жизни – сбито и остановлено. На окраинах ещё полыхали пожары войны, а в Ринордийске обыкновенные пожары только начинали затухать. Равнодушная к людской суете, сверху их присыпала пороша.
Нужен был кто-то главный, кто-то, кто будет решать и возглавит всё, кто спасёт от неминуемой гибели и скажет, что делать дальше.
Очень быстро речь зашла о Софи Нонине (спонтанно или с чьей-то подачи – было уже не суть важно). Теперь все хотели видеть во главе государства только её: ведь это она освободила их всех от Чексина.
Та минута, когда они вручили власть ей – своей новой правительнице – была навсегда запечатлена в вырезке из старой газеты. Чёрно-белая фотография вобрала всё: Софи, стоящую на старой крепостной стене, толпу курток и шапок внизу, тёмное хмурое небо… Небольшое усилие – и можно было увидеть это как вживую, так, как оно, наверняка, и происходило в тот день… Или почти так. Вот она, Софи: большая, чёрная, фигура немного в возвышении, но не слишком высоко. Глухое чёрное платье до земли, плечи укутаны – нет, ещё не плащом – только короткой пелериной из крысиных шкур. Лицо осунувшееся и обветренное, как у всех присутствующих: тяжёлые теперь времена. Она почти не движется, только ветер слегка треплет тёмные космы волос, на них белыми хлопьями падает снег. Взгляд её мрачен, но полон решимости.
– Кто-то должен взять на себя ответственность за то, что происходит, – говорит Софи твёрдо, щурясь на ветру. – Ответственность за всех здесь присутствующих, за всех жителей страны. Кто-то должен повести теперь всех вперёд. Нам нужен правитель. И это вы, граждане страны, должны его выбрать.
Люди толпятся внизу и, задирая головы, смотрят на неё. На лицах – тревожное ожидание и надежда. Сначала они молчат, лишь невнятный шёпот ходит по толпе. Потом кто-то подаёт голос:
– Пусть Нонине будет правительницей!
– Да, пусть Нонине!
– Пусть Нонине правит нами!
– Нонине!
– Нонине!
– Нам не нужно никого другого!
Усталая улыбка появляется на лице Нонине, а в глазах, кажется, блеснули слёзы. А может, и нет.
– Спасибо, – произносит она тихо, но её всё равно слышат, и ликование разносится в ответ.
– Спасибо! – повторяет Софи громче, встряхивает головой, откидывает волосы и, выступив на шаг вперёд, начинает говорить – много, горячо и убеждённо.
– Сейчас мы должны обратить взоры в будущее, – говорит она. – Разруха, застой, беспредел правительственной элиты длились годами, и мы ничего не могли поделать с этим. Но теперь мы вместе положили конец безобразию, и пора вступить на новый путь, путь нашей новой жизни. Да, нам будет нелегко – всегда нелегко вставать из пепла и грязи. Но мы справимся, как справлялись уже не раз с теми трудностями, что подкидывало нашей стране течение истории. Здесь и сейчас начинается дорога, по которой мы выйдем в светлое и радостное будущее, то будущее, которого мы действительно заслуживаем. Я поведу вас.