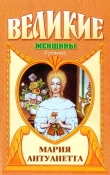Текст книги "Король без завтрашнего дня"
Автор книги: Кристоф Доннер
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 21 страниц)
Однажды утром она увидела его стоящим у порога с чемоданом в руке.
– Я вернусь, когда разбогатею.
– Конечно.
Он повернулся к двери. Мать смотрела сыну в спину, испытывая почти облегчение. Затем сделала последнюю попытку воззвать к человеческим чувствам отступника.
– Жак! Ты меня даже не обнял на прощание!
Он не обернулся.
– Я тебе все возмещу, – проговорил он, выходя.
Когда дверь за ним закрылась, мадам Эбер ощутила внезапную дурноту. Ее стошнило.
Она умерла через несколько лет, смерть от горя пришла не сразу. Все эти годы она вздрагивала от малейшего скрипа двери и то и дело принималась плакать без всякой причины. Но однажды она почувствовала, что скорби больше нет. Когда она поняла, что эта скорбь была единственным, что еще поддерживало в ней жизнь, она умерла.
Здесь заканчивается юность Эбера. Как только напишу продолжение, отошлю его тебе. Надеюсь, твои съемки проходят хорошо, и месье Спилберг тобой доволен».
Анри надеялся, что, подробно объяснив Мартену, кто такой был Эбер, он и сам лучше это поймет. Невозможно раскрыть истинный облик исторического персонажа без посредства живого человека, актера, говорил он себе. Для этого греки и придумали театр.
~ ~ ~
Дора жила на четвертом этаже старинного дома без лифта, в квартире с очень высокими потолками. Жилище площадью пятьдесят квадратных метров казалась большим, настолько умело оно было обустроено. Яркая живопись на стенах словно прибавляла света, а сами стены и большая часть предметов обстановки были белыми, за исключением громоздкой ливанской мебели, стоившей, должно быть, целое состояние.
Чтобы попасть в гостиную, нужно было пройти через спальню – вот так, без всяких церемоний. Единственным недостатком интерьера оказался двухместный диван-канапе с обивкой из грубого небеленого полотна. Анри сразу его невзлюбил.
Он принес с собой бутылку вина, хорошего, но не слишком изысканного. «Жерве-шамбертен-птишапель» – таково было его полное название.
Дора попросила Анри открыть бутылку и принесла хрустальные бокалы. Отпив глоток, она сказала: «М-мм, приятное вино!» Но тут же, потянувшись за фисташками, опрокинула свой бокал прямо на канапе. Анри ощутил легкий укол в сердце – ему было жаль вина.
Они оба встали, чтобы навести порядок.
Это оказалось нелегкой задачей: пришлось снимать чехол с диванной подушки и посыпать винное пятно солью, как обычно принято делать, даже если знаешь наперед, что это не поможет.
Наконец Дора поняла, что пятно уже не отмыть никакими средствами, и решила: пусть в таком случае оно навсегда останется напоминанием об этом вечере.
После этого Анри даже порадовался, что вечер начался с такого глупого эпизода.
Словно для того, чтобы окончательно усугубить ситуацию, Дора объявила, что на ужин у нее ничего нет, потому что она ничего не смыслит в готовке – впрочем, так же, как и в любви. И спросила Анри, знает ли тот, что такое любовь.
Они сидели рядом на канапе, которое теперь, лишившись чехла на одной из подушек, стало еще более нелепым и неудобным. Дора уже начинала потихоньку ненавидеть это канапе, хотя три года назад, увидев его в магазине «Ваш дом», пришла в восторг.
Итак, знает ли Анри, что такое любовь? По правде говоря, нет, но он охотно согласился бы это выяснить – вместе с ней. Действительно, что такое, в сущности, любовь?
Когда вино было почти выпито, а из съедобного не осталось ничего, даже фисташек и оливок, Анри подумал: а не стоит ли перейти от слов к делу? Послать к чертям все вопросы, встать с этого идиотского канапе и отнести Дору прямиком в спальню?
Но инстинкт советовал ему этого не делать, и, как выяснилось из того, что Дора сказала позднее, совет оказался верным. Она еще не была готова. Прежде она хотела узнать, что такое любовь.
– А может быть, я вообще никогда этого не узнаю, – тихо проговорила она.
То есть вообще-то она знала, что такое любовь, точнее, раньше думала, что знает, но по зрелом размышлении выяснилось, что это не так. И не было никаких причин для того, чтобы это знание пришло именно теперь.
– Ведь правда же?
Дора уже сбросила туфли, чтобы Анри, как всегда, помассировал ей ноги. Затем, окончательно придя к трагическому заключению, что никогда ей не узнать, что такое любовь, она встала и отправилась на кухню готовить ужин.
– Ладно, все это пустяки, – вздохнула она.
Через десять минут Дора вернулась и объявила, что скоро все будет готово.
– Не знаю, правда, понравится ли вам угощение. Это ливанское блюдо.
Анри отпил еще глоток жевре-шамбертен. Содержимое опрокинутого бокала он считал очень досадной потерей – вино оказалось даже лучше, чем можно было ожидать.
Он потягивал вино, в одиночестве сидя на двухместном канапе, напротив шеренги книжных шкафов. У Доры было множество книг, по большей части современных, – видимо, их авторы были героями ее передач. Книги Анри Нордана стояли на видном месте, их было две – самые последние. Да и все остальные выглядели совсем новыми, за исключением арабских, очевидно, привезенных Дорой из охваченного войной Ливана. Анри спросил себя, оттого ли это, что хозяйка обращалась с ними очень аккуратно, или же оттого, что она никогда не снимала их с полок? Очень уж ровно книги были выстроены, буквально по линейке – видно было, что они составляют гордость хозяйки. На них было приятно смотреть, но издалека, поскольку, приблизившись, можно было разглядеть на корешках имена тех литературных знаменитостей, то и дело мелькавших на телеэкране, из чьих шедевров Анри не прочел ни строчки.
Что ж, видимо, Дора хорошо знает французскую литературу, сказал себе Анри, и даже, судя по всему, не только французскую, но и написанную на французском языке.
Потом он заметил едва ли не полное собрание сочинений одного греческого писателя, считавшегося, впрочем, интернациональным. Не является ли это признаком каких-то особых отношений грека с Дорой, подумал Анри, ощутив укол ревности. Может быть, она спала с ним? И со всеми теми, чьих книг у нее осталось больше четырех-пяти? Но, во всяком случае, ни одному из писателей не удалось объяснить ей, что такое любовь. Они надеялись этого достичь, даря ей свои книжонки, но напрасно. Никто из них в этом не преуспел. Мне повезло.
Анри снял с полки книгу на арабском языке – массивную, тяжелую, в кожаном переплете – и принялся листать ее. Листы были разными, то более плотными, то более тонкими. А шрифт был и вовсе загадочным.
И вдруг, продолжая настойчиво вглядываться в эти буквы, такие непонятные и красивые, напоминавшие узор, – словно в тайной надежде на то, что вот сейчас, каким-то чудом, арабский язык вдруг станет ему понятен и все написанное обретет смысл, – Анри ощутил другое чудо. Это был невероятно вкусный запах, исходивший не от книги, как ему в первый момент показалось, а со стороны кухни: аромат копченой баранины, поджариваемой на сковороде. Постепенно он распространился по всей квартире, окутав и книги, и канапе, пропитав весь этот незнакомый мир, о котором Анри ничего не знал; и внезапно доводы в пользу того, чтобы оставаться у Доры, капитальным образом изменились: он понял, что чертовски голоден. Анри отправился на кухню, где Дора уже раскладывала по тарелкам ломтики мяса с гарниром из яичницы и турецкого гороха. Но Анри почти не замечал лица хозяйки, ее улыбки; он сосредоточился лишь на содержимом своей тарелки, таком аппетитном и по запаху, и по виду. Все, что он смог произнести во время еды, свелось к нескольким «М-мм-м!».
– Это еда пастухов, – объяснила Дора. – Они берут ее с собой в горы. Обычно пастухи остаются там на всю зиму.
– Как это кушанье называется?
– Каварма. Каждый раз, когда я приезжаю в Ливан, моя тетя готовит котелок или два. Это совсем несложно сделать.
– О! Вот прекрасное определение для любви! – с воодушевлением произнес Анри, кладя на стол салфетку. – Это именно то, что совсем несложно сделать!
Анри и Дора провели четыре дня в квартире с высокими потолками, никуда не выходя. В разговорах часто возникала одна и та же тема: что они скажут другим? И скажут ли что-нибудь?
Наутро пятого дня Дора встала и оделась.
– Мне нужно ехать на работу.
Некоторая неловкость возникла между ними в тот момент, когда она попросила Анри уйти до того, как она вернется.
Но Дора также попросила, чтобы перед этим он еще раз доставил ей удовольствие, и он повиновался с четкостью настоящей секс-машины, в которую превратился за эти дни.
~ ~ ~
Сильвия Деламар и оба ее помощника сидели на своих обычных местах за длинным столом в прокуренном кабинете для совещаний.
– Нужно будет обратить особое внимание на костюмы, – говорил Анри. – До Революции вещи порой служили владельцам всю жизнь, во всяком случае, гораздо дольше, чем сейчас. Их чинили, подновляли. Какой-нибудь плащ или накидка могли прослужить целый век, если не два. Богатые люди отдавали вышедшую из моды одежду своим слугам, а те, по прошествии еще нескольких лет, передавали ее мелким торговцам или ремесленникам, жившим по соседству. Ну а те еще лет через двадцать отдавали ее беднякам. Поэтому в городах, особенно в Париже и Версале, можно было наблюдать круговорот моды последних двух веков, от эпохи Людовика XIV до Регентства, в котором мелькали английские, турецкие, испанские одежды. Причудливее всего были одеты дети – у них всегда был такой вид, будто они собрались на карнавал. Но весь этот маскарад прекратила Революция, точнее, экономический кризис, который ее сопровождал: богатым людям больше нечего было отдавать, а тем, что были беднее, пришлось самим шить себе одежду из самых дешевых тканей. Один и тот же материал, один и тот же фасон, одинаковая расцветка, чаще всего в полоску, словно у каторжников, – и вот то, что вначале было суровой необходимостью, к 1791 году превратилось в принцип, стало знаком принадлежности к «правильному» классу. К революционному снобизму добавились политические требования; одежда получила название революционной песни – карманьола превратилась в эмблему санкюлотов. Изобретение единого для всех костюма нивелировало классы до полной неразличимости. И вот на основе этого своеобразного кокетства выстроили наиболее губительную политическую концепцию – учение о «пролетариате». Путь к социальной войне был открыт.
– Вы, я смотрю, очень хорошо подкованы, Анри!
– Я также много думал о статистах. Статисты – это главная болезнь французского кино! Единственное лекарство, на мой взгляд, – снимать в обычной современной обстановке. Поставить гильотину на площади Согласия, не меняя ничего вокруг, и прямо так и снимать, среди автомобилей.
– Ну, это уж слишком!
– Да, именно так! Устроить сад для юного дофина прямо на террасе Тюильри. И сцены в Тампле тоже снимать прямо в сквере Тампля, какой он сейчас, напротив мэрии. Актеры будут в костюмах XVIII века, а вместо статистов будут обычные прохожие, зеваки, туристы – пусть щелкают своими фотоаппаратами из-за ограды…
– Не скрою, меня немного пугает эта идея.
– Меня тоже. Но что вызывает у меня глубокое отвращение, так это идея обычного исторического «костюмного» фильма, с картонными декорациями, вылизанными улицами и толпой статистов – которых вечно не хватает, – чтобы кричать фальцетом: «Смерть королю!» Вместо этого лучше уж снять студенческую демонстрацию протеста. Студенты, по крайней мере, умеют кричать как следует, к тому же протестуют искренне – им действительно хочется сокрушить нынешний режим. Они возмущаются не за деньги. Достаточно будет провезти королевскую карету мимо одной из таких демонстраций – и вот увидите, молодежь будет танцевать «Карманьолу»! Представьте себе Людовика XVI перед пирамидой Лувра, и с ним – юного дофина, такого хорошенького: они идут впереди свиты, похожей на армию в миниатюре, и останавливаются, чтобы пропустить автобус девяносто пятого маршрута. Потом ребенок возлагает цветы к подножию мемориала на площади Карусель. Зеваки с умилением наблюдают за ним, они не знают, что за фильм снимается. Но когда им говорят, что это Людовик XVII, когда им объясняют, что невинная кровь этого ребенка напитала корни наших побед, они меняются в лице.
– Но что вы этим хотите показать?
– Что народ это всегда народ. Что во все времена это все та же толпа, готовая линчевать своих недавних кумиров, ниспровергать своих богов. Туристы в нынешнем Версале ничем не отличаются от тех, что приезжали туда в 1785 году, чтобы навестить призраков королевской семьи. Кровать короля, кровать королевы. Самые энергичные добираются до Малого Трианона – посмотреть на огромную кровать Марии-Антуанетты, настоящий «траходром». Привилегированные гости, искренние поклонники дворца, испытывают священный трепет в маленьком театре; но в основном всюду правит толпа, бесцеремонно вторгающаяся в покои монархов. Представьте себе толпу зевак, собравшихся вокруг съемочной площадки: они готовы торчать там часами, восторгаясь даже тогда, когда ничего не происходит. Народ в Версале был точно таким же.
– Но, тем не менее, эта идея – устроить съемки в современных декорациях, на виду у туристов и всех прочих – меня не слишком вдохновляет. Мне не кажется, что это будет… кинематографично.
– От вас ждут другого.
– Нужна история.
– Разве это исторический уровень?
– Это история о писателе, который убил короля.
– Остроумный довод, Анри, и заслуживающий всяческого восхищения, но вы понимаете, история – это немного другое.
– Что именно?
– О! – Один из сопродюсеров вскинул руки. – Но если вы даже не знаете, что такое история…
– Позвольте мне договорить, Жером.
Сильвия бросила мимолетный взгляд на часы. Ей не нравился оборот, который принимал разговор. Зачем Анри притворяется, что не понимает, о чем речь? Он прекрасно знает, что такое история: начало, конец, интрига в середине. Ребекка Брандт, по крайней мере, это знала…
Анри видел, что работа готова от него ускользнуть. Он все еще не получил вторую треть аванса – очередные две тысячи, как было решено предварительно. А ведь за эту мизерную сумму он уже проделал такой титанический труд: библиотечные раскопки, встречи с людьми… Если так будет продолжаться, он вообще останется без гроша. Но, так или иначе, работодатели не имеют права говорить с ним подобным тоном. Конечно, Сильвия Деламар деловая женщина, во всех смыслах этого определения, включающего и некоторую жесткость, но что себе позволяют эти Жеромы? (Оба помощника Сильвии носили одинаковые имена.) Анри уже понимал, что долго их не вытерпит.
В то же время что-то удерживало его от привычного в подобных обстоятельствах образа действий – а ведь сколько раз он хлопал дверью после разговоров с книгоиздателями, редакторами газет, телепродюсерами.
– То есть, по сути, вам нужен обычный сценарий с последовательной сменой кадров, – проговорил он. – Зритель не должен утруждать себя размышлениями. Ну что ж. История, только история и ничего, кроме истории.
– Именно! История в фактах и диалогах.
– У меня есть кое-что получше, – заявил Анри.
Удивленное молчание быстро сменилось скептическими восклицаниями. Что может быть лучше истории? Нет, это невозможно! Оба Жерома, казалось, уже готовы его растерзать.
– Я знаю, из-за чего и как умер Людовик XVII. Я единственный, кто это знает. Я это выяснил всего несколько дней назад, сидя в библиотеке.
Сильвия зажгла новую сигарету, из чего Анри заключил, что еще как минимум пять минут госпожа Деламар здесь пробудет. Возможно, он успеет реабилитироваться.
– Итак, мы наконец всем расскажем, отчего умер Людовик XVII.
– По вашей теории, его убил Эбер?
– Не так все просто.
– Он умер от туберкулеза?
– Главная причина не в этом.
– Ну так скажите нам, от чего?
– Только одно уточнение. В истории Людовика XVII гораздо больше интересна не его смерть, не революция, а сама окружающая его современность. Представьте его себе как ребенка именно той эпохи. Толпы восхищаются им, потому что он такой хорошенький и к тому же особенный – во всем королевстве мальчику нет равных. Он как божество, которое покровительствует людям и в то же время для них недосягаемо. Он священен и в то же время реален, он присутствует на земле, может действовать, влиять на события, осыпать щедротами.
– И что же?
– Чтобы понять то заискивающее восхищение, которое взрослые перед ним испытывали, нужно вспомнить Моцарта. Начиная с Моцарта, взрослые начали воспринимать детей как личностей, способных на невероятные достижения. Разумеется, до Моцарта были и другие талантливые дети, но он первый стал легендой. Его провезли по всем королевским дворам Европы. Он был самой настоящей звездой.
– Кстати, если в фильме будет звучать музыка Моцарта, то, думаю, это будет хорошо. Жаль было бы упускать такую возможность.
– Да, нужно будет послушать диски и что-нибудь выбрать.
– Моцарт родился всего на год позже Марии-Антуанетты и Эбера. По прошествии нескольких лет о нем говорили во всей Европе – в том числе в Париже и даже в Алансоне. Представьте, какое воздействие могли оказать эти разговоры на такого мальчишку, как Эбер, лишенного какого-либо дара и при этом раздувающегося от амбиций. Раз уж существует этот Моцарт, значит, и любой другой ребенок может прославиться. То есть любой ребенок может соперничать славой с наследником престола.
– Ну и что из этого?
– И как передать это в кино?
– Прежде зададим себе вопрос: как юный Эбер мог бы отреагировать на рассказы о Моцарте? Он сравнивал себя с ним, как и с герцогом Беррийским. Моцарт пробудил в нем сознание ущемленности положения – и своего собственного, и всего буржуазного сословия.
– Не забывайте, Анри, что наш фильм не про Эбера!
– Но разве можно рассказать историю Людовика XVII, забыв о его убийце?
~ ~ ~
«Дорогой Мартен!
Вчера мы все едва не переругались. Но я привязываюсь к этому фильму все больше и больше. Я вижу тебя в Эбере, но – ты был прав – себя я в нем тоже узнаю.
Итак, Эбер прибыл в Париж в январе 1781 года, с небольшим чемоданчиком. Он провел в пути два дня и был весь покрыт дорожной пылью. Он вошел в дом номер пять по улице Кордельеров – это не соответствует исторической правде, но мы снимаем художественный фильм, а не документальный. На самом деле он сменил около десяти адресов. Но остальная компания: Дантон, Марат, Лежандр, семья Демулен – все они жили именно на улице Кордельеров.
Дом стоял в глубине мощенного булыжником двора, усыпанного конскими яблоками, которые местный уборщик-дегенерат сгребал своей лопатой. В доме сдавались дешевые меблированные комнаты. Приезжие сновали в разные стороны, под их ногами чавкали сырые опилки, все галдели, толкались, переругивались.
Эбер слегка растерялся.
– Чего тебе надо? – окликнула его Мари-Жанна, консьержка.
– Комнату.
Мари-Жанна смерила его взглядом и сделала знак следовать за собой. По темной шаткой лестнице они поднялись на последний этаж.
Эбер осмотрел комнату, которую ему предлагали: кровать, стол, стул и деревянный жбан в качестве уборной. Все было ужасающе старым и грязным. На мгновение Эбер застыл на пороге со своим чемоданом в руке. Наконец шагнул вперед, словно в преисподнюю.
– Ливр в неделю, – заявила консьержка, она же квартирная хозяйка. – Плата вперед. И не советую тебе ее задерживать даже на день, иначе сюда явится парочка громил и выкинет твое барахло прямо на улицу. Вот так.
– Годится.
– Я тоже так думаю. Ты вряд ли нашел бы что-то лучшее.
Эбер дал Мари-Жанне один ливр, и та ушла, закрыв за собой дверь.
Эбер обошел все тридцать квадратных метров своего нового жилища и остановился у окна. Стекла покрывал толстый слой пыли, которую он стер комком бумаги, подобранной с пола.
Он в восхищении смотрел на крыши Парижа, на башни Нотр-Дам.
Четыре года спустя он стоит возле этого же окна с чашкой горячего кофе в руке. Комната полностью изменилась. Повсюду книги и газеты, на стенах – гравюры, чаще всего сатирического содержания. Здесь же – большой письменный стол, заваленный бумагами, добротное кресло, на которое накинуто расшитое покрывало, и большая кровать, в которой спит какая-то девица.
Эбер смотрит на часы: пора идти. Подходит к зеркалу, чтобы в последний раз убедиться в безупречности своего наряда. Эбер тоже изменился. Теперь он сама элегантность. Он пудрится, надевает парик, набрасывает на плечи плащ. Приподнимается на цыпочки, чтобы казаться выше. В следующий раз он попросит башмачника Симона сделать каблуки еще выше. Выбирает из трех своих тростей самую легкую трость. Девица в постели приоткрывает один глаз, потом поворачивается к стене и снова засыпает. Эбер выходит.
Лиса выбралась из норы в поисках пропитания и оказалась на ферме королевы. Разумеется, эта ферма была скорее игрушечной, чем настоящей. Лиса растерянно огляделась. Все было красиво и ухоженно, как на картинке: ровно подстриженная трава, маргаритки на соломенных крышах, маленькая речка, вращающая мельничное колесо, куры, утки, овечки, украшенные ленточками… Лиса не верила своим глазам.
Она осторожно двинулась вперед, но тут одна фермерша заметила ее и подняла крик. Фермер оставил свою работу на винограднике и поспешил на помощь. Лиса бросилась бежать.
Чета фермеров вбежала следом за ней в небольшую увитую цветами беседку, где располагался маленький театр королевы.
Мария-Антуанетта была на сцене. Шла репетиция „Женитьбы Фигаро“, королева играла Сюзанну.
– Что такое?
– Лиса, ваше величество!
Королева небрежно отмахнулась.
– Продолжаем!
Ферзен играл Керубино, и в этот момент спорил с Сюзанной из-за ленты.
В первом ряду зрителей сидели дети королевы – шестилетняя Мария-Тереза и трехлетний дофин (его держала на коленях мадам де Полиньяк). Если Мария-Тереза была в восторге, буквально влюбленная в свою мать-королеву, то ее младший брат был настроен куда более скептично – он ничего не понимал в происходящем, ему не нравился театр, и он считал, что так кривляться недостойно королевы.
Последняя как раз в этот момент выхватила ленту из рук Керубино. Мария-Тереза вскрикнула от восторга и зааплодировала. Дофин спросил у мадам де Полиньяк, скоро ли все кончится. Ему не нравился Бомарше.
Эберу тоже не нравился Бомарше. Он смотрел „Женитьбу Фигаро“ в Итальянском театре, сидя в ложе рядом с дамой почтенного возраста, баронессой де Бушардон, умиравшей от смеха, как и все остальные зрители. Наконец Эбер почувствовал, что больше не может выносить этой вульгарности, встал и направился к выходу.
– Куда это вы? – воскликнула баронесса. – Я заплатила десять ливров за эту ложу не для того, чтобы сидеть в ней в одиночестве!
– Мне нужно идти.
– Ах, вот как! Решили заставить меня страдать?
Эбер вышел, пересек фойе и направился в кабинет директора. Он распахнул дверь, не постучав, и прямо с порога выкрикнул:
– Как вы можете ставить такое дерьмо?
– Садитесь.
– Нет уж.
– Успокойтесь, мальчик мой. Люди смеются, они счастливы – значит, придут снова. Вот такая несложная штука театр.
– Но кто смеется? Все эти надутые индюки с фальшивыми приставками „де“, эти маркизы де Карабасы!
– Все, кто может заплатить за билет.
– Ну да, рентабельный, выгодный смех.
– Просто смех, вот и все.
– Никакой дерзости, никаких сюрпризов, ничего, что вызвало бы отвращение!
– Ну, не все пишут как вы, Эбер. Я прочел вашу пьесу…
– И?..
– Там не ощущается истории. Там не хватает интриги. Там слишком много болтают. Вы хотите все объяснить. Почему бы вам не предложить эту пьесу месье Гайяру, в Театр варьете?
– Варьете?!
– Да, там более утонченная публика. А здесь у нас просто театр, какой нравится всем.
Эбер не в силах был слушать дальше. Он вышел, разъяренный, снова прошел через фойе и вернулся в ложу баронессы.
– Вы пропустили самое смешное! Бомарше просто гений! Куда вы ходили?
– На встречу с судьбой.
– Вот как? Я-то думала, что это я ваша судьба.
– Меня представили месье Буалилю.
– Это книгопечатник?
– Книгоиздатель, мадам. Очень солидный книгоиздатель! Он недавно прочел мою пьесу и пришел в восторг!
– Значит, он ее издаст?
– Именно так.
– Но это же настоящая удача!
– Да. Точнее, я в двух шагах от нее.
– И чего вам недостает, чтобы сделать эти два шага?
– Наличности.
– То есть денег?
– Да, вот такое стечение обстоятельств.
– Вы можете обойтись без всей этой тарабарщины?
– Он просит пятьсот ливров.
– Всего-то.
– Зато он абсолютно уверен!
– В чем?
– В успехе моей пьесы. Он даже не сказал „пьеса“, а…
– Что?
– Он употребил другое слово…
– Какое?
– Моя скромность не позволяет, чтобы я его повторил.
– „Шедевр“? Он сказал „шедевр“?
– Да, что-то в этом роде.
– Такой молодой автор, и уже сочиняете шедевры!
– И такая малость: всего-то пятьсот ливров!
– Ну, их ведь не так сложно найти. Пятьсот ливров за шедевр – это совсем немного.
– Поэтому я и заговорил об этом с вами.
– А, так вы рассчитывали на меня?
– Напрасно?
– Ну, все-таки пятьсот ливров…
– Они принесут вам десятикратную прибыль! Или даже стократную! Взгляните на этот полный зал. За один сегодняшний вечер он уже принес театру больше пятисот ливров!
– Но ваша пьеса будет запрещена? Ведь в этом состоит главный ключ к успеху! Вы же знаете, как получилось с Бомарше. Автор, который не проведет несколько дней в Бастилии, как он, никогда не станет любимцем публики!
– Да в моей пьесе найдется сотня предлогов, чтобы ее запретили!
– Какое трогательное воодушевление! Ах, молодость!.. Хорошо, вы выиграли, я дам вам пятьсот ливров. Садитесь поближе ко мне.
– Ах, если бы вы сейчас видели свою улыбку, баронесса! Ваша щедрость вас украшает и молодит!
– Вы написали комедию?
– О нет, уверяю вас!
– Но вы же не хотите сказать, что сочинили драму?
– Отнюдь. На самом деле это, конечно, скорее комедия.
– И о чем она?
– Ну… она примерно как у Бомарше, но еще увлекательнее.
– А я смогу узнать себя в ней?
– О!..
– Мне уже не терпится ее прочитать! Когда вы мне ее покажете?
– Я принесу вам самый первый отпечатанный экземпляр, клянусь! Я уже думаю о посвящении: „Госпоже баронессе Бушардон, которая…“
– Нет, не говорите ничего! Скажите только название.
– „Мадам Полишинель, или Загадка вечера“.
– Это я мадам Полишинель?
– Нет, мадам, вы – загадка вечера…
Вернемся в театр королевы. Мария-Антуанетта сходит со сцены и, пройдя под сводом из живых цветов, направляется в Малый Трианон. Ее сопровождает Ферзен.
С тех пор как он вернулся из своего путешествия по Америке, она не отпускает его от себя ни на шаг. Они говорят по-немецки, ее восхищает и его легкий шведский акцент, и его застенчивость в сочетании с галантностью. Он хрупок, изнежен, у него взгляд лани, заметившей ружье охотника.
Вот уже около года Ферзен любовник королевы. Людовик XVI спокойно принял эту связь и даже, со своей стороны, ее легализовал, назначив Ферзена командиром Шведского полка. Это позволило Ферзену проводить все время в Версале и вообще вести себя как шведский посланник – коим он, по сути, и был.
Ферзен оказал королю добрую услугу: теперь королева и слышать не хотела о графе д’Артуа.
Артуа слишком многое себе позволял с королевой: дважды ее обрюхатил, да еще и во всеуслышание хвалился этим.
И, как будто этого было недостаточно, он платил бульварным писакам, чтобы те сочиняли оскорбительные памфлеты об его брате-короле. Коварство Артуа, благодаря которому он некогда стал любовником королевы, в конце концов его сгубило: он превратился в грязного типа. Напрасно он расхаживал по дворцу, гордый как павлин, – теперь королева его ненавидела и не позволяла ему приближаться к своим детям, чье расположение он всеми силами пытался завоевать.
Артуа умирал от ревности, ему хотелось уничтожить Ферзена. Но Людовик XVI был начеку и не позволял ему это сделать. Он наслаждался унижением младшего брата, открыв для себя неизведанную ранее сладость мести.
В глубине души он был растроган, наблюдая за счастливой парой. Ферзен был красив, и Людовик XVI как бы проецировал себя на него. Король хотел сделать его своим другом, самым лучшим, какой только мог у него быть, и самым верным: Ферзен не мог предать его без того, чтобы не погибнуть самому.
Все вместе они составляли все более сплоченное трио заговорщиков. Позже, в Тюильри, они вместе организуют бегство в Варенн. Но до этого еще далеко. В данный момент королева счастлива. Ферзен обнимает ее, целует, раздевает… Да, все это будет в фильме.
Эбер нашел работу в Театре варьете. Он писал пьесы, которые никто не ставил и не публиковал, и помогал известным авторам в работе над их пьесами: исправлял, дописывал, переделывал.
Жизнь была прекрасна, и даже если Эбер хотел большего, это не мешало ему развлекаться вовсю. От одной дамы-меценатки он устремлялся к другой. Пятьсот ливров баронессы де Бушарден перешли в руки шлюх. Эбер тратил за день все, что зарабатывал за месяц, а в оставшееся время занимал у друзей и торговал своим телом и своим пером с одинаковой легкостью.
По сравнению с его компаньонами, Дантоном, Маратом, Демуленом, он был самым элегантным. Он каждый месяц покупал новый парик, у него было множество шляп и целая коллекция тростей. Эбер прогуливался по Пале-Рояль, всегда готовый завлечь какую-нибудь актрису, очаровать пожилую герцогиню и вытрясти из нее денег или даже взять в оборот сразу двоих, мать и дочь, – любое приключение его возбуждало. Он часто бывал и в Лувре, который мы сейчас называем Старым Лувром. Квадратный двор представлял собой площадь, где толпились художники вместе с потомками старинных семейств, разорившимися или промотавшими свои состояния, – они собирались здесь уже больше ста лет. Все вокруг было потрепанным и обветшалым, и это вызывало восхищение: здесь царил Гюбер Робер, гений разрушения, автор многочисленных картин, изображавших руины. Эберу они тоже безумно нравились, и наверняка он хотел стать тем же на писательском поприще, кем Робер был в живописи: хроникером, коему суждено описать крушение старого мира.
В литературных салонах тех времен Эбер бывал редко – он презирал их, предпочитая кафе „Корацца“ в Пале-Рояль. Он проводил там целые часы: пил, курил, болтал о Моцарте, о событиях в Америке, об „этих мерзавцах-англичанах“.
Однажды, оставшись в очередной раз без денег, он написал матери, что уже почти дошел до ручки и что, если так будет продолжаться, ему придется уехать в Китай.
Мадам Эбер пришла в ужас и послала сыну денег, на которые можно было бы прожить месяц.
Эберу хватило их на два часа: ровно столько времени ему потребовалось, чтобы дойти до „Великого могола“, посмотреть на шейные платки и вдоволь подышать ароматами тканей и продавщиц. Там же он услышал очередные новости о королеве: она, кажется, решила разорить всю кружевную отрасль своими обманчиво простыми вкусами. Говорили, что в Алансоне сотни мастериц вернулись в деревни, чтобы обрабатывать поля. Эбер никогда не уходил из этого магазина без покупки; вот и сейчас он купил шелковый шейный платок модного цвета „кака-дофин“, с белой вышивкой.