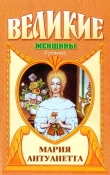Текст книги "Король без завтрашнего дня"
Автор книги: Кристоф Доннер
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 21 страниц)
Смерть сама по себе не была целью Эбера – он боялся ее и никогда не ходил смотреть на казни. Это и в самом деле было отвратительное зрелище: приходилось, в буквальном смысле, ступать чуть ли не по колено в крови. Наконец Шометт не выдержал:
«После публичных казней осужденных преступников кровь казненных потоками льется на площадь. Прибегают собаки и лакают ее; толпа не отрывает глаз от этого зрелища, ожесточающего души. Люди с более чувствительной натурой, но слабым зрением, жалуются, что порой, сами того не желая, ступают по человеческой крови. Прошу нанять уборщиков, с тем чтобы сразу после экзекуции не оставалось никаких следов кровопролития».
Если Шометт заботится о революционной чистоте, то Эбер нуждается в предателях; их разоблачение – его любимое занятие еще с детских лет. «Австрийская тигрица… самая презренная из шлюх Франции… мать всех этих ублюдков, хромых, горбатых, гниющих заживо, что выползли из ее дряблой разбухшей утробы…» – так начинается газетная кампания папаши Дюшена, посвященная судебному процессу королевы, и никто не сомневается в его исходе.
~ ~ ~
После смерти Людовика XVI Эбер настоял, чтобы Симона оставили в Тампле на постоянной службе – сначала в качестве обычного стражника, но предполагалось, что он скоро получит повышение. Случай представился 30 июня 1793 года, благодаря найденной во дворе записке, вызвавшей подозрения в адрес начальника охраны: «Мишони предаст вас сегодня ночью, будьте бдительны!» Вначале расследование ничего не дало, но Робеспьер взялся за дело всерьез, очевидно, в надежде уличить Эбера, и заявил Комитету по неотложным мерам, что «юный Людовик, сын Капета, должен быть разлучен с матерью и помещен в отдельную комнату, самое надежное место во всем Тампле».
По рекомендации Шометта Комитет решил, что башмачник Симон отныне будет присматривать за сыном Капета и воспитывать его на республиканский манер. Ему определили хорошее жалованье и жилье в стенах Тампля. После таких щедрот судьбы Симон мог уверенно смотреть в будущее.
Новый наставник герцога Нормандского, расположившийся в Тампле вместе с женой, был человеком недалеким, неграмотным, грязным – словом, истинным санкюлотом вполне в духе папаши Дюшена, для которого башмачник, скорее всего, и послужил прототипом.
«Если б я хотел обучать мальца по-господски, то смог бы это сделать не хуже кого другого. Я тоже знаю латынь, но мой родной язык – это язык санкюлотов; я предпочту, чтоб меня читали честные труженики, я лучше смогу научить их правильным вещам, чем эти хлыщи-журналисты, – те, в угоду барышням и так называемым порядочным людям, не осмеливаются называть вещи своими именами. Положиться можно лишь на тех, кто бранится».
3 июля 1793 года в десять часов вечера, когда ребенок уже заснул, а женщины читали какие-то душеспасительные сочинения, в комнату вошли шестеро стражников.
– Мы пришли забрать Капета-младшего. Приказ Комитета.
~ ~ ~
Власть людей, разлучающая ребенка с матерью, и крики, слезы, мольбы – от начала времен всегда один и тот же аккомпанемент, сопровождающий эту разлуку… Иногда родители делят ребенка между собой, но в случае Людовика XVII все обстояло иначе: его разлучили сначала с отцом, затем с матерью, а потом и с четой Симон. Что всегда удивляло Анри в судебных решениях, официально закрепляющих разлучение – еще с тех пор, как развелись его собственные родители (ему было тогда девять лет), – так это предлог «с», который, по идее, должен служить объединяющим, но в данном случае («развод такого-то с такой-то») означает расставание.
~ ~ ~
«Капет-младший» был не обычным ребенком, а Людовиком XVII. Он сознавал это и не позволял об этом забывать:
– Я хочу знать, по какому праву вы разлучили меня с матерью и отправили в тюрьму.
– Нет, видали, каков засранец?
– Покажите мне закон, который это разрешает, я хочу его увидеть!
– Замолчи, Капет! Больно ты разговорчивый!
– Я хочу увидеть этот закон! Покажите мне его!
Маленький король так сильно возмущался и топал ногами, что башмачник Симон своей огромной узловатой ручищей отвесил ему оплеуху, такую сильную, что сбил его с ног.
– Вот тебе твой закон! Теперь ты его увидел? Иди спать, и чтоб я тебя больше не слышал!
Наполовину оглушенный, ребенок с трудом добрался до постели, которую жена Симона ему приготовила – кто бы там чего ни думал, она искренне заботилась о нем. Нормандец лег, не раздеваясь, и дрожал до тех пор, пока не заснул.
На следующее утро он не произнес ни слова, просто молча сидел на кровати.
– Ну, так что? Не хочешь разговаривать?
– Если я скажу все, что думаю, вы примете меня за сумасшедшего.
– Это уж точно, чем выдавать фразочки вроде этой, лучше уж заткни пасть.
– Я помолчу, потому что у меня есть слишком много что сказать.
– Слышала, Мари-Жанна? У Капета, оказывается, есть слишком много что сказать!Нет, мне нравится этот засранец: у него остался синяк от моей вчерашней оплеухи, а он еще открывает рот, чтобы оскорблять нас! Надо научить его, как разговаривать с гражданами! Понадобилось два дня, чтобы заставить ребенка съесть миску супа. Но если Антуан злился, Мари-Жанна была ласковой. Она ждала, что ребенок будет плакать и звать маму, и в любой момент была готова обнять его и утешить. Но этого не случилось, несмотря на колотушки Симона. В конце концов она отругала мужа: не так надо обращаться с этим мальцом, заявила она. Она гладила его по голове и тайком подсовывала хлебные горбушки – теперь это было можно: после прежнего голода у них было сколько угодно хлеба и жареной картошки с салом.
– Вот видишь, еды вдоволь, – говорила Мари-Жанна. – Ну и чего ты дуешься? Разве так принято между друзьями? Мы с тобой в одной лодке, разве нет? Поэтому должны держаться друг дружки. Ты такой хорошенький! Этот остолоп, мой муж, он на вид злой как черт, но я-то его знаю, он неплохой человек, просто не привык обращаться с детьми, вот и все. Надо тебе его умаслить. Когда он вернется домой, спой ему песенку, ему это понравится.
– Не буду я ничего петь.
– Ну и ладно. Давай налью тебе еще супа…
– Мне нужно делать уроки.
– Не нужно, с этим теперь покончено.
– Почему мне не дают тетради?
– Да зачем тебе? Считай, что у тебя каникулы… давай во что-нибудь поиграем. Умеешь играть в шашки?
– Конечно, умею!
– Это хорошо. Симон у нас в этом деле мастер.
– Я его обыграю! Я даже папу обыгрывал!
– Папу, говоришь? Ха! Ты очаровашка!
– Перестаньте! Я знаю, кто я!
– Ты больше никто, маленький мой, придется тебе с этим смириться. Жалко, что поделаешь. Но чья в этом вина?
– Вашей революции.
– Думаешь, очень весело нам было делать эту революцию? Это твой папаша нас к ней подтолкнул, толстый боров!
– Замолчите!
– Да, твой рогоносец-папаша! Который на самом деле не настоящий твой папаша, ты ведь об этом знаешь? А знаешь почему? Потому что мать твоя была шлюха, вот почему! Ты-то просто маленький мальчишка, с тебя какой спрос? Да, я согласна, это несправедливо, что ты родился в такой семье. Но теперь все уладится.
Так на протяжении долгих недель супруги Симон воспитывали принца: башмачник его поколачивал, а жена утешала – словами и водкой, которую подливала ему в суп. Они развлекали его партиями в шашки, закармливали пирожками – и постепенно он привык к этой жизни и даже стал находить в ней некоторое удовольствие. Однако он был скрытен, чтобы можно было понять, искренне он смирился со своим положением или только притворяется, и какая из сторон на самом деле одержала верх.
~ ~ ~
– А «Карманьолу»? Он знает «Карманьолу»?
– Ну, давай, Капет, спой им «Карманьолу»!
Пожалуй, лишь притворщик мог бы сказать, что ребенок неискренен, когда поет, стоя на столе, полупьяный, среди стражников, которые топают ногами и хлопают в ладоши в качестве аккомпанемента. Он знал ее наизусть, эту песню.
– Настоящий патриот! – воскликнул Антуан, крепко обнимая ребенка и целуя его в обе щеки.
Папаша Симон был и вправду взволнован – он выполнил свою миссию. Теперь нет никаких причин убивать этого мальца, потому что он стал революционером – и это он, Симон, его спас. Если Нормандец специально старался расположить к себе чету Симон, ему это удалось.
Мари-Жанна не могла не похвастаться мадам Сежан, бывшей хозяйке дома на улице Кордельеров, в котором сама она некогда была консьержкой:
– Малыш такой славный и послушный! Он чистит и натирает воском мои башмаки и приносит мне грелку в постель!
– Экая вы негодяйка, Мари-Жанна! Заставляете королевского сына прислуживать вам!
– Это я-то негодяйка? Да вы знаете, что за такие слова я могу отправить вас на гильотину? Тут недавно одной дуре-кухарке взбрело в голову закричать: «Да здравствует король!» На следующий день ее укоротили ровно на голову.
Чета Симон и их воспитанник представляли собой образцовую патриотическую семью. Каждый раз, когда вражеские войска одерживали победу, Нормандец получал пару оплеух. Но и у французской армии были победы, их становилось все больше и больше, и тогда в семье Симон устраивали праздник. Нормандец предпочитал победы революционной армии – в тот день, когда «армия Людовика XVII» захватила Дюнкерк, он дважды получил ремнем по лицу.
Он забыл все уроки арифметики и чистописания. Он читал вслух газету Эбера, и Симон в восторге хлопал себя по ляжкам. Потом они садились играть в шашки, и ни разу башмачник не мог выиграть. Они смеялись, потом начинали петь – не только революционные песни, Симон знал и другие, которые казались принцу более забавными. Странно и смешно было слышать из уст сына Марии-Антуанетты неприличные словечки: произнесенные его чистым детским голоском, они звучали почти трогательно. Народ толпился во дворе, мечтая попасть на ужин семьи Симон, но этой чести удостаивался лишь самый цвет санкюлотов. В этот вечер Симон пытался навести своего подопечного на разговор о Марии-Антуанетте:
– Ну, как там написано, какая утроба у австрийской шлюхи?
– Дряблая и разбухшая.
– Нет, вы посмотрите-ка! Ну и память! Достаточно ему одни раз что-то прочитать, и – хоп! – он это уже запомнил. Он знает все, что говорит папаша Дюшен.
~ ~ ~
1 августа 1793 года, словно в отместку за убийство Марата, случившееся две недели назад, Марию-Антуанетту забрали из тюрьмы и повезли в Конвент, где начался судебный процесс.
Папаша Дюшен случайно раскрыл еще один контрреволюционный заговор: на сей раз планировалось начать в Париже смуту и грабежи, чтобы без помех выкрасть маленького ублюдка из Тампля.
После первого допроса на заседании особого трибунала бывшую королеву перевезли в тюрьму Консьержери.
«Я был там, когда ее привезли, бледную и дрожащую. Когда она осталась в камере одна, я приложил ухо к дверному окошку, чтобы услышать, как она воет. Надо сказать, что она завывала как волчица, у которой отняли добычу. Ее вопли были ужасны… Если мы ее не осудим и не укоротим на голову в ближайшие сутки, мы больше не будем свободны, и вообще не достойны будем существовать…»
Чтобы отпраздновать начало судебного процесса по делу королевы, к которому он столько раз призывал, Эбер подарил «тампльскому ублюдку» несколько игрушек, среди которых оказалась крошечная гильотина, одна из тех, которыми уличные актеры развлекали народ, отрубая головы птицам. Парижанам это нравилось, но вскоре такое развлечение отменили из-за нарушения общественного порядка, а мини-гильотины конфисковали.
~ ~ ~
Нормандцу не удавалось сосредоточиться на партии в шашки, и он уже был близок к проигрышу, потому что на этот раз с ним играл не Симон, а Дожон – отличный игрок, которого башмачник позвал в гости. Нормандец никогда не сталкивался с таким сильным противником. Нужно было быть очень внимательным, но этажом выше стоял страшный грохот: женщины то ли передвигали стулья, то ли танцевали – непонятно, чему они так радовались, – и наконец Нормандец вышел из себя:
– Да что они там делают, эти шлюхи? Как же их еще не гильотинировали?
Дожону, судя по выражению лица, это не понравилось. Симон давно подозревал, что тот не отличается большим патриотизмом. Нужно будет сообщить об этом в Комитет.
Нормандец выиграл партию. Мари-Жанна заставила его выпить кружку горячего молока. Мальчик лег. Когда перед сном к нему приходили воспоминания из прошлого – Полина, Муфле, – он отгонял их. Ему не хотелось видеть эти лживые картинки, этот Версаль, где все было ненастоящим… Он больше не был ни дофином, ни королем – пришел конец королевствам и дворцам. Все это сожгли – он слышал об этом во время вечерних разговоров, засыпая на коленях у Симона. Разговоры порой продолжались всю ночь, потому что любимым занятием революционеров было обсуждать и спорить, спорить и обсуждать. С Анри происходило то же самое – он вспоминал собрания парторганизации, когда ребенком засыпал на коленях у отца и чувствовал, как отцовский живот сотрясается от праведного коммунистического гнева. В памяти остались слова «партия», «рабочий класс», «Маркс» – некоторые слова рокотали сильнее, чем все остальные. Революция была его сказкой на ночь, любимым детским сном.
~ ~ ~
«Незачем тянуть кота за хвост, чтобы осудить австрийскую тигрицу! Чего ради устраивать спектакли в суде, чтобы ее приговорить? Ее давно пора изрубить в мелкий фарш за всю ту кровь, что пролилась по ее вине. <…>
Я уже пообещал, что Антуанетта будет казнена! Я готов и сам отрубить ей голову, если вы будете медлить. Я пообещал ее голову санкюлотам от вашего имени».
Тем временем санкюлотам пришлось довольствоваться могилами французских королей в склепе часовни Сен-Дени. Затем они принялись за богатую одежду казненных аристократов – они сжигали ее на Гревской площади.
– Все раззолоченные тряпки твоего папаши побросали в костер одну за другой, – рассказывал Симон своему воспитаннику.
Людовик XVII выслушал его с безучастным видом, потом потребовал свою порцию водки.
Эбер завел привычку навещать эту революционную семью. Он подолгу наблюдал за ребенком, который играл сам с собой в карты или в шарики. На днях маленький гений починил игрушечную гильотину, сломанную Симоном, который пытался резать ею колбасу.
Лишь самые знаменитые вожди Революции, тщательно отобранные, могли попасть в Тампль и увидеть, как сын «укороченного» Людовика XVI ковыряется в носу. Он был очарователен – настоящий падший ангелок, волчонок, разлученный с матерью и воспитываемый свиньями. Эти господа не задерживались надолго и обычно больше не приходили. Никто из них не произвел на ребенка более сильного впечатления, чем Эбер, которого он называл «папаша Дюшен» и который подолгу молча наблюдал за ним, непочтительно оставаясь в шляпе. Иногда на его губах появлялась улыбка, которой Людовик XVII не мог вынести и отводил глаза.
В конце своего визита, длившегося обычно около часа, Эбер вставал, последний раз окидывал ребенка пристальным взглядом и произносил лишь «До встречи», перед тем как выйти.
~ ~ ~
«Я умоляю вас, дайте знать об опасности, выразите мои самые живые страхи, для которых – увы! – есть все основания. Нужно, чтобы в Вене осознали, насколько будет ужасно и, осмелюсь сказать, недостойно, если история засвидетельствует, что лишь в сорока лье от австрийских армий, блестящих и победоносных, августейшая дочь императрицы Марии-Терезии погибла на эшафоте, и не было предпринято ни одной попытки ее спасти».
Но блестящие и победоносные австрийские армии не сдвинулись с места, и процесс Марии-Антуанетты начался. Помимо того, что для Эбера это было завершением всех трудов, это была еще и возможность ограничить влияние Робеспьера.
Предводитель санкюлотов еще ни разу не осмеливался открыто противостоять вождю якобинцев, который, в свою очередь, воздерживался от критики «папаши Дюшена», поскольку хотел нанести заведомо точный удар: Робеспьер понимал, что если не отправит противника на гильотину в течение двух дней от начала конфликта, тот отправит его туда сам. Хотя сфера соперничества между Эбером и Робеспьером пока не определилась окончательно, ни один из двух революционеров, во всяком случае, еще не избавился от желания восстановить монархию к своей вящей выгоде. Судебный процесс королевы ускорил развитие конфликта. Эбер настаивал на том, чтобы ведение процесса было предоставлено ему, поскольку он вот уже два года готовил для него почву – а по сути, начал эту подготовку еще в алансонских кабачках в 1780 году – и теперь хотел нанести решающий удар и заодно извлечь из процесса все политические выгоды.
Робеспьер и Эбер были похожи на двух котов, собирающихся драться из-за полумертвой птички.
Робеспьер назначил Эрмана председателем трибунала. Он надавил на Шометта и добился того, чтобы Фуке-Тенвиль стал публичным обвинителем. Эбер, таким образом, вынужден был довольствовался лишь скромной ролью свидетеля, ответственного за происходящее в стенах Тампля.
Но теперь Эбер был уже привычным к унижениям такого рода и научился использовать даже самые мизерные шансы для достижения своих целей.
Фуке-Тенвиль обвинил королеву в тайном сговоре с врагами Франции, и этого обвинения никто не смог бы отрицать: она действительно призывала иностранные армии к захвату французских территорий под предлогом «навести в стране порядок»; то, что под этим подразумевалось, конечно, не соответствовало желанию большинства французов. Да, французы обезумели, но по какому праву кто-то собирается вмешиваться в их дела и призывать их одуматься?
Фуке-Тенвиль вел процесс в полном соответствии с юридическими нормами той эпохи. Он настойчиво требовал для обвиняемой смертной казни – общепринятой высшей меры наказания. Государство, находящееся в состоянии войны, судило предательницу, это был обычный судебный процесс обычной предательницы, как того и хотел Робеспьер. И вот именно эту банальность происходящего Эбер собирался нарушить.
Папаша Дюшен привил своим возлюбленным санкюлотам страсть ко всему грандиозному и ужасному: подлая шлюха должна быть не просто наказана как обычная преступница, она должна заплатить настоящую цену за все преступления, совершенные в течение последних двадцати лет. Ибо на самом деле процесс начался не 12 сентября 1793 года, а 8 июня 1773 года, когда Мария-Антуанетта предстала перед парижанами на следующий день после своей свадьбы с принцем Людовиком. И финал этого процесса должен был соответствовать всему, что она успела за эти двадцать лет натворить.
Эбер перечитал «Царя Эдипа», чтобы подтвердить свою догадку о том, что больше всего воодушевляет города, опустошаемые мором.
Он предъявил Марии-Антуанетте обвинение, которое некогда возводили на Иокасту, ибо толпу больше всего возмущает нарушение фундаментальных запретов: инцест, педофилия. Именно таким образом Эбер придал процессу королевы новый масштаб – обвинив ее в святотатстве.
~ ~ ~
– Ах ты, мелкий поганец! Совсем стыд потерял?
– Кто тебя этому научил?
– Чему?
– Сейчас ты у меня узнаешь, чему!
– Оставь его в покое, Антуан, не надо его бить! Он сейчас скажет… ну-ка, маленький мой, скажи, кто тебя этому научил?
– Это твоя мать? Или старая мартышка Элизабет?
– Перестань, Антуан!
– Или обе?
– Ну, скажи ему!
– Что ты киваешь? Это означает да? Обе?
– Ну, ответь же!
– Обе?
– Вот шлюхи!
– Они тебя укладывали с собой в постель?
– Ответь, если да.
– Да.
– Что да?
– В постель.
– Что в постель? Они были голые в постели? И там они тебя научили теребить твои причиндалы? Так?
– Ну, скажи ему, малыш! Тебя не накажут, потому что это их вина.
– Ты понимаешь, про что тебя спрашивают? Ну, говори! Они его брали в рот?
– Симон!
– А что? Надо точно знать. Думаешь, мне так нравится все это выпытывать?
Мари-Жанна обняла ребенка, прижала к себе и зашептала на ухо: не надо бояться, это все для его же пользы, нужно все честно рассказать, и с этим будет покончено. Нужно это сделать ради нее, ради мамаши Симон, которую он любит. Он ведь ее любит, правда?
– Да.
Осталось лишь написать Эберу:
«Приходи побыстрее, мой друг, мне есть что тебе рассказать, и к тому же я буду очень рад тебя видеть».
Медленно водя пальцем по строчкам, Симон перечитал записку, написанную под его диктовку одним из стражников. Да, все так. Как здорово видеть слова, которые ты только что произнес, написанными на бумаге. При виде такого чуда башмачник не смог устоять перед литературным соблазном и решил дописать несколько слов собственной рукой:
«Пиридавай превед от миня и жыны сваей дарагой супруги, дочке и систре. Прашу низабыть маей прозьбы и притти миня навистить паскарей. Навечно твой друх Симон».
Эбер прибыл в Тампль лишь на следующий день. Без сомнения, ему понадобилось время, чтобы расшифровать послание Симона.
– Ну, так что, Капет, это правда, то, что ты сказал вчера своим родителям?
– Моим родителям?
– Антуан и Мари-Жанна – твои родители. Гражданские родители. Ты ведь им не лжешь?
– Нет.
– Значит, это правда?
– Да.
– Насчет обеих?
– Да.
– Ты это случайно не выдумал, просто чтобы вызвать интерес?
– Нет, это правда.
– Чистая революционная правда?
– Да. Чистая революционная правда. Клянусь в этом!
– Да нет, я тебе верю, мальчик мой, можешь не клясться… Бедное дитя! Ну и воспитание ты получил!
С этими словами Эбер впервые погладил Людовика XVII по голове, и тот не воспротивился – он улыбнулся заместителю прокурора, как приговоренный к смерти улыбается палачу, помогающему ему взойти на эшафот.
– Гражданин Симон, поздравляю тебя. Тебе удалось приручить волчонка.
– Это ты еще не слышал, как он поет! Он знает всю «Марсельезу» наизусть!
– Настоящий санкюлот! Ну что ж, теперь тебе нужно уговорить его повторить все сказанное еще раз – для прокурора.
Шометт прибыл в Тампль неделю спустя, во главе делегации, в составе которой были министр военных дел, три комиссара и два секретаря суда. Эбер, который подкинул Шометту идею этого допроса, позаботился о том, чтобы явиться позже.
Нормандец рассказал о нескольких попытках к бегству, предпринятых королевой и ее невесткой, о доброте стражников, о маленьких тайниках, антиреспубликанских разговорах и тайно передаваемых во внешний мир посланиях. Затем он сознался, что «много раз был застигнут Симоном и его женой за недостойным занятием, вредным для здоровья, и рассказал им, что эту отвратительную привычку он приобрел благодаря матери и тетке – много раз они забавлялись, глядя, как он совершает свой порочный ритуал, а также часто клали его с собой в постель, где заставляли проделывать то же самое. <…>
Из того, что ребенок смог объяснить, следует, что однажды мать принудила его к совокуплению, в результате которого у него возникла опухоль яичка, о которой известно гражданке Симон, и до сих пор он вынужден носить повязку… Мать советовала ему никому об этом не рассказывать. С тех пор она совершала с ним аналогичные действия множество раз. <…>
Гражданин и гражданка Симон нам сообщили, что об этих фактах они узнали от самого ребенка, который много раз об этом говорил и побуждал их доставить его к нам, чтобы сделать об этом заявление».
Показания были подписаны рукой Людовика Капета. Также на бумаге стояли подписи Шометта, Паша, Эбера, трех комиссаров и Симона.
На следующий день новая делегация явилась допрашивать Марию-Терезу. Эбер при этом не присутствовал – его заменил художник Давид. Но вел допрос по-прежнему Шометт. На протяжении допроса Людовик XVII часто прерывал сестру, чтобы объявить, что она лжет, что все было не так или не тогда. Ребенок знал по именам всех стражников и точно помнил, с которыми из них его мать и тетка вели «антиреспубликанские разговоры».
Мария-Тереза признала, что ее брат «более наблюдателен и обладает лучшей памятью».
Нормандец и раньше поправлял Марию-Терезу, когда та делала грамматические ошибки, и теперь был рад, что наконец-то может посрамить эту дурочку и лгунью перед взрослыми.
Затем перешли к более серьезным вещам.
Мария-Тереза рассказывает в своих мемуарах, как Шометт расспрашивал ее о «гнусностях», в которых обвиняли ее мать и тетку. «Я была так поражена и возмущена одновременно, что, несмотря на весь свой страх, не смогла сдержаться и заявила, что это низкая клевета. Несмотря на мои слезы, они продолжали меня допрашивать».
Но Мария-Тереза умолчала, что всякий раз, когда она отрицала обвинения, Шометт поворачивался к ребенку, чтобы спросить его, и всякий раз Людовик XVII повторял свои прежние показания, глядя сестре прямо в глаза.
Когда ей задали тот же самый вопрос во второй, потом в третий раз, Мария-Тереза наконец сказала, что, возможно, ее брат и впрямь видел нечто, чего она сама не видела, будучи занята какими-то своими делами в другом месте.
Этого было вполне достаточно. Перешли к очередной свидетельнице – Элизабет. Ее заставили выслушать показания племянника об инцестуальной связи, в которую вовлекала его мать.
– Это обвинение – настолько запредельная гнусность, что я отказываюсь на него отвечать. Привычка к этому «недостойному занятию» у Нормандца была очень давно, и он наверняка помнит, что его мать и я как раз очень часто его за это ругали.
Ребенка попросили повторить, на этот раз в присутствии тетки, рассказ о том, как именно она и его мать вовлекали его в «порочные занятия».
– Кто из них это начал?
– Они обе, вместе.
– Это происходило ночью или днем?
– Не помню. Кажется, по утрам.
Он начал рассказывать детали, повторяя вымысел, сочиненный Симоном.
– Чудовище! – воскликнула Элизабет, вся в слезах. Нормандец лишь смеялся над поражением своей тетки.
Наконец-то он наслаждался могуществом и безнаказанностью – он был королем. Конечно, сказалось воздействие водки, регулярно подливаемой в суп, но главную роль сыграли разочарование и память о прошлых обидах, копившихся годами и наконец получивших возможность выхода.