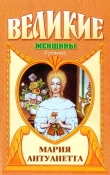Текст книги "Король без завтрашнего дня"
Автор книги: Кристоф Доннер
Жанр:
Исторические детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 21 страниц)
~ ~ ~
Толпа, прибывшая из Парижа, не стала сжигать дворец – как это делалось в те дни почти по всей Франции, – но парк не пощадила. Игрушечная деревушка Марии-Антуанетты была разрушена.
На следующее утро Нормандец, выйдя на прогулку, увидел разоренный парк. Он не заплакал, потому что все на него смотрели, лишь потребовал, чтобы нашли хоть пару яиц для омлета на завтрак его матери-королеве. Еще две недели назад это сочли бы детским капризом, но теперь, когда он стал дофином, все тут же принялись за поиски. Люди всегда чувствуют себя увереннее, когда есть кому повиноваться, – даже если речь идет о четырехлетнем ребенке. Особенно если речь идет о четырехлетнем ребенке. С высоты своего новообретенного величия Нормандец взирал на лихорадочную суету служанок и пажей.
Нашлись яйца, молоко, малина. Потом Нормандец попросил Полину помочь ему привести в порядок его сад, вытоптанный этими злодеями. Герцогиня де Турзель напомнила дофину, что ему нужно идти на урок.
– А если я не хочу?
– Тогда мне придется взять вас за руку, месье, и силой отвести в кабинет для занятий.
– А я буду кричать! Меня услышат на террасе. И что скажет мама?
– Скажет, что вы нехороший ребенок. И отправит вас спать раньше положенного.
Нормандец принялся хныкать – вначале не всерьез, но понемногу увлекся собственным притворством и наконец расплакался от души. Собравшиеся взрослые застыли в молчании. Полина в глубине души была возмущена жестокостью своей матери. Но мадам де Турзель держалась как ни в чем не бывало.
Появилась королева. Ребенок устремился к ней.
– Мама! Знаете ли вы, кого дали мне в гувернантки? Саму мадам Суровость! Я ее не хочу!
И, повернувшись к аббату д’Аво, добавил:
– Я готов идти на урок.
На следующий день королева составила письменную рекомендацию для мадам де Турзель, которую недавно назначила гувернанткой дофина вместо герцогини де Полиньяк, уехавшей за границу.
«Моему сыну четыре года и четыре месяца без двух дней. Он такой же, как все крепкие и здоровые дети: непоседливый, взбалмошный, вспыльчивый; но вместе с тем он добрый ребенок, нежный и даже ласковый, если не позволять, чтобы гнев завладевал им. Он обладает чрезмерным самолюбием, но, если направлять это свойство в правильное русло, оно сможет пойти ему на пользу. Он всегда выполняет то, что пообещал. Но он очень несдержан и болтлив, легко повторяет все, что услышит, и часто выдумывает небылицы, при этом без всякого умысла солгать. Пожалуй, это его самый большой недостаток, который, конечно же, нужно исправить.
Аббат д’Аво, возможно, хороший учитель чистописания, но в остальном он оставляет желать лучшего… неделю назад до меня дошли слова этого недостойного аббата, свидетельствующие об его неблагодарности – что не прибавило мне симпатий к нему».
Передавая это письмо герцогине де Турзель, Мария-Антуанетта добавила: «Отдаю на хранение добродетели то, что доверила дружбе». Прекрасная фраза, упомянутая во многих исторических свидетельствах, за исключением мемуаров самой герцогини де Турзель, которая, казалось бы, должна была запомнить ее лучше остальных.
Знакомясь с воспоминаниями той эпохи, написанными людьми одного круга, жившими одновременно в Версале, то и дело наталкиваешься на противоречия, неточности, преувеличения. Невозможно воссоздать истинную картину событий. Приходится домысливать, воображать ту среду. По стилю письма можно судить о действующих лицах. «Отдаю на хранение добродетели то, что доверила дружбе». Кто сейчас так говорит?
Что точно известно – версальский дворец в те дни обезлюдел. Уехал даже граф Артуа. Когда парижские толпы устремились в Версаль, граф Прованский хотел отдать приказ, чтобы по ним стреляли из пушек. Он был в этом не одинок. Никто во дворце не мог понять, почему король позволил увезти себя в Париж, как он мог подчиниться этой крикливой злобной черни. Аристократы покинули Версаль не потому, что боялись Революции, а потому, что не верили, что Людовик XVI сможет их защитить. Впрочем, король не удерживал дворян.
С их отъездом жизнь во дворце почти замерла. Те, кто остался – больше по необходимости, чем по убеждению, – чувствовали себя приговоренными. Они были узниками, задыхающимися от жары, парализованными ожиданием. Было жарко, влажно, душно.
Мария-Антуанетта узнавала дворец таким, каким он был сразу после ее прибытия, девятнадцать лет назад: перешептывания в коридорах, слежка и боязнь чужой слежки. Последней же модой стала переписка с использованием симпатических чернил: длинные письма тем, кто уехал, и дневниковые записи – для себя, чтобы лучше разобраться в том, что происходит. Эти записи были для нее все равно что щипки, помогающие убедиться, что происходящее не сон. Даже два века спустя эти свидетельства времени не могут оставить никого равнодушным.
«Истина и ложь стремятся к одной и той же цели», – утверждал Поль Валери.
Когда Эбер обнародовал свой «Визит папаши Дюшена в Версаль» – это была ложь, выдумка, гротеск, но при этом он стремился к той же цели, что и Моррис Гувернер [6]6
Гувернер, Моррис (1752–1816) – один из выдающихся государственных деятелей США времен войны за независимость, друг Джорджа Вашингтона, в 1792–1794 годах посол США во Франции, впоследствии сенатор.
[Закрыть]или Шатобриан: постичь реальность.
Все лето 89-го года Эбер продолжал печь свои тексты для театра марионеток, но еще не начал издавать газету. Персонажи, похожие на папашу Дюшена, были повсюду. Для Эбера это было не самое приятное время.
~ ~ ~
Анри с трудом жевал свой бифштекс: жесткое, как подошва, мясо, насквозь пропитанное уксусом. Он попросил не добавлять кетчуп, но не мог предвидеть, что уксуса, словно ради компенсации, будет с избытком.
Ресторан «Альма» славился очень хорошей кухней в 1980-е годы, и даже в 1990-е, как помнил Анри, здесь кормили еще прилично, но сейчас ему приходило на ум лишь слово «тошниловка», – и он действительно испытывал тошноту. Несколько раз его приглашали сюда пообедать кино– и телепродюсеры, но все предлагаемые ими проекты заканчивались ничем. Анри помнил об этом, он не забыл ни одной из этих бесплодных авантюр, ради которых задаром вкалывал. Но, по крайней мере, хоть обеды были что надо. Или ему тогда так казалось? Может быть, ему кружила голову обстановка и клиентура этого заведения, а заодно сам факт, что каждый раз он оказывался в лестной ситуации писателя, которого любят, и сценариста, которому доверяют.
Во всяком случае, каждый раз проект срывался, а скорее всего, приглашавшие его продюсеры даже и не думали снимать фильм. Просто им не нравилось обедать в одиночестве, и они хотели, чтобы им составил компанию писатель, имеющий репутацию бунтаря, много путешествующий, который разделил бы их мечтания о новом проекте. Поскольку этим творческим людям полезно мечтать, точнее даже, это их постоянная болезненная потребность. Так думал Анри, невнимательно слушая Сильвию Деламар, которая недавно появилась, по-хозяйски стуча мощными каблуками.
– Вам не нравится бифштекс, Анри? Нужно сказать, чтобы его унесли.
– Нет-нет, все в порядке… Продолжайте: что вы говорили о начале?
– То, что интересует нас больше всего – это события, происходящие в Тампле.
– Я еще не написал эту часть.
– Вот именно. Когда я читала первую часть, то подумала, что для зрителя более увлекательной должна быть вторая, которая разворачивается в Тампле.
– Единство времени и места, – вставил Симон.
– Но какое же в Тампле единство времени?..
– Нет, разумеется! Папа, что ты несешь? И потом, Анри, если честно, я не в восторге от присутствия в сценарии Эбера.
– Как? Это же ваша оригинальная идея!
– Не будем об этом.
– Но на Эбере держится весь фильм!
– В том-то и дело. А фильм – о Людовике XVII.
– Но в сценарии всегда должен быть злодей! Это важная фигура.
– Хм, я об этом не думала… Вы правы. Возможно, его стоит сохранить… ну, посмотрим. Но согласитесь, фильм должен начинаться со сцены в Тампле. Где Людовик XVII один, запертый в камере…
– Вы хотите, чтобы весь фильм снимался в этой камере?
– Да, в закрытом помещении. Почему бы нет? Но не беспокойтесь, вам помогут. Мы пригласим второго сценариста. Кого-то, кто уже писал сценарии для фильмов, где все действие происходит в одном месте.
– Ребекку Брандт?
– Так или иначе, нужен взгляд со стороны, – снова вмешался Симон. – Но я не думаю, что работа, которую ты уже сделал, пропадет даром.
– Напротив, – подхватила Сильвия. – Это будет основой. Но повторяю еще раз: в первую очередь это фильм о Людовике XVII.
– Кстати, можно так и назвать фильм: «Ребенок из Тампля», – оживленно добавил Симон. – Что ты об этом думаешь, Анри?
– Простите, но бифштекс – действительно редкостная гадость, – морщась, сказал Анри. – Мне нужно его вытошнить.
Он направился в сторону туалетов, но, не дойдя, повернул направо, к выходу. Этот ресторан всегда приносил ему несчастье.
Написать книгу, подумал Анри. Я напишу книгу о Людовике XVII и завяжу с писательством. По улице Монтань он направился к своей «ламборджини», припаркованной у «Афина-Плаза».
Настанет день, когда мне больше не придется общаться с этими людьми.
Проходя мимо бутика «Прада», Анри подумал, что надо бы сделать одну вещь. Он с трудом удержался от желания позвонить Доре и выплеснуть на нее свою обиду и гнев. Вместо этого он набрал номер своего издателя и попросил его о встрече.
~ ~ ~
– Вас интересует книга о Людовике XVII?
– Хотелось бы узнать об этом подробнее.
После нескольких месяцев изысканий и обобщений Анри чувствовал за собой некоторое преимущество в данном вопросе. Он говорил увлеченно, не запинаясь. На столе издателя он заметил фотографию двоих детей и мельком подумал, что это сочетание – дети в окружении огромного количества книг – производит несколько тревожащее впечатление. Дети, осажденные книгами, подумал Анри, не переставая рассказывать об Эбере. Книги, пожирающие детей. Может быть, я нахожусь в берлоге огра? Может быть, все издательства – это фаланстеры, растящие в своих недрах пожирателей детей?
Анри не мог оторвать глаз от фотографии.
Издатель это заметил и спросил себя, что с ней не так. Он повернул голову, чтобы убедиться, что фотография на месте, целая и невредимая – словно Анри мог одним своим взглядом нанести ей ущерб. Но нет, конечно же фотография была в порядке. Анри не был медиумом – иначе он бы это знал; о таких вещах писатели говорят своим издателям в первую очередь.
Конечно, издатель все еще слегка опасался Анри, но с того момента, как он стал главой этого издательства, он опасался всех писателей, которых публиковал.
– Вы уже подписали какие-либо документы с той кинокомпанией?
– Нет.
– Точно?
– Ничего не подписывал.
– То есть все это время вы работали без контракта?
– Да. А теперь я хочу превратить сценарий в книгу.
– В роман?
– Еще не знаю.
– Роман – это лучше. Но только настоящий роман, а не такой, внутрь которого напихано множество других романов… если вы понимаете, что я имею в виду. Просто роман.
– Я хочу показать, до какой степени мы все еще подвержены влиянию той лжи, которую воспроизводят одно поколение историков за другим, – пояснил Анри.
Он в очередной раз перевел взгляд с фотографии детей на лицо издателя, который был историком по образованию. Анри это знал. Этот человек буквально купался в истории, которая к тому же была для него семейной традицией: его отец писал книги о Революции, так же как и его дядя, который даже стал издателем исторических книг; они создавали направления, течения, школы. Но почему бы не произвести революцию в самой истории революций? Династия историков, один представитель которой серьезнее другого, подумал Анри, представляя своего издателя ребенком – например, в мае 1968 года, – который роется в книгах своих предков в поисках объяснений нынешнего непредвиденного бунта, – в то время как он сам, Анри, с прижатым ко рту клетчатым платком сооружает из остатков своего «Cirsuit-24» баррикаду на улице Суффло.
– Ибо Революция, – продолжил он, – это триумф чокнутых. Только историки способны рассматривать ее как серьезное событие. Речи папаши Дюшена не имели никакой определенной стратегии. Эбер был прежде всего писателем. Сам процесс писательства опережал размышления. Впрочем, там и не было размышлений, одни насмешки. Он просто развлекался. Проект «Папаша Дюшен» держался на шутках и каламбурах, а в результате получилось, как в игре в «гусек», когда фишка двигается тем дальше, чем больше точек на кубике: чем удачнее были шутки, тем больше они приближали убийства.
Издатель спросил себя, сколько Анри потребует денег и какую прибыль может принести произведение, которое, по сути, и не роман в традиционном понимании этого слова. Практически никакой прибыли не будет. Он получит еще одну книгу Анри, похожую на все остальные его книги – один из тех романов, где прошлое и настоящее, большая и малая история, кинематографический и театральный язык, вымысел и реальность, правда и ложь стремятся к одной и той же цели.
– Полагаю, вам нужны деньги, – сказал он вслух.
– Не начинайте с этого, дорогой друг. Не мне нужны деньги,а вы, как сумасшедший издатель, хотите издать такую книгу.И, во имя всех моих книг, которые вы уже опубликовали – в убыток себе, о чем я сожалею, – скажем, из чувства признательности, я собираюсь предложить вам замечательную вещь: заключить со мной контракт, делающий вас счастливым обладателем прав на мой новый роман, который вас уже восхищает, несмотря на то, что вы его еще не прочли. Контракт – и в придачу, как всегда, чек.
– Сколько вы хотите?
~ ~ ~
В ночь на 4 августа 1789 года собрание представителей трех сословий упразднило привилегии и декретировало равноправие всего французского народа. Это был самый известный праздник всеобщего равенства за всю мировую историю, на котором было провозглашено, что все люди рождаются равными и свободными. Герцоги и епископы, крестьяне и ученые отныне становились просто гражданами – то есть, дословно, «жителями города». Однако загвоздка состояла в том, что этого города не существовало, у него не было ни структуры, ни законов, ничего реального. И вот, в ожидании, пока он будет построен, Франция, которая была уже не королевством и еще не республикой, а неким примитивным сообществом дикарей, купалась в счастье всеобщего равенства.
Третье сословие, которому было всего шесть месяцев от роду, не обладало ни сплоченностью, ни историческим опытом. Его легитимность держалась лишь на беспорядочной груде нелепых формулировок, притязаний и жалоб, собранных со всех концов страны, утопических проектов, составленных людьми, одержимыми восторгом от того, что они вообще умеют писать, поскольку совсем недавно выбрались к свету из тьмы неграмотности. Видя все это, дворяне и церковнослужители разнежились, размягчились – они были очарованы, они тоже хотели ощутить эйфорию свободы, хотели стать частью целого, хотели второй молодости. Графы и аббаты обнимались с простым людом и заражались его одержимостью.
В эту безумную ночь, когда всем было не до сна, появилась Декларация прав человека и гражданина. Имелся в виду Человек с заглавной буквы, Человек, стоящий превыше всего, не боящийся ни Бога, ни кесаря. Утверждались новые принципы, стирающие Десять заповедей, ибо если на первый взгляд эти принципы соответствовали заповедям, то на деле глубоко противоречили им. Десять заповедей включали в себя, по сути, девять запретов, утверждая мораль с помощью препятствий, барьеров, воздвигнутых, чтобы ограничить власть инстинктов; это были преграды, защищающие человека от него самого. Права человека, напротив, многое позволяли, давали преимущества, утверждали то примитивное буйство, которое на современном языке называется революцией. Но ничто не является менее современным, чем хаос.
Декларация прав человека и гражданина стала официальным объявлением войны религии, потому что в ней провозглашалось общество, прежде невозможное: общество равенства, преисподняя, в которой люди рождаются равными в правах, – но не было и речи об обязанностях, а тем более о запретах. Вот почему все конституции, составляемые революционерами последующих эпох, стремились уничтожить разрушительный эффект этой Декларации. Законы Учредительного собрания, Конвента и Директории неустанно стремились ввести хоть немного неравенства – иными словами, хоть немного жизни – в этот бездушный железный свод прав человека. Аббат Сийес, ныне покоящийся в Пантеоне, отец этой ужасной Декларации, писал спустя две недели после той ночи на 4 августа: «Благосостояние есть цель человека». Сийес-отступник, Сийес-антихрист – иезуиты его иначе и не называли, – который своей проповедью благосостояния стремился сделать людей злыми, завистливыми, агрессивными и разрушающими? Нет. Просто Сийес исключил Бога из своего проекта Конституции – этим его декларация отличается от американской, – и это забвение Бога стало причиной множества несчастий. Вычеркнутый из основ человеческого управления, Бог уже не был универсальной ценностью – а следовательно, Он стал ничем, и все Его наместники тоже стали ничем, они должны были исчезнуть, и даже лучше было бы, не дожидаясь этого, их уничтожить – священников, королей, вплоть до самого слабого, самого невинного из всех – короля-ребенка.
~ ~ ~
В свои четыре с половиной года Нормандец знал наизусть басни Лафонтена. Сейчас они с Полиной разыгрывали «Волка и ягненка». Нормандец изображал волка.
– «Так это был твой брат».
– «Нет братьев у меня».
– «Так это кум иль сват, и словом, кто-нибудь из вашего же роду. Вы сами, ваши псы и ваши пастухи, вы все мне зла хотите, и если можете, то мне всегда вредите; но я с тобой за их разведаюсь грехи». – Для большей убедительности Нормандец зарычал и бросился на Полину: – «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать». Сказал, и в темный лес ягненка поволок [7]7
Басня Лафонтена «Волк и ягненок» цитируется в переводе И. А. Крылова.
[Закрыть].
Именно в этот момент двое стражников, охранявших дверь в спальню королевы, были убиты. Кровь была повсюду. Это произошло 5 октября 1789 года.
Когда Нормандец обхватил Полину, делая вид, что собирается ее съесть, его «воробушек» воспрял, и дофин с гордостью показал его подружке.
– Потрогайте его, это приносит счастье. Когда я вырасту, он будет еще больше – как у коня.
Полина покраснела. Она любила своего принца все больше и больше.
– А когда вы станете моей женой, то ваша «милашка» раскроется, как грот, и мой конь туда въедет.
Он уже намеревался «есть» Полину дальше, когда в комнату вбежала мадам де Турзель, растрепанная, словно обезумевшая, с пятнами крови на лице. Она увидела Нормандца, выпустившего «воробушка» на белый свет, и раскрасневшуюся дочь, но сейчас не время было читать мораль. Надо было убегать как можно быстрей.
Мадам де Турзель и ее дочь наскоро одели дофина, который пока еще оставался безмятежным.
Королева, полуодетая, успела убежать из спальни по тайному коридору всего за несколько мгновений до того, как бунтовщики взломали дверь и устремились к ее кровати, которую стали кромсать своими пиками и ножами. Обнаружив, что королевы нигде нет, они распороли в клочья матрас и подушки. Целые облака перьев летали в разгромленной комнате.
Король вошел в комнату дофина через тайный коридор в сопровождении месье д’Убервилля, который был ранен, поскольку ему пришлось прикрывать бегство короля. Лоб д’Убервилля был в крови. Полина закричала от ужаса, увидев его. Дофин бросился к отцу. Месье д’Убервилль упал, потом поднялся.
Нельзя было терять времени, требовалось отыскать королеву.
Все устремились обратно в коридор. Король нес сына на руках. Он приказал мадам де Турзель остаться в комнате вместе с Полиной, чтобы удержать нападавших, если они ворвутся.
– Вам они ничего не сделают.
Мадам де Турзель в это не верила, но подчинилась, ожидая, что ей и ее дочери вот-вот перережут горло.
Король шел по коридору. Д’Убервилль следовал за ним, опираясь на шпагу, как на трость. Снаружи доносились крики, выстрелы, цокот копыт. Однако Нормандец не боялся – он был на руках у отца и крепко обнимал его за шею.
Наконец они достигли королевских апартаментов. Мария-Антуанетта была там. Она тут же бросилась к сыну. Сестра Нормандца Элизабет, мадам Руайяль, графиня Прованская – все обнимали и целовали его. Месье д’Убервилль снова упал.
– Он умер? – простодушно спросил дофин.
Мария-Антуанетта протянула бедняге свой платок, расшитый королевскими гербами, чтобы вытереть кровь, и д’Убервилль драматическим жестом прижал его ко лбу, прежде чем окончательно потерять сознание.
Снаружи доносились выкрики: «Хлеба!»
– Мама, я тоже хочу есть!
Никто не осмелился улыбнуться, кроме короля, который тяжело рухнул в кресло.
– А в самом деле, не найдется ли чем подкрепиться? Нам бы это не помешало.
Ничего не нашлось.
Появился генерал Лафайет и объявил:
– Я смог взять ситуацию под контроль, ваше величество.
– Лжец! – воскликнула графиня Прованская. – Ничего вы не смогли! Вы негодяй и ничтожество!
– Мадам, я не думаю, что они атакуют этой ночью.
– Я готова выцарапать вам глаза! – вскричала графиня, сделав шаг вперед.
Но ей помешали наброситься на Лафайета.
Наконец она замерла в объятиях мужа и простонала:
– Почему мы не уехали в июле, когда еще было время? Почему?
Граф Прованский в ответ лишь крепче обнял жену, чтобы успокоить, но поскольку она продолжала выкрикивать свои «Почему?», ей ответила Мария-Антуанетта:
– Вы прекрасно знаете почему, мадам. Вы и ваш супруг ждали, что король отречется от престола, чтобы занять его место.
Король покачал головой.
– Неужели во всем Париже нет хлеба?
– Эта нехватка нарочно устроена, сир. Это заговор…
Камень, брошенный снаружи, выбил один из квадратов оконного переплета. Нормандец закричал – теперь и он испугался. Он спросил, где Полина.
Вбежал один из офицеров королевской гвардии и, не тратя времени на поклоны, обратился к королю:
– Одно ваше слово, сир, и я усмирю этот сброд!
Все замерли в ожидании этого слова, которое могло бы навести порядок. Нормандец тоже смотрел на отца, не понимая, что это за слово и почему отец его не произносит.
– Убейте сегодня две тысячи – а завтра их будет десять, – подал голос Лафайет. – И тогда я ни за что не ручаюсь.
По сути, он произнес вслух то, что король мысленно обещал самому себе: никакого кровопролития. Откуда у него, заядлого охотника, было такое предубеждение против крови?
Все дело в его трусости, говорили одни. Все дело в его здравомыслии, утверждали другие, считавшие такое поведение короля тактически верным: он понял, что уже поздно что-либо предпринимать.
«Не подгоняйте время», – сказал Неккер, выступая в Учредительном собрании. Перед этим ускорившимся временем Людовик XVI коснел в неподвижности, не в силах устремиться в бурный поток людей и идей. Или же он слишком хорошо понимал суть ускоряющихся событий, и она его ужасала. Всем своим весом, всей инерцией – своего тела, своей монархии, своего старого режима – он пытался хоть немного замедлить ход вещей.
За внешней нелепостью короля скрывалась мудрость, определяющая его цель на возможно более долгий период: уберечь время от жадности этих безумцев. Держаться, держаться как можно дольше. Поэтому он медленно поднялся и так же медленно вышел на балкон.
Людовик XVI оказался лицом к лицу с толпой, требовавшей, чтобы он заговорил.
– Сегодня…
– Громче!
– Сегодня…
– Раскрывай рот пошире, жирный боров!
Толпа захохотала. Король ощутил неожиданную боль от этого оскорбления, потому что оно адресовалось не только ему лично, а ему как королю. Эти слова, которые прежде стоили бы произнесшему их человеку порки, колесования или четвертования, заставили страдать короля – и всех остальных королей, чьим наследником он был. Людовик XVI в одиночку противостоял авангарду сил хаоса – армии, вооруженной пиками, вилами и горящими факелами, воодушевляемой собственными воплями, – и две тысячи свиней называли его боровом.
Вот они, свобода, равенство и братство свиней, сказал он себе. Вот он, революционный проект: сделать всех людей равными – равными в правах, равными в свинстве. Равенство, которое они возвещают, вздымая свои пики, которое есть отказ от индивидуальности, оно освободит их не только от их угнетателей, но и от их мертвых, и от их ближних, и от памяти, и от обязательств. Это современный каприз, возникший здесь и сейчас. Человек, равный остальным, это всеобщий брат, товарищ, он зовет своего отца только по имени и больше не боится за это быть наказанным. Потому что больше нет иерархий, незачем стремиться к большему, никто ни от кого ничего не требует. Потоп не только после меня, думал Людовик XVI, он был и до меня, и сейчас – вокруг меня.
Можно обвинять Людовика XVI в просчетах, слабости физической и политической, но в главном он был непоколебим. Он противостоял наступлению равенства, ибо оно было оскорблением Бога, и он изо всех сил старался замедлить его продвижение.
Король смотрел на толпу и не узнавал своего народа. Это сборище пьянчуг, что это? Кто эти люди? Он сильнее перегнулся через перила, чтобы лучше слышать оскорбления, хохот, хрюканье свиней. Поскольку он был близорук, то не различал их взглядов. Он видел только шумную массу, вздымающую факелы и пики.
– Сегодня же, – слабо выкрикнул он, – я возвращаюсь в Париж со всей моей семьей.
Но толпе уже было наплевать на его слова, как и на все остальное, толпа вообще толком не понимала, для чего сюда явилась. Все эти люди не спали со вчерашнего утра, они уже вволю напились и накричались, устроили небольшую резню… а кстати, почему бы заодно не прирезать короля? А лучше всего – королеву. Где она?
– Мы хотим видеть королеву!
Король отступил от перил, почти физически ощущая ненависть, исходившую от толпы. Народ превратился в огнедышащего дракона. Людовик XVI вернулся в гостиную и встретил взгляд брата – это была еще одна опасность, поскольку Провансалец тоже желал его смерти, чтобы стать регентом и спасти свою шкуру.
Толпа снаружи продолжала требовать королеву. Мария-Антуанетта взяла сына на руки, позвала дочь и вышла на балкон с обоими детьми.
Личико дофина в ореоле белокурых локонов, побледневшее от тревоги, казалось ангельским. Толпа дрогнула и замолчала, словно и впрямь решила, что перед ней существо, спустившееся с небес.
– Одну королеву! Без детей!
Тогда Мария-Антуанетта вернулась в комнату, передала сына мадам де Ламбаль и снова направилась к балкону, одна, словно приговоренная к казни. Никто из членов королевской семьи не пытался ее удержать. Если толпе нужно убить ее, чтобы успокоиться, пусть так и будет.
Одна лишь графиня Прованская, жена брата короля, которая так долго ненавидела королеву и желала ее смерти, крикнула:
– Нет! Не ходите туда, мадам!
Мария-Антуанетта, обернувшись, улыбнулась ей.
– Лафайет! Сделайте что-нибудь! Они ее убьют!
Но королева этого и хотела: дать себя убить. Она чувствовала себя полностью опустошенной. Скрестив руки на груди – после долгих лет увлечения театром она знала, как принято изображать жертву в античных трагедиях, – королева предстала перед толпой, и та замолчала, глядя на нее. Некоторое время стояла тишина, потом кто-то закричал:
– Да здравствует королева!
Некоторые считали, что Мария-Антуанетта плохая комедиантка, некоторые утверждали обратное. Но, возможно, талант Бомарше не достигал того уровня, на котором ей предстояло играть сейчас.
6 октября 1789 года Мария-Антуанетта начала карьеру трагической актрисы, и все окружающие поняли, что она создана для этого. Кстати, она прихрамывала на ту же ногу, что и Сара Бернар. Сейчас, когда она вернулась в комнату, это было заметно.
Нормандец бросился к ней. Она подхватила его на руки и, приблизившись к королю, сказала:
– Ради этого ребенка вы должны пообещать мне, что ничего подобного больше не повторится. Я жду от вас клятвы, что вы используете первую же возможность покинуть эту страну…
Король пообещал. Нормандец не узнал его голоса.
Королева оставила детей на попечение гувернантки и, прихрамывая, поднялась на два этажа вверх, в апартаменты Ферзена.