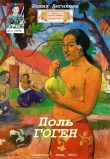Текст книги "Би-боп"
Автор книги: Кристиан Гайи
Жанр:
Рассказ
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 14 страниц)
У вас есть права на вождение грузовика? спрашивает он. В армии получил, отвечает Премини. Думаю, они недействительны, говорит господин Анкер. После армии я пересдал, добавляет Премини. Так сказали бы сразу, говорит господин Анкер. Я не сказал сразу, отвечает Премини, потому что это все меня заколебало.
При слове «заколебало» господин Анкер чуть отпрянул, поморщился. К тому же вы еще и грубы, замечает он. Почему «к тому же»? спрашивает Премини. Не почему, отвечает господин Анкер. Вы уже водили, я имею в виду, профессионально? Немного дальнобойщиком, но недолго, отвечает Премини. Хозяин меня заколебал.
Господин Анкер, вздохнув, обходит письменный стол; обойдя, садится в вертящееся кресло, делает оборот, застывает перед большим окном, что выходит к гаражу, нависает над гаражом, позволяет следить за гаражом, гараж на первом, кабинет на втором.
Премини стоит и ждет. И тоже смотрит в окно, но оттуда, где он стоит, в окне видна только крыша гаража, ему остается смотреть на господина Анкера.
От господина Анкера пахнет одеколоном, его большая ладонь поросла волосками, его ногти тюкают, тукают, стукают, постукивают по стеклянной столешнице, он посвистывает сквозь зубы, тянет все ту же ноту, тсы-тсы-тсы, его живот выступает, когда он сидит; он лыс, в лице что-то трогательное, наверное, обожает детей, если они у него есть или были, а особенно если их нет.
Ладно, говорит он. Я могу взглянуть на права?
Да, отвечает Премини.
Обволакивающим движением, по бедру к ягодице, вот так, словно в поисках кобуры, он тянется правой рукой к правому заднему карману джинсов, вынимает оттуда бумажник, открывает его, медленно достает из прозрачного отделения, обшитого кожей, свои права, небрежно их подает.
Премини, Базиль, читает господин Анкер. Откуда такая фамилия? спрашивает он. От моего отца, отвечает Премини, а если вы спросите, не досталась ли эта фамилия моему отцу от его отца, я отвечу вам: Нет, от его матери, моя бабушка была служанкой в замке под Сен-Жермен, департамент Ивлин, регион парижский, и дала себя обрюхатить отпрыску сеньора, если не самому сеньору, – видите, как гладко я изъясняюсь, ведь я учился, направление гуманитарное, диплом бакалавра, специализация музыка, – который желал загладить, но нет, сказала она, нет; вот такие дела, а теперь я ухожу, вы же совсем ку-ку, и он уходит.
Да куда же он? Куда? Подождите, подождите, окликает его господин Анкер, думая: Нет, определенно, этот малый мне нравится. Вернитесь, зовет он, думая: черт, ну и характер. Вернитесь, да вернитесь же, ну же, вы мне нравитесь, я вас беру. Как это? возвращаясь, спрашивает Премини. Ну да, а что, я принимаю вас на работу, заявляет господин Анкер. Ух ты, ну вы даете, говорит Премини, забавный вы персонаж, и потом, знаете, насчет ругательств, может показаться, будто я такой, но я ведь и сам этого не выношу. Да, я понял, это чтобы меня подколебнуть, вворачивает господин Анкер. Они хохочут. Как в конце телефильма. Все только начинается.
Вами займется Сюзанна, говорит он. Зовет Сюзанну. Сюзанна! Да, господин Анкер? «Да» Сюзанны раздается в тот же момент, когда появляется и сама Сюзанна. Красивая фигуристая брюнетка, глаза блестят. Займитесь господином Премини, произносит господин Анкер. Озадаченные глаза Сюзанны. Его оформлением на работу, уточняет господин Анкер. У-у! Вы здесь? Да, господин Анкер. Затем представите господина Премини Сержу. Вот увидите, это очаровательный юноша, обращается он к Премини, который глаз не отрывает от Сюзанны. Вы меня слушаете? Да, отвечает Премини. Он покажет вам наше хозяйство. Начнете работать с ним. Он возьмет вас в свой грузовик. Будете с ним в команде. Понятно?
1.11
В тот вечер, когда Сесилия и Премини познакомились, был очень классный драйв. Всегда трудно сказать, ну, мне всегда трудно сказать, почему драйв возникает, но если он есть, пусть даже ничего в этом не смыслишь, или особенно когда ничего в этом не смыслишь, то его слышишь, его чувствуешь, его чувствуют и музыканты, они переглядываются, они улыбаются.
Патрик-клавиши, светлые волосенки, взгляд в пустоту, сгорбленный над роялем, Нассуа-контрабас, высокий, худой, кончики пальцев заклеены пластырем, Клод-ударные играет как Элвин (Джонс), хоть ему и говорят, что такая манера не подходит для бопа, но ничего, ничего, пока все трое играют очень хорошо, они и сами удивлены, переглядываются, сдерживаются, чтобы не рассмеяться.
Та-ката, та-ката, ката, ката, та-ката, та-ката, очень быстро, они взяли темп чуть ускоренный, в таком темпе Премини-альту и Жоржу-трубе и придется сбацать тему, тему Паркера, сложную, как и все темы Паркера.
Премини над ней много работал, его беспокоит не тема, а Жорж, тот вернулся из Австралии, хотел там обосноваться, разводить кенгуру, дурацкая история, так ничего и не получилось, с дурацкими историями так всегда, никогда ничего не выходит, разве что у Шекспира, да и то, комедии – просто плачешь, а трагедии – давишься со смеху; во всяком случае, он провел там полгода и все это время не играл, правда, он немного играл после того, как вернулся, но, правда, после того, как вернулся, он уже не такой, каким был, смурной, подавленный, заразился сплином от аборигенов, да и с техникой у него так себе, еще до того, как уехать, он думал только о том, чтобы уехать, ладно, посмотрим, если Жорж облажается, это не страшно, мы ведь у Фернана среди своих, приятелей, завсегдатаев, и играем запросто, по вечерам, время от времени, фортепиано не строит, Патрик невольно играет как Монк, а сегодня вечером он играет так хорошо, Клод и Нассуа тоже; я знаю, что с ними сегодня вечером, бывают такие вечера, всю бы жизнь их слушал, дадим им сыграть еще два пассажа.
Та-ката, та-ката.
Вот. Премини смотрит на Жоржа. Кивает ему. Жорж очень напряжен. У него, как и раньше, длинные волосы и борода. Они вступают.
Без лажи, конечно же, не обошлось, ну, не сразу, первые восемь тактов они шли слаженно, в унисон, восемь следующих вполне себе сносно, Жорж уже немного терялся, а в связующем пассаже с тридцать вторыми, да еще и нашпигованном синкопами, он сдулся, Премини закончил в одиночку и завел первое соло.
Импровизировать после темы Паркера рискованно, но не надо бояться, Паркер и сам не всегда на высоте того, что сочинял, но Премини осмеливается, вступает на цыпочках – паузы, ноты, паузы, ноты, – почти так, как начиналась эта книга, затем все плотнее, энергичнее, вдвое ускоряет темп, драйвно, классно, круто, он это чувствует, он это знает, выдает потрясающе стройное соло – можно нарисовать в пространстве – и уже видит его продолжение.
В следующем пассаже он удерживает этот вдвое ускоренный темп, но нарушает ритм, начинает гулять по гармониям, брать соседние, параллельные, смазанные аккорды, легко расширяя их, искривляя их, ему хочется показать, на что он способен, он играет все сложнее, сложнее, пианисту приходится трудно, почти как Томми Фланагану, который спешил за Колтрейном в «Giant Steps», но Нассуа успевает, да еще и цепляет высокую ноту, как на виолончели, ударник Клод не отстает, попадает точно, все безупречно.
А потом вдруг все рушится на хрен, валится, рассыпается. Премини вырывается, в том смысле, как субъект одним махом вычеркивает себя, чтобы услышали, как он слышит, как он слышит себя. Он забывает о гармонии, темпе, структуре и обо всем остальном. Его сакс рычит по-звериному. Стонет, плачет, лает, ухает, фыркает, воет. Он слышит свой крик. На него отвечает еще более пронзительным криком. Клод еще держится, но остальные не знают, что делать. Такой резкий рывок к свободе пугает их. Они прерываются. Как, впрочем, и Клод. Возможно, лишь Клод один понял, что надо оставить Премини одного. Премини даже не осознает, что играет один. Он продолжает выжимать вопли из сакса. Жорж глядит на него. Лицо Премини искажено яростью. Он топает. Его голова вот-вот взорвется. И сердце. Легкие горят. У него не осталось дыхания. Он успокаивается, постепенно; как одержимый осознает постепенно, что бесполезно орать; как неистовый осознает постепенно, что ничего не поделать, осознает постепенно, что играет один, что он уже долгое время один. Он останавливается. Полная тишина.
Его глаза закрыты. Он не решается их открыть. Но открывает и западает взглядом в глаза женщины – я уже вижу, как кто-то посмеивается, но такое бывает, и вот доказательство, – сидящей за столиком прямо перед ним. Он глядит на нее. Ему кажется, что, если ничего не произойдет, он так и останется подвешенным к взгляду этой женщины. Но что-то вдруг происходит. А происходит то, что люди прерывают тишину. Стряхивая оторопь, медленно начинают хлопать. Раздается свист. Затем выкрики.
Премини оборачивается, смотрит на Патрика, пианист кивает ему, что значит: да, правильно, ты все правильно сделал, я не думал, что ты решишься, но ты решился, и это хорошо. Этого ему достаточно, Премини верит только ему, затем отстегивает сакс, кладет его на рояль и, не раздумывая, направляется к столику.
Женщина видит, как он подходит, она бездвижна, в ее поведении ничего не меняется, она какая-то особенная – это выражение бессмысленно, – она вся в сером, очень элегантная – еще одна бессмыслица, – рядом с ней маленькая, очень маленькая девушка, намного моложе ее, которую явно забавляет то, что происходит между ней и музыкантом, она смотрит на приближающегося Премини, затем снова на сидящую рядом женщину, ей забавно наблюдать, как эти двое смотрят друг на друга, Премини останавливается перед двумя женщинами – полуженщиной и женщиной с половиной – и говорит: Я присяду к вам выпить, он словно оглушен.
Мы как раз собирались вас пригласить, усмехается девушка, я и эта дама, говорит она, эта дама – моя мать, ее зовут Сесилия, а вас? Базиль, произносит Премини. Девушка хохочет. Эта пигалица, которая смеется, как дурочка, – моя дочь, вступает женщина. Вот так она и Премини познакомились, если это можно назвать знакомством.
Принесу себе выпить, говорит он, весь в поту, под пиджаком футболка липнет к коже, в тот вечер он надел пиджак, пиджак великоват, длинные полы ему идут, хотя ладони тонут в рукавах, черный цвет ткани подчеркивает бледность лица, светлый ежик волос, впалые щеки.
Он возвращается с бесплатной выпивкой, Фернан платит по сотне каждому и дает выпивать сколько угодно, считается, что в подпитии лучше играют, он возвращается, он мог бы и не вернуться, но он возвращается, это судьба.
Женщина смотрит, как он садится напротив нее, в ее взгляде есть что-то странное, что не прощает, разбирает по косточкам, оценивает, судит, кажется, видит насквозь, но этого что-то Премини не замечает, он садится, она наблюдает за тем, что он пьет, она наблюдает, как он пьет, она наблюдает за ним не отрываясь, словно он редкий экземпляр, на свободе, прирученный, приученный, приходящий пить к столу от одного только взгляда, Премини это совсем не смущает, он все еще как оглушенный, а то, что он пьет, только усугубляет.
Дочь смотрит на мать, смотрящую на Премини, смотрящего на ее мать, она спрашивает себя, что скажет он, что скажет она, дочь ждет, мать молчит, ей нечего сказать, Премини тоже, им нечего сказать друг другу, у них нет желания говорить, у них есть желание только смотреть друг на друга по причинам диаметрально противоположным, но молча, и это может длиться, может тянуться, пока непрерывно молчание, молчание можно превратно понять, молчанием можно отделаться, можно им насладиться; когда он открыл глаза, его взгляд встретил ее, его взгляд упал на нее, хотя мог упасть на другую, но упал на нее; она не отрываясь смотрела, когда он играл, назовем это игрой, он играл, а теперь не играет, ей трудно принять, что он мог играть, как играл, а теперь не играет, Премини тоже трудно это принять, а значит, даже молчание справляется плохо, справляется хуже, поскольку оно столь болтливо, что вызывает желание заговорить, пусть ради того лишь, чтобы его опровергнуть – его опровергнуть? – она наблюдает, как он уже не играет, а Премини осознает, что он уже не играет, и чувствует на себе ее взгляд, и все это длилось, пока Премини не услышал, как задрожала тарелка Клода.
1.12
В тот вечер, когда Премини, листая журнал, увидел ту фотографию у Сесилии, фотографию ню очень старой женщины, которая его так взволновала, в специальном номере ежемесячного журнала по искусству, посвященном фотографии и, в частности, ню, даже если фотография – это совсем не искусство, а ню только повод, чтобы себя им не утруждать, он пришел с коробкой пластинок Бетховена под мышкой.
Он завернул ее в оберточную бумагу, обвязал лентой, завязал бантиком, что не помешало Сесилии дергать за нее яростно, нервно, как это всегда бывает, когда спешишь узнать, или боишься расстроиться, или когда смущен, ведь подарки смущают, что за идея мне сделать подарок, говорила она, вы приводите меня в замешательство, пока Премини не сказал ей: Бантик там, с другой стороны.
Она то и дело его благодарила, не менее получаса, до аперитива, во время аперитива, после аперитива, она благодарила его так настойчиво, что Премини спросил себя: А вдруг не стоило приносить ей Бетховена? и сказал себе: Может, это ее смущает, – потом она его оставила, чтобы заняться ужином, он взял первый попавшийся на глаза журнал.
Затем пришла пигалица дочь.
Премини не ожидал увидеть ее.
Премини надеялся побыть с Сесилией наедине.
Но дочь пришла, и с этого момента она и мать не переставали добрую часть вечера, точнее, почти весь вечер, да что уж там, весь вечер – пусть с перерывами на то, чтобы поставить квартет Людвига ван – какое удовольствие, если конечно вы не предпочитаете джаз, – ему даже стало обидно, или вытащить из духовки блюдо, Премини остался на ужин, дочь тоже.
Спорить по поводу авиабилета, дочь Сесилии вернулась из Греции, с одного острова, посмотрите, она мне прислала открытку, сказала Сесилия, террасы, совершенно белые стены домов, синие крыши, но такие синие; какая же синева, красиво, произнес Премини, но Сесилия и дочь уже снова заспорили.
По поводу авиабилета, который дочь якобы оплатила дважды, агентство не переслало билет, по крайней мере, так получалось, или послало, но билет затерялся, билет ждали до самого вылета, его так и нет, тогда я купила другой, сказала дочь, мне пришлось, я ничего не могла доказать; допустим, перебила ее мать, но все же ты должна была, да я только приехала, перебила ее дочь, дай мне перевести дух.
После ужина пигалица ушла, Премини тоже. А Премини-то думал. И зря. Премини говорил себе, что Сесилия предложит остаться. Ан нет. С Бетховеном или без. Дочь вас проводит, сказала она.
Уходя, выходя, расставаясь, от Сесилии ни слова, ни взгляда. Не забудь зайти в агентство, изрекла она. Потребуй встречи с директором, слышишь? С директором. Хочешь, я пойду с тобой? Только не это, буркнула дочь. Вы где живете? Премини ей сказал где.
В машине. Кабриолет. Старый «Триумф-3». Синий, с поднятым верхом, Премини зябнет. Пигалица тут же включает радио, ищет волну, попадает на Монка. Ах, черт, это же Монк, говорит Премини. Вы слышите? Это Монк. Молчание. Он слушает. Сначала я не любил его, произносит он. Молчание. Он слушает, а затем. Однажды я видел его на концерте в Париже. Он смолкает, слушает, глядя, как проносится улица ночью, вспоминает ночной Париж, около полуночи, вспоминает Монка, затем. Делает звук громче – вы позволите? – молчит, а потом. Мы целый час просидели в зале, всё ждали его. Он пришел в стельку пьяный. Фуражка в клетку, очки «Рэй-Бен». Он не держался на табурете. Забывал о клавишах, цеплялся за рояль. Играть он не мог. Я видел его со спины, а рояль качался. Я уперся взглядом в спину ему, хотел его поддержать, не позволить упасть, и мне, смотрящему в спину ему, казалось, рояль качается. Чтобы дойти до такого, чтобы дойти до такого состояния, ему довелось хлебнуть лиха. Я сказал, он не мог играть, но он все же играл, потому что это были его темы, ему не надо было их вспоминать, они выходили сами, независимо от него, вне его, но в интерпретации необычной, пьяной. И все держалось на Чарли Роузе. Хороший тенор, Чарли Роуз. Пигалице плевать на Роуза. Вы любовник моей матери? спрашивает она. Нет, отвечает Премини. Друг? Нет, отвечает Премини. Тогда кто? Никто, отвечает Премини, это здесь. Здесь? Да, здесь.
Я зайду к вам на минутку, говорит дочь Сесилии. Мне хочется посмотреть, как там у вас. Премини хочется ответить ей: Как и раньше, как во время, как после, как вместе с, как без. Ладно, говорит он, но предупреждаю вас, что.
У Премини. А вот и прославленный сакс, восклицает дочь Сесилии, хватая альт, что раскинулся на кровати. О, тяжелый. Она ищет, куда поставить пальцы. Вот так, говорит Премини. Она дует. Он смотрит на ее большие губы. Она взяла губами мундштук саксофона, как член. Кстати, за его собственный она возьмется сразу же после. Но если эта сцена вас смущает, можно ее и убрать. Хорошо, я ее уберу. Однако она все же была. И продолжалась следующим образом.
У нее короткое платьице, без рукавов, с молнией на спине, то есть было сначала. Потом уже нет, когда легла на кровать, задрав высоко сведенные ноги. Премини взирает. В этом ракурсе как половинка персика. Но кровать слишком низкая. Он опускается на колени. Но все еще высоко. Нет, слушайте, нет, не так, так не пойдет, говорит он, так не получится, устройтесь как-нибудь по-другому или валите, ведь я ничего у вас не просил, все, с меня хватит, давайте валите.
Ой, какой же он злюка, наш маленький Базилёк, протянула пигалица, привстав. Затем, поменяв интонацию: Вот ведь дурень. Затем еще раз, поменяв интонацию: Не знаю, что моя мать в вас нашла, я нахожу вас придурковатым. Одеваясь, она рассматривает его, как бы проверяя свое утверждение. Хотя не похоже, думает она, выгибаясь, ей трудно застегнуть молнию.
Чем рассматривать, лучше бы помогли, произносит она. Премини застегивает свою, потом принимается за ее. Пигалица действительно очень мала. Ее волосы под его подбородком, пахнет приятно, подстрижены ровно, обрезаны высоко на затылке, взбиты в шар, как набалдашник, как какой-то баллон, затем челкой падают на ресницы, что ей мешает, она головой мотает, дергается точно девочка с тиком, раздражительная, гиперчувствительная, возбудимая, чересчур возбудимая, так и хочется прижать к себе эту голову, чтобы успокоить, поддержать, хочется поцеловать ее и даже хочется, чтобы она расплакалась и можно было бы слизнуть соль ее слез, а сейчас она егозит, пока Премини усердствует. Вот, говорит он, дело сделано, и разразилась буря, та, другая, настоящая, в небе, и слышно, как первые капли стучат о капоты кабриолетов.
Она расстегнута, говорит пигалица. Нет, застегнута, говорит Премини, уверяю вас. Вот, говорит он. Берет ее руку, выворачивая, заводит за спину, прикладывает ладонь. Чувствуете? спрашивает он, затем прижимает руку, поскольку она не отвечает. Вы мне делаете больно, произносит она. Высвобождается, поворачивается и с высоты своей миниатюрности бросает ему: Я говорю о крыше машины, да и машина-то не моя. Она усмехается. Это машина Филиппа, сообщает она. Вы знаете Филиппа? Нет, говорит Премини. Вы не знаете Филиппа? Нет, говорит Премини. Хотите, расскажу прикольную историю о Филиппе и его машине? Расскажете потом, говорит Премини. Итак, она не рассказывает ему, как однажды Филипп, остановившись на красный свет рядом с грузовиком, а довольствуется тем, что вспоминает об этом, улыбаясь. Премини выглядывает в окно.
Сиденья залиты водой. Премини, стоя на тротуаре, под дождем, натягивает откидной верх, удерживая его по краям. Пигалица, сидя внутри, его пристегивает. Забавно их представлять разделенными какой-то вульгарной резинкой, к тому же дырявой, у заднего окна, крест-накрест заклеенного под дождем. Вот, дело сделано. Премини наклоняется, просовывает голову внутрь машины. Сидеть вам, наверное, зябко, говорит он. Она резко включает сцепление. Премини едва успевает отпрянуть. Смотрит на нее, ухмыляясь. Задние колеса буксуют, зад синего «Триумфа-3» вихляет, включите фары, кричит ей Премини, красные фары включаются, словно она услышала, дождь усиливается, белая молния освещает всю улицу. За ней гремит гром.
1.13
Тот же вечер. Прогулка на кораблике? Она все повторяла: Прогулка на кораблике, прогулка на кораблике? Вы сказали: Прогулка на кораблике? Да, я сказал: Прогулка на кораблике, а вы не любите прогулки на кораблике?
Нет, ответила Сесилия. Ах вот как, произнес Премини, я думал доставить вам удовольствие, ну, представлял себе, я не знаю, ну, представлял себе, что вам будет приятно, ну, ладно, значит, ошибся, вообще-то, ну, короче, я стою здесь, как идиот, под дождем.
Он стоял там, как идиот, под дождем, в телефонной будке, возле дома. Он только что сплавил дочь. И тут же подумал о матери. Возможно, он прогнал дочь, потому что слишком много думал о матери. И вот бежит под дождем до телефонной будки, оттуда звонит Сесилии, и все такое, здесь угадать нетрудно, после Бетховена, что бы ей предложить? Нет, до чего ж он смешон.
У вас тоже буря? спрашивает он. Я спрашиваю потому, что она может быть здесь, у меня, но не у вас. Кстати, меня бы это не удивило. У вас никогда не бывает бури, это было бы слишком красиво. Что вы сказали? спохватывается Сесилия.
Она устроилась на кровати с Вилли Шекспиром, «Виндзорские насмешницы», весьма забавно, потом почитает «Как вам это понравится», подоткнув подушку под спину, спокойно, у лампы, прильнувшей к радиобудильнику, настроенному на «Франс Мюзик», в джазовый час, почему бы и нет? Она подумает о нем, немного, чуть-чуть, лишь чтобы осознать, что она думает о нем, а он думает о ней, это ведь совершенно безвредно, так чувствуешь себя не такой одинокой, затем вновь погрузится в «Как вам это понравится» и неминуемо натолкнется на знаменитую реплику, говоря себе: Хм, я и забыла, что это отсюда. Я спрашиваю: У вас тоже буря?
Да-да, здесь тоже, отвечает Сесилия, бушует, вы слышите? Да-да, слышу, говорит Премини, но слышу скорее, что бушует здесь, как я, по-вашему, могу слышать, что бушует у вас там? Хотя да, может бушевать и у вас, но не в то же самое время, молния у меня, гром у вас. Что? спрашивает Сесилия.
Ладно, значит, вы не хотите приехать, говорит Премини, вам явно это не доставляет удовольствия. Да нет же, это доставляет мне удовольствие, мой милый Базиль, отвечает Сесилия. Ах вот как, значит, приедете? Нет, я хочу лишь сказать, мне доставляет удовольствие то, что вы мне предлагаете это, отвечает Сесилия.
Это все начинает Премини доставать. Это доставляет ей удовольствие или не доставляет удовольствия. Если ей приятно, что я предлагаю, то ей должно быть приятно и принять мое предложение. Иначе какая-то фигня получается. Вот ведь манера. Скорее она не хочет светиться. Ее смущает, что могут подумать. Ну и пусть.
Вы хотя бы уже плавали? спрашивает он. Нет, отвечает Сесилия. Хотя да, но очень давно, мне было сколько? семнадцать, подруга постарше подбила ее провести запоздалые каникулы, в начале октября, с каким-то франко-английским клубом путешествий, судно отходит от пристани, гавань отдаляется, город, земля, одиночество в море, белый след, под ней глубина, вода, вся эта вода, повсюду, она испытывает огромное облегчение, когда встречается другое судно; к счастью, суда плывут не так быстро, и вы успеваете посмотреть, как проплываете мимо, безмолвно крикнуть: Эй, понадеяться на спасение душ и даже поймать себя на мысли, что подаете знаки, не пошевелив при этом даже мизинцем, который даже не вздрогнул, гостиница была почти пустой, абсолютное одиночество на пляже, ветер с песком, желание всунуть в себя два пальца и выть, вечера на террасе, единственный англичанин, который ей нравился, надирался пастисом «Казанис», вдрызг пьяный танцевал в одиночку, к перилам спиной, в итоге все же свалился, на следующий день уплывали обратно, ночью, приличных кушеток не было вовсе, только пластмасса, я заснула, прижавшись щекой, а проснувшись, обнаружила, что половина лица вся в прыщах, кстати, в субботу утром, невероятно, надо вызвать кого-то почистить ковер, он вроде бы чистый, но как-то я отодвинула кресло, и когда увидела цвет, я имею в виду, изначальный цвет ковра, я сказала себе, это просто невероятно, неужели у меня такая грязь, алло?
Сейчас отключится, говорит Премини, у меня больше нет монет. Ладно, давайте. Пристань, в одиннадцать. Вы слышите? Я буду вас ждать. Придете или же нет, как хотите, мне плевать. Нет, не в воскресенье. В воскресенье я в монастыре.
1.14
Ту-у-у-ту-у-у, гудит туманный горн теплохода. Тумана нет, ясно, солнечно, жарко. Одиннадцать часов утра. Лопасти теплохода бьют по воде, как лапы собаки, большой собаки, сорок метров в длину, два мотора в пятьсот лошадиных сил, остальное вывешено на ограде у входа на дебаркадер, название, год постройки, количество пассажиров – в общем, все.
Ту-у-ут, врет теплоход, еще приближаясь, весь белый, нет, труба коричневая, чуть скошена, градусов десять, над кормой реет красный флаг, нет, не пугайтесь, с белым крестом, трогательный, напоминает не помню какой австрийско-немецкий роман, где рассказывается о любви и туберкулезе, побочно о мире, прогнившем до мозга костей, рассмотрим-ка лучше теплоход, что прибывает к нам из-за деревьев.
Он приближается медленно.
Низкое глухое гуденье, как на иллюстрациях Дюфи.
Разноцветная кучка людей сидит на носу, на открытом воздухе, на солнце.
Наверху, на уровне верхней палубы, где щеголяют пассажиры первого класса, капитан, расфуфыренный словно англичанин в летнем костюме, осуществляет маневр тютелька в тютельку.
Длинное белое судно, как на картинке, подбирается к малой пристани, так, чтобы встать у трапа, чуть промахивается, еще попытка, задний ход, полегче, – вода, противясь, противореча, бурлит, – и вот, скрипя, уже подбирается, пристает к дебаркадеру.
Этот тип управляет своей махиной, надо видеть, лучше, чем я своим грузовиком, думает Премини, и сравнение его раздражает. Он подумал – грузовиком, а не музыкой. Он предпочел бы думать, сравнивая джаз и навигацию. Например, я хотел бы играть на саксе так же хорошо, как этот тип ведет свою посудину. Это правильно. С тех пор как он устроился работать, у него появилось ощущение, что он забывает джаз. Хотя это ведь всего лишь ощущение. Хотя оно ощутимо вовсе не всего лишь, и от таких ощущений в голову быстро лезут поганые мысли, и вот оно, доказательство: мысленно сравнил с грузовиком. Конечно, он может уверять себя, что поступает так ради куска хлеба, но мысль о запахе возвращается. Каждый вечер он отмывается как ненормальный, намывается как невротик, перемывается почем зря. Он спрашивает себя, чувствует ли Сесилия этот запах дерьма от него, даже в метре от, а чаще всего в двух.
Когда он приближается, она отдаляется, так уж лучше быть в метре от, это всяк лучше, чем вдали от, впрочем, не так уж это и далеко, только кажется, что далеко, а на самом деле совсем и не далеко, даже довольно близко, в добром метре от, дальше она не отходит, это даже хорошо – быть далеко и в то же время недалеко.
В сером, как обычно, вся в сером, застегнута до подбородка. Премини предпочитает платьица в цветочек с декольте, зияющим, когда девушки наклоняются. Но Сесилия – нет. Для женщины она очень высокая, очень чинная, очень элегантная, очень всё-всё, совсем не сексуальная, правда с безумным очарованием, которое идет от чего-то, чего, Премини так и не понял. Он спрашивает себя, почему она с ним. Он ниже нее. Всегда так далек от.
Как-то вечером он осмелился положить свою руку на, или, точнее, притронулся к ее левой руке. И что? Ах, да ну его на фиг. Нет уж, нет, ты скажи нам, что произошло. Ничего. Она отдернулась, как трепетный зверь, пружина, клубок нервов, кошка, которая наступает на большую осу и высоко отпрыгивает. Что дальше? Ничего, он оставил ее, ушел, у него была встреча в баре Фернана. С кем? С ударником, которого он знал по имени, понаслышке, он знал, что тот играл в знаменитом, даже очень знаменитом оркестре, встреча была важной, Фернан все устроил, поговорил с ударником, наверное, сказал ему много хорошего о Премини, потому что ударник, едва Базиль пришел, сразу, запросто, не послушав его, предложил поехать с ними в турне на шесть месяцев в Африку, это не Америка, это лучше Америки, но Премини. Что, Премини? Кто знает, что произошло. Я знаю, что произошло. Все очень просто. Просто глупо. Очень глупо. Хоть пощечин себе надавай. В его голове засела Сесилия, в правой руке он держал левую руку Сесилии, он сказал: Нет, сожалею, у меня жена, я не могу ее оставить. Да ты что, опешил Фернан. Фернан уставился на него, как он сам сейчас смотрит на Сесилию.
Ее глаза закрыты, голова чуть наклонена, откинута, она впитывает солнечное тепло, слегка прислонясь к перилам дебаркадера. Премини хочет приблизиться. Нет, бесполезно. Он все же приближается, ненамного, видит, что Сесилия вовсе не прислонялась, ее спина не касается перил, и глаза ее не закрыты. Прищурив веки, она смотрит на то, как люди сходят на берег.
Вот и наша очередь, говорит Премини. Вам не страшно? Они обращаются друг к другу на «вы», это прекрасно. Пока они будут обращаться друг к другу на «вы». Нет, отвечает Сесилия, а вам? Ну и ну, она улыбается. Немного, говорит Премини, воображая кораблекрушение, спасение, он плывет к ней, хватает ее под мышки, невольно трогает груди, как Джеймс Стюарт трогает груди Ким Новак в «Головокружении». Да, знаю, я зауряден. С чего вы взяли? спрашивает Сесилия. Ни с чего, отвечает Премини, ни с чего. Пошли? Они идут на посадку.
Он сторонится, это нетрудно. Она идет по сходням впереди него. Он следует за ней метрах в двух. Слишком близко, чтобы хорошо рассмотреть. Ему хотелось бы отойти назад, остановиться и наблюдать, как она удаляется, созерцать ее элегантность. Он медлит, одной ногой ступив на сходни, останавливается, отступает. Служащий Г. Н. К. глядит на него, Сесилия оборачивается, будто ищет запах дерьма, что несет ее кавалер, с которым она носится, – а почему? и что она в нем нашла, не считая саксофона, что болтается на животе, его голову, забитую музыкой, что идет из нутра, поднимается в голову и выходит через нутро и так далее по кругу? Вы идете? спрашивает она.
Да-да, отвечает Премини, и, отвечая свое «да-да», он попадает снова на звуковую дорожку «да-да», которая в тот день напомнила ему начало одной части одного из квартетов в посвящение Разумовскому. У него это был единственный комплект пластинок классической музыки. Он купил его подержанным из любопытства, а особенно из-за привлекательной цены. Послушал. Открыл спокойную красоту, на первый взгляд спокойную, это его потрясло, так потрясло, что он чуть не забросил любимый би-боп. Даже слушать их боялся, эти пластинки. Убрал подальше от глаз, ну это нетрудно, у него ведь так тесно, коробка большая, четыре пластинки, нет, три, ну, не важно, все равно на виду, она у него всегда на виду, он мог бы спрятать ее под кровать, но в итоге сказал себе: Подарю Сесилии.