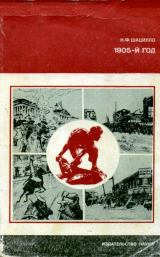
Текст книги "1905-й год"
Автор книги: Корнелий Шацилло
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 13 страниц)
8 января Петербургский комитет обратился со специальной листовкой «К солдатам», призывая их не стрелять в народ. «Солдаты! – писалось в ней. – В воскресение народ пойдет к царю требовать свободы. Но царь не хочет давать свободы и пошлет вас с ружьями и пушками против народа. Он прикажет вам стрелять в народ. Он может приказать вам бить стачечников. Отказывайтесь стрелять и бить ваших братьев, не слушайтесь офицеров, переходите на нашу сторону. Солдаты, идемте вместе с нами за свободу!»{65}.
Пыталась предотвратить кровопролитие и демократическая интеллигенция столицы. Она избрала специальную делегацию, в состав которой вошел и великий пролетарский писатель М. Горький. Министр внутренних дел Святополк-Мирский делегацию не принял. Он в это время был на совещании правительства, где решался вопрос о том, «как поступить завтра с рабочими»{66}. Вышедший к делегации заместитель министра многозначительно заявил: «Правительство знает, что нужно ему делать, и не допустит вмешательства частных лиц в его распоряжения»{67}.
Делегация отправилась к председателю кабинета министров С. Ю. Витте. Выслушав ее, последний высокомерно ответил: «Мнение правящих сфер непримиримо расходится с вашим, господа…». Горький решительно перебил Витте: «Вот мы и предлагаем довести до сведения сфер, что, если завтра прольется кровь, – они дорого заплатят за это!..»{68}.
Все было тщетно.
В ночь на 9 января состоялось нелегальное заседание Петербургского комитета РСДРП. На нем было решено участвовать в воскресном шествии (поскольку предотвратить его не удалось), чтобы не оставлять рабочих без революционных руководителей. В рабочие районы, где гапоновцы с утра собирались формировать колонны манифестантов, направились специальные группы, составленные из знаменосца, агитатора и ядра, их защищавшего. В подходящий момент агитатору поручалось выступить перед рабочими массами, а знаменосцу поднять красный флаг. Подобные же решения приняли районные партийные организации Петербурга. Все члены партии обязывались к 6 часам утра 9 января быть среди заводских колони, направлявшихся к Зимнему дворцу.
В ночь на 9 января многие не спали. В рабочих кварталах шли последние приготовления к торжественному шествию: женщины доставали из сундуков праздничные наряды, мужчины начищали сапоги, готовили чистые рубашки. Для мирно спавших ребятишек в свежие платки заворачивались гостинцы: путь от рабочих окраин до дворца был неблизким.
Не спало и войско. У мостов через Неву, на ключевых перекрестках, на прямых улицах, лучами сходившихся в центре города, стояли шеренги солдат. Им выдали увеличенные запасы боевых патронов, от мороза и для храбрости поднесли по «царской чарке».
Ранним серым утром в воскресенье 9 января столица империи Романовых имела необычный вид. За 200 лег своего существования улицы Петербурга видели и слышали многое: парады гвардии и восстание декабристов, взрывы бомб, сокрушавших царя и его министров, цокот копыт казачьих копей и свист нагаек, опускавшихся на плечи и головы российских подданных. Но такое случилось впервые: более ста тысяч рабочих, их жен и детей, отслужив в районных отделах гапоновскпх обществ торжественные молебны, строгими чинными колоннами двинулись с заводских окраин в центр, к Дворцовой площади. Чопорные аристократические районы города разбудило пение священных псалмов и «Боже, царя храни!».
Впереди колонн шли священники в праздничных рясах, несли хоругви, иконы, портреты царя, царицы и лиц царствующего дома.
Максим Горький весь день 9 января провел на улицах Петербурга. Вот что писал он о том, как начиналось это воскресенье. «Вера приходила, обнимала людей, возбуждала их, заглушая тихий шепот сомнений… Люди торопились поддаться давно жданному настроению, стискивали друг друга в огромный ком единодушных тел, и плотность, близость плеч и боков согревала сердца теплой уверенностью, надеждой на успех.
– Не надо нам красных флагов! – кричал лысый человек. Размахивая шапкой, он шел во главе толпы, и его голый череп тускло блестел, качался в глазах людей, притягивая к себе их внимание.
– Мы к отцу идем!
– Не даст в обиду!
– Красный цвет – цвет нашей крови, товарищи! – упрямо звучал над толпой одинокий, звонкий голос.
– Нет силы, которая освободит народ, кроме силы самого народа.
– Не надо!
– Смутьяны, черти!
– Отец Гапон – с крестом, а он – с флагом.
– Молодой еще, а тоже, чтобы командовать…
Наименее уверовавшие шли в глубине толпы и оттуда раздраженно и тревожно кричали:
– Гони его, который с флагом!..
Теперь двигались быстро, без колебаний и с каждым шагом все более глубоко заражали друг друга единством настроения, хмелем самообмана. Только что созданный, «он» настойчиво будил в памяти старые тени добрых героев – отзвуки сказок, слышанных в детстве, и, насыщаясь живою силой желания людей веровать, безудержно рос в их воображении…
Кто-то кричал:
– «Он» нас любит!..
И несомненно, что масса людей искренне верила в эту любовь существа, ею же только что созданного»{69}.
Петицию, подписанную десятками тысяч рабочих, нес Георгий Гапон. И сейчас, по прошествии 75 лет, нельзя без волнения читать этот документ, созданный доведенными до отчаяния людьми, не понимавшими еще, как найти выход из своего положения, где искать правду. Они искренне верили, что найти ее можно у царя: ведь нм столько раз говорили в церквах и гапоновских обществах, что он их главный заступник и радетель, что «нет власти аще от бога».
«Государь! Мы, рабочие и жители города С.-Петербурга разных сословии, наши жены и дети и беспомощные старцы-родители, пришли к тебе, государь, искать правды и защиты. Мы обнищали, нас угнетают, обременяют непосильным трудом, над нами надругаются, в нас не признают люден, к мам относятся, как к рабам, которые должны терпеть свою участь и молчать. Мы и терпели, по нас толкают все дальше в омут нищеты, бесправия и невежества, нас душат деспотизм и произвол, и мы задыхаемся. Нет больше сил, государь. Настал предел терпению. Для нас пришел тот страшный момент, когда лучше смерть, чем продолжение невыносимых мук…
Государь, нас здесь многие тысячи, и все это люди только по виду, только по наружности, – в действительности же за нами, равно как и за всем русским народом, не признают ни одного человеческого права, ни даже права говорить, думать, собираться, обсуждать нужды, принимать меры к улучшению нашего положения. Нас поработили, и поработили под покровительством твоих чиновников, с их помощью, при их содействии. Всякого из нас, кто осмелится поднять голос в защиту интересов рабочего класса и народа, бросают в тюрьму, отправляют в ссылку. Карают, как за преступление, за доброе сердце, за отзывчивую душу. Пожалеть забитого, бесправного, измученного человека – значит совершить тяжкое преступление. Весь народ рабочий и крестьяне отданы на произвол чиновничьего правительства, состоящего из казнокрадов и грабителей, совершенно не только не заботящегося об интересах народа, но попирающего эти интересы. Чиновничье правительство довело страну до полного разорения, навлекло на нее позорную воину и все дальше ведет Россию к гибели»{70}.
После главного требования – Учредительного собрания, избранного на основе «всеобщей, тайной и равной подачи» голосов, в петиции выдвигались частные требования троякого рода: 1) принять меры против невежества и бесправия русского народа (амнистия, политические свободы, бесплатное обязательное народное образование);
2) принять меры против нищеты народной (замена косвенных налогов прямыми, прекращение выкупных платежей, передача земли народу, прекращение войны);
3) принять меры против гнета капитала над трудом (8-часовой рабочий день, повышение заработной платы, свобода профсоюзов, стачечной борьбы и др.).
Кончалась петиция словами, в которых слышалась не только мольба, но и угроза. «Вот, государь, наши главные нужды, с которыми мы пришли к тебе… Повели и поклянись исполнить их, и ты сделаешь Россию и счастливой и славной, а имя твое запечатлеешь в сердцах наших и наших потомков на вечные времена, а не повелишь, не отзовешься на нашу мольбу, – мы умрем здесь, на этой площади, перед твоим дворцом. Нам некуда больше идти и незачем. У нас только два пути: или к свободе и счастью, или в могилу. Пусть наша жизнь будет жертвой для исстрадавшейся России. Нам не жаль этой жертвы, мы охотно приносим ее»{71}.
Царь, после Ходынской катастрофы получивший прозвище Николая Кровавого, сделал за рабочих свой выбор – в могилу! Затрещали ружейные залпы, на мечущихся людей из засад рванулись храпящие кони и пьяные казаки. Около тысячи убитых и несколько тысяч раненых – такова была кровавая цена, заплаченная питерскими рабочими за урок политической грамоты, преподанный русский самодержавием.
Одной из первых подверглась нападению многотысячная колонна рабочих Нарвского района. Во главе ее шел Гапон и группа стариков путиловцев с непокрытыми головами. В руках они несли иконы, хоругви. Перед колонной, тоже с непокрытыми головами, шли полицейские: помощник пристава и околоточный. Они предупредительно останавливали встречные конкн и экипажи, чтобы те пропустили вперед крестный ход.
Но около Нарвских ворот на колонну во весь опор помчался отряд кавалеристов. Рабочие расступились, пропустив его, а затем сомкнули свои ряды и пошли дальше. И вдруг совершенно неожиданно пение псалмов и молитв было прервано треском солдатских залпов. «Что вы делаете? – закричал помощник пристава полковнику, командовавшему солдатами. – Как можно стрелять в крестный ход и портрет царя?»{72} Но полковник хорошо знал, как можно стрелять. Залп следовал за залпом – пять раз. Стреляли в убегавших людей, в стоявших на коленях, в лежавших на мостовой… Даже помощник пристава получил две пули в грудь, а околоточный свалился замертво с пробитой головой. Может быть, этот незначительный эпизод ярче всего демонстрирует провокационный характер Кровавого воскресенья: одни царевы слуги организовали шествие и возглавляли его, а другие в упор стреляли по хорошо «организованным» целям.
Наконец-то после жестоких поражений в русско-японской войне царские генералы одержали «блистательную победу». На белом снегу в алых лужах крови безмолвно лежали десятки убитых, стонали раненые, тут же, как бесстрастно констатировала «Записка министра юстиции», валялись брошенные «хоругви, портреты его величества, епитрахиль и риза»{73}. Только среди рабочих Путиловского завода, шедших в этой колонне, оказалось 45 убитых (в том числе две женщины и мальчик) и 61 раненый. Однако поп-провокатор Гапон уцелел. Он шмыгнул за забор, сбрил бороду, сбросил рясу и скрылся. Через год, окончательно разоблаченный рабочими как наемный агент охранки, Гапон был приговорен ими к смертной казни и повешен в марте 1906 г. на даче под Петербургом.
9 января войска стреляли везде. По официальным сведениям директора департамента полиции, «произведены были залпы на Шлиссельбургском тракте, у Нарвских ворот, близ Троицкого моста, на 4 линии и Малом проспекте Васильевского острова, у Александровского сада, на углу Невского проспекта и улицы Гоголя, у Полицейского моста и на Казанской площади»{74}.
В газете большевиков «Вперед» была помещена статья одного из свидетелей событии на Дворцовой площади. «Я был между первыми в первой группе не с целью пробраться до дворца, ибо это, по-моему, не могло быть без побоища, а у нас ни у одного даже палки нет, – но из желания видеть собственными глазами и убедить легковерных, ибо такая тактика лучше всякой критики. Все-таки я не мог предвидеть того, что затем последовало. Городовые не мешали, а улыбались, что передавалось и рабочим. По дороге на самом деле многие присоединились. Дошли до Троицкого парка, и так как у моста была расставлена пехота, то подождали вторую группу. Двинулись вместе. К одному взводу пеших солдат подошел и другой. Дорога была загорожена. Решив, что солдаты, взявшие уже «наперевес», не пропустят наб, а штуками разгонят, я стал отходить от панели и по тропинке хотел пробраться к Кронверкскому проспекту, чтобы дойти кругом на Дворцовую площадь; не успел я отойти от панели, как послышался рожок, и моментально последовали два залпа боевыми патронами. Мимо моих ушей просвистело несколько путь, и я увидел перед собой несколько лиц, копошащихся в снегу. Я, растерявшись, не сообразил, в чем дело, и лишь сочащаяся кровь привела меня к сознанию. Тут, у моих ног лежала одна барышня, по виду интеллигентная, с лицом, утопающим в крови. Пуля ей попала в лоб и вышла в другую сторону, но не глубоко. Ее уложили на извозчика и отправили в больницу с двумя знакомыми.
Убито у нас 6 человек на месте и около 30 раненых. За последнюю цифру не ручаюсь (говорят, даже около 50), но с убитыми сам возился и знаю… Предупреждений никаких со стороны воинского начальства не было, несмотря на то, что у них было около двух эскадронов кирасирского (из Царского села) полка. Стрелял в нас Семеновский полк. Часть раненых перевязана в Народном доме. Какими пулями стреляли, можете видеть из того, что одна пуля попала в голову делопроизводителя Александровского лицея, что на Каменноостровском проспекте, стоявшему у ворот лицея, и на месте уложила его.
По окончании уборки убитых и раненых я отправился на Невский и Дворцовую. Дворцовая площадь была оцеплена со всех сторон кавалерией, а на самой площади стояли павловцы – пехота. Публики на Невском было очень много – панели (полны) заняты густо. (На Петербургской нас было четыре-пять тысяч.) «Публики», можно сказать, и не было совсем, а лишь демонстранты. Я пробрался на Дворцовую площадь. Кавалерия лошадьми и шашками разгоняла демонстрантов, но освободившееся от солдат место, сейчас занималось демонстрантами. Ругали солдат и офицеров на чем свет стоит. Иронически кричали «ура!». Александровский парк был заперт вместе с публикой, и многие демонстранты перелезали решетки и оттуда кричали на солдат. Многие сидели пл решетке (удобно в том отношении, что кавалерия не может достать до них). Я попробовал туда попасть, но не мог взобраться. Пришлось под напором лошадей идти на Невский. Немного погодя послышался тоже рожок, и павловцы вместе с кавалерией дали три залпа по рабочим в парке. Последствия были ужасны. Многие из убитых, сидевших на решетке, зацепившись брюками за гвозди от решеток, так висели в воздухе. Другие валялись убитыми и ранеными. Перевязывать их некому было и убирать их тоже невозможно – сад закрыт.
Нас стали тоже сильно теснить, и я очутился у Красного моста. Убитых увозили обыкновенно знакомые. Видел даму, по виду торговку, убитую на извозчике: ноги висели в воздухе и по дороге потеряли один валенок. Скоро увезли убитого студента и рабочего. Рабочего взяли на руки и (носили) несли до Мойки на руках. Публика снимала шапки и кричала «Ура!», «Долой деспотизм!» и др. От смирения тут уже ничего не осталось»{75}.
«Ты прочтешь удивительные вещи, но верь им, это факты, – писал жене очевидец и участник событий Максим Горький. – Сегодня с утра, одновременно с одиннадцати мест, рабочие Петербурга в количестве 150 т. двинулись к Зимнему дворцу… у Нарвской заставы войска встретили их девятью залпами, – в больнице раненых 93 чел., сколько убитых – неизвестно, сколько развезено по квартирам – тоже неизвестно. После первых залпов некоторые из рабочих крикнули было: «Не бойся, холостые!», но люди, с десяток, – уже валялись на земле. Тогда легли и передние ряды, а задние, дрогнув, начали расходиться. По ним и по лежавшим, когда они пытались встать и уйти, – дали еще шесть залпов… у Троицкого моста расстреляли без предупреждения, – два залпа, упало человек 60, лично я видел 14 раненых – 5 женщин, в том числе и 3-х убитых… Зимний дворец и площадь перед ним были оцеплены войсками, их не хватало, вывели на улицу даже морской экипаж, выписали из Пскова полк. Вокруг войск и дворца собралось до 60 т. рабочих и публики, сначала все шло мирно, затем кавалерия обнажила шашки и начала рубить. Стреляли даже на Невском. На моих глазах кто-то из толпы, разбегавшейся от конницы, упал, – конный солдат с седла выстрелил в него. Рубили на Полицейском мосту – вообще сражение было грандиознее многих маньчжурских и – гораздо удачнее. Сейчас по отделам насчитали до 600 раненых и убитых – это только вне Питера, на заставах. Преувеличение в этом едва ли есть, говорю как очевидец бойни. Рабочие проявляли сегодня много героизма, во это пока еще героизм жертв. Они становились под ружья, раскрывали груди и кричали: «Пали! Все равно – жить нельзя!» В них налили. Бастуют все, кроме конок, булочных и электрической станции, которая охраняется войсками. Но вся Петербургская сторона во мраке – перерезаны провода. Настроение – растет, престиж царя здесь убит – вот значение дня»{76}.
«Толпа медленно, но неуклонно изменялась, перерождаясь в народ», – подвел итоги Максим Горький{77}.
«К оружию, товарищи!»
После первых же выстрелов начало происходить то, что власти на своем официальном языке назвали позже эксцессами. «Озлобление и возмущение массы достигло высшего предела. Толпа заняла буквально все соседние места Невского и Гоголевской улицы, избивая без пощады всех военных, которые проезжали на санях. Я видел, как толпа до крови избила двух жандармских офицеров и двух артиллерийских прапорщиков. У одного отняли саблю и сорвали эполеты, другому удалось спастись бегством. Толпа напала на одного пехотного офицера, на одного гвардейца и тоже отняла у него саблю. Пожилой генерал был ранен бутылкой в лоб, эполеты были с него сорваны, фуражка при криках «ура!» отброшена. Побили одного морского капитана. Все это происходило вблизи от войска, которое ничего не могло поделать. На Невском, недалеко от Морской, толпа составила без всякой подготовки большое народное собрание. Я слышал две пламенные речи. Одна заканчивалась кликом: «Долой самодержавие!» – кликом, который толпа подхватила с энтузиазмом. Другая речь закончена была призывом: К оружию! Толпа встретила и этот призыв с большим сочувствием»{78}.
Вот когда сыграла роль дальновидность большевиков. Заранее подготовленные и выделенные агитаторы, окруженные теперь внимательно слушающими их людьми, делали все, чтобы не дать вылиться гневу народа в акты индивидуального террора вроде избиения отдельных офицеров, а направить его в русло сознательной революционной борьбы против самодержавия.
Во второй половине дня 9 января в целом ряде мест столицы царские власти столкнулись уже с организованными революционными действиями. На Васильевском острове рабочие захватили одну частную типографию и отпечатали в ней несколько сотен листовок с призывом к революции. «К оружию, товарищи, – писалось в ней, – захватывайте арсеналы, оружейные склады и оружейные магазины… Свергнем царское правительство, поставим свое. Да здравствует революция, да здравствует учредительное собрание народных представителей!»{79}
В. И. Ленин оценил этот призыв как «замечательный, смелый практический приступ к решению задачи, стоящей теперь вплотную перед нами»{80}.
На Васильевском острове толпа, возглавляемая революционерами, захватила оружейную мастерскую Шаффа и имевшееся там холодное оружие. Около двухсот человек напали на управление второго участка Васильевской части и разгромили полицейское гнездо. Началось строительство баррикад. В ход пошло все – спиленные столбы, перевернутые тумбы для афиш, из дворов несли рухлядь, снимали с петель ворота и калитки.
Начальник петербургской охранки, сообщая о подобных фактах, отметил, что под руководством социал-демократов рабочие действовали очень организованно: пока шло печатание прокламаций, у захваченной типографии стояла вооруженная охрана, «затем печатавшие прокламации удалились и разбросали их по улице, толпа же, ожидавшая их у ворот, после раздачи прокламаций принялась подпиливать телефонные столбы и из их проволоки и подручного материала, вытаскиваемого со дворов соседних домов, устраивать баррикады…»{81}.
Баррикады поднялись не только на 5-й линии Васильевского острова, где была расположена захваченная типография, но и в целом ряде других мест. Ротмистр лейб-гвардии Уланского полка доносил: «…за Средним проспектом выросла баррикада с красным знаменем посередине… Толпа держится впереди баррикады, составленной из телефонных столбов и телеграфной проволоки, натянутой поперек улицы в несколько рядов… Роты после уничтожения проволочного заграждения дали несколько залпов по баррикаде и занялись разборкой ее… Между линиями 4—5-й и 2—3-й (Васильевского острова, – К. Ш.), по которой шел полуэскадрон, устроена баррикада… Дальнейшее движение по Малому проспекту совершалось очень медленно, так как на каждом шагу встречались наваленные телефонные столбы с массой перепутанной проволоки, перевод через которую лошадей требовал много времени. Во время движения слышались крики и ругань из окон и из подворотен проходимых домов. Около 12-й линии, ввиду демонстративных действий из-за встреченной баррикады, головной ротой было дано 2 или 3 залпа и несколько одиночных выстрелов»{82}и т. д. и т. п.
По далеко не полным подсчетам на Васильевском острове было сооружено 12 баррикад. Возникали они и в самом центре города, на Невском проспекте. Здесь из скамеек и тумб для афиш народ построил баррикаду, перегородившую главный проспект столицы Российской империи.
До позднего вечера топтались на своих постах замерзшие каратели. На ночь их отвели в казармы, но всем было ясно, что события прошедшего дня будут иметь далеко идущие последствия. Еще четверо суток солдат выводили на улицы и площади.
Всю ночь на 10 января в разных местах города мерно гудели печатные станки. Революционеры размножали в тысячах экземпляров прокламации, объяснявшие народу, кто виноват во всем происшедшем. На утро на заборах, на воротах, а то и прямо на стенах домов и домишек в рабочих районах белели листовки большевиков. Каждое обращение Петербургского комитета РСДРП имело точный адрес. Одна листовка называлась «К рабочим». «Товарищи! Вы убедились теперь, что просить царя и его правительство о правах и справедливости бесполезно, – говорилось в ней. – Царь залил нашей кровью улицы Петербурга. Товарищи, с оружием в руках примыкайте к Российской социал-демократической рабочей партия, к ее Петербургскому комитету…» Большевики призывали рабочих ко всеобщей стачке, к революции во имя установления политических свобод и улучшения экономических условий жизни пролетариата.
Вторая листовка Петербургского комитета РСДРП была озаглавлена коротко, но многозначительно: «Ко всем». Напомнив о том, что произошло накануне, большевики звали весь народ включиться в революционную борьбу; «Оружие во что бы то ни стало! Только силой и кровью добывается свобода и справедливость. Где можно и надо загородить путь войскам, стройте баррикады из чего возможно: из телеграфных и фонарных столбов, экипажей, мебели соседних домов, разбирайте для этого стены, берите все, что под рукой. Кровь польется рекой. Но, товарищи, – напоминали большевики, – насколько больше ее льется на холодных полях Маньчжурии, а разве та кровь ваших братьев несет вам свободу и лучшее будущее? Нет, даром гибнут ваши братья. А здесь вы знаете, что боретесь не даром. Каждая пролитая капля вашей крови приближает день свободы»{83}.
Третья листовка была обращена «К солдатам». «Кого убивали вы? – спрашивали большевики. – Тех, которые шли к царю требовать свободы и лучшей жизни – свободы и лучшей жизни для себя и для вас, для ваших отцов и братьев, для ваших жен и матерей!.. Отказывайтесь стрелять в народ! Переходите на нашу сторону! Пойдемте вместо дружными рядами против наших врагов!»{84}.
Конечно, весь народ еще не мог подняться на борьбу с самодержавием, для этого нужно было и время и оружие, но негодование по поводу кровавых действий правительства росло среди самых широких демократических слоев.
Вечером 9 января в здании Вольного экономического общества состоялось многолюдное собрание столичной интеллигенции. Оно решительно осудило действия правительства, заклеймило офицеров-карателей и призвало войско не стрелять в народ. Здесь же начался сбор средств на раненых и для семей убитых рабочих. По рядам ходили и специальные кружки с надписью «На оружие».
Вечером 10 января после первого действия в Александрийском театре самая, казалось бы, благонамеренная публика устроила митинг протеста. «Во время антракта, – сообщалось в специальной «Записке» министерства юстиции, – неизвестный мужчина, назвавшийся членом Вольно-Экономического общества, поднялся со своего места в партере и обратился к публике с речью, в которой сообщил события дня, указал на число убитых и раненых во время происходивших беспорядков и в заключение выразил убеждение, что теперь время траура, а не веселья и что кто останется в театре, тот бесчестный человек»{85}. После выступлений еще нескольких ораторов публика покинула театр, выкрикивая антиправительственные лозунги.
Не прекращал активную борьбу пролетариат – гегемон революции. «Революция встала на ноги, – писал В. И. Ленин, – когда выступил городской рабочий класс 9-го января»{86}.
Первые дни после расстрела стачка в Петербурге была всеобщей: не работал ни один завод. «…В течение трех дней IV, 11 и 12 января, – доносил царю 16 января министр финансов, – стачка держалась на одном уровне; часть рабочих отказывалась становиться на работу, заявляя свои требования, другая же часть уклонялась от работ без всякого заявления своих желаний. С вечера 13 января в рабочей среде начало проявляться некоторое успокоение, которое еще яснее выразилось 14 и 15 января… Наиболее упорными оказались рабочие фабрик и заводов Выборгской стороны, в эти дни не приступило к работам ни одно крупное промышленное заведение»{87}? И через неделю после расстрела, 17 января, в столице бастовало 43 тыс. фабрично-заводских рабочих, не считая пролетариев, занятых на мелких полукустарных и кустарных предприятиях.
Министр финансов Коковцов не случайно жаловался царю на упорство рабочих именно крупных предприятий. Здесь влияние социал-демократов и организованность рабочих были наибольшими. В это время в Петербурге рабочие говорили: «Медведь стал, медвежата остановятся», имея в виду ведущую роль многотысячного коллектива Путиловского завода. За два первых месяца 1905 г. пути-ловцы полностью не работали с 3 по 17 января, с 28 января по 7 февраля, 11 февраля, с 21 февраля до конца месяца, т. е. 30 дней. Как правило, и остальные дни не были спокойными: волнения охватывали то одну, то другую мастерскую завода.
И так было в январе – феврале не только на Путиловском заводе, но и на всех крупнейших предприятиях Петербурга. Общее настроение рабочих столицы отчетливо выразили обуховцы.
Начальник крупнейшего казенного Обуховского завода, занятого производством вооружения для армии и флота, обратился к забастовавшим со специальным «Объявлением». Льстя рабочим, он назвал их хотя и не вполне сознательными, но честными людьми и патриотами. Во имя «веры, царя и отечества» начальник завода призывал забастовщиков возвратиться к станкам и работать на «оборону». В ответ рабочие с достоинством писали: «…объявления, подобные вывешенному Вами, мы, как честные люди, предлагаем впредь не вывешивать, да поменьше упоминать бога, изображение которого у нас расстреляли по распоряжению начальства девятого числа. Толковать же о воине с Японией в настоящий исторический момент, даже с людьми не вполне сознательными, совершенно излишне. Мы, рабочие, как Вы сами можете наблюдать, решили теперь биться до последней капли крови, до последнего издыхания, что ярко показывают текущие события»{88}.
Свидетельством резко возросшей сознательности рабочих был и рост социал-демократической партии. За два первых месяца 1905 г. количество социал-демократических кружков в четырех районах Петербурга возросло с 8—11 до 104, а число членов партии в них с 95 до 732 человек. Выросли и другие революционные партии. Это говорило о серьезных изменениях, происшедших в настроении самых широких слоев населения Петербурга.
Спад январско-февральского всплеска стачечной волны в столице происходил медленно, постепенно. Но даже когда в марте – апреле внешне все стало относительно спокойным, внутри, в недрах питерского пролетариата, шли необратимые процессы. Никто не верил, что положение стабилизируется, все были убеждены в неизбежности новых революционных взрывов в самое ближайшее время.
Эхо воскресных залпов
Эти взрывы зрели не только в столице. Залпы 9 января, прогремевшие в Петербурге, услышала вся страна.
На другой день после расстрела Московский комитет РСДРП выпустил листовку «К рабочим». Рассказав о том, что произошло в Петербурге, большевики писали: «Как вы сами теперь видите, мирным путем ничего но добьешься, – так выходите на улицу с оружием в руках. Заставляйте бастовать неприсоединившиеся фабрики. Помните, что в случае сильного движения в Москве к вам присоединятся рабочие Орехово-Зуева и Иваново-Вознесенска. Следуйте примеру петербургских товарищей – они вооружены и дали клятву добиться своего или умереть… Помните, что за вас вся интеллигенция, вся учащаяся молодежь, – y одним словом, за вас весь русский народ»{89}.
Призыв большевиков нашел отклик среди московских рабочих. В тот же день, 10 января, забастовали фабрики бр. Бромлей, Вейхельта и другие предприятия, «причем, – как сообщал директор департамента полиции, – началась агитация за устройство, по примеру Петербурга, всеобщей забастовки»{90}. На следующий день забастовало 21 промышленное заведение, а число стачечников возросло до 14 тыс.
В архиве сохранился интересный документ: «Сводка телефонных сообщений приставов и полицейских надзирателей в Московское охранное отделение о ходе стачечного движения в Москве» за И января. Из него видно, что телефон в охранке с 7 часов 40 минут утра до 9 часов вечера не замолкал буквально ни на минуту. Отовсюду шли тревожные вести, везде возмущенные москвичи бросали станки, митинговали, выходили на улицу и призывали рабочих соседних предприятий последовать их примеру.
12 января к забастовке присоединилось 14 фабрик с 3,3 тыс. рабочих. На следующий день еще 17 с 3 тыс. человек. «В течение дня, – доносила охранка, – войсковыми и полицейскими нарядами рассеивались группы рабочих, пытавшихся образовать толпу, и арестовано 8 коноводов»{91}. В январе в Москве бастовало, по официальным, явно преуменьшенным данным, более 40 тыс. человек, т. е. треть московского промышленного пролетариата.
Движение протеста перекинулось и на предприятия Московской губернии. Простой их перечень занял у департамента полиции не одну страницу убористого текста. Причем характерно то, что в одних случаях рабочие выдвигали конкретные требования, а в других «прекратили работы, не заявляя никаких требований и не нарушая ни в чем порядка»{92}. Чувство пролетарской солидарности с расстрелянными в Петербурге братьями по классу заставляло москвичей выступать в их поддержку. В ряде случаев царские власти прибегали в борьбе с забастовщиками к помощи солдат, а в Мытищах открыли стрельбу по рабочим вагоностроительного завода, вышедшим на улицы города.








