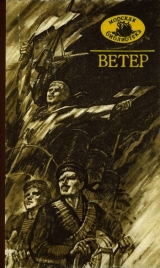
Текст книги "Ветер (сборник)"
Автор книги: Константин Паустовский
Соавторы: Алексей Новиков-Прибой,Борис Лавренев,Сергей Колбасьев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 20 страниц)
Да и ухнули с отрицательной плавучестью футов на триста. Даже заклепки начали слезиться. Насилу выбрались изо всей этой кутерьмы.
– Слышь, Тюркин! Ты про нашего Сонькина им расскажи… – подсказывают другие матросы.
Сонькин служит моторным кондуктором на «Кунице». Это – толстый человек на коротких ножках.
При воспоминании о нем Тюркин рассмеялся.
– Да, Сонькин немножко позабавил нас. Как услышал, что одна мина на борту у нас болтается, – у него слабина наступила. Хлоп на палубу пузом и давай ногами дрыгать, точно его на сковородке поджаривают. «Ой, кричит, пропала моя головушка!» Подхватываем мы его, спрашиваем: «Что случилось?» Очухался немного – стыдно ему стало. «У меня, говорит, второй день резь в животе. Чем-нибудь объелся. Все кишки судорогой сводит». А я ему в ответ: «Значит, в кишках тут дело! А мы думали – родить человек собрался». Эх, и рассердился на меня Сонькин…
Слушаем мы эти рассказы и хохочем. Хохочут и матросы с «Куницы». Как будто речь идет о веселой оперетке. А я знаю, что эти люди пережили в море тяжелую трагедию. Попасть в то положение, в каком очутился весь экипаж лодки, – это все равно, что быть привязанным к жерлу заряженной пушки, из которой каждую секунду собираются выстрелить.
На базе бьют склянки. Время – восемь часов. Дежурный по палубе свистит в дудку и зычно командует:
– На молитву!
Неохотно, с матерной руганью, идем в другую жилую палубу, где вместе с пожилым священником «Амура» поем «Отче наш» и «Спаси, господи, люди твоя». Так повторяется изо дня в день, пока мы стоим у базы. И еще много раз будет повторяться.
А когда вернулись в свой кубрик, Зобов заявил:
– Ну, доложу я вам, команда с «Куницы» просила сегодня у бога гибели себе.
– Это как понять? – спрашивают матросы.
Зобов неторопливо раздевается, чтобы потом, в постели уже, погрузиться в свои научные книги.
– Понимать тут нужно очень просто. Что вы просили у бога на молитве? «Остави долги наши, якоже и мы оставляем должникам нашим». Это что значит? Мы, мол, потопили немецкое судно – ты, господи, с нами так же поступи, то есть утопи нашу подводную лодку…
– Вот идол беспроволочный! – отзывается о нем команда. – Все перевернет на свой лад.
С Полиной у меня начались нелады.
– Ты очень часто ходишь ко мне. Надо мною соседи смеются. Стыдно встречаться с ними.
Но я чувствую, что за этими словами скрывается какая-то другая причина, и путаюсь в догадках.
– Как же не ходить, Полина, если мне тошно жить без тебя?
– Мне до этого дела нет…
– Ах, вот как!..
Мы поссорились.
Я несколько дней не выходил из базы. Надо же хоть немного проучить ее. Пусть сама вызовет меня.
Напрасны мои ожидания. Тоскливо проходит время. Я начинаю бродить по улицам города в надежде встретиться с Полиной. Но ее все нет.
Мое уныние замечает Зобов и как бы про себя говорит:
– Женщине, как и морю, не верь никогда, если только не хочешь остаться в дураках.
Я рассказал Зобову все.
– А ты что – купил Полину?
– Не купил, но…
– Зачем же пристаешь к ней, как банный лист? Предоставь ей распорядиться собою…
Меня взорвало его холодное спокойствие.
– А ну тебя к черту. Ты со своими книгами засох, как вяленый лещ.
С горечью в душе иду к Полине. Хочется, чтобы она встретила меня по-прежнему, – с той зовущей улыбкой, от которой становится жарко в груди.
Комната пуста. На комоде бесстрастно отбивает время будильник. Со стены остро смотрит на меня усатое лицо. Это тот, чьи кости гниют в сырой земле. Я отворачиваюсь. Через запыленные стекла окна часто заглядываю на улицу, – нет ее, не идет. Медленно опускается вечер над городом. Скучно. Стою у окна и потихоньку насвистываю. Что же мне делать еще? И сам не заметил, как своим носом, думая совершенно о другом, нарисовал на пыльном стекле: «Аллилуйя». А когда прочитал, то сам испугался: что за чепуха творится у меня в мозгу? Откуда, из каких тайников души всплыло это слово? И почему я его написал именно носом?
Шагаю по комнате, безрадостный и потухший.
Полина явилась около полуночи.
– Это кто здесь? – пугливо спрашивает она.
– Кто же другой, кроме меня?
– Ах, как я испугалась!
Торопливо зажигает лампу, а у самой дрожат руки.
Рассказывает, что у двоюродной сестры была, и жалуется на головную боль. Вид у нее помятый, усталый, под глазами синие круги. От моего присутствия уже не загорается, как раньше. Смотрит таким скучным взглядом, от которого, кажется, скиснет парное молоко.
На этот раз я унес от нее в душе не бенгальские огни, а мерзкую плесень подозрения.
А через два дня выяснилось все. Я встретил около ее дома Мухобоева. Он, видимо, ждал Полину. Он прохаживался с таким видом, точно в небо хотел плюнуть.
У меня невольно сжались кулаки, но я прошел мимо Мухобоева, как будто и не заметил его.
Ворвался в знакомую комнату и говорю с запальчивостью:
– Полина! Довольно морочить мне голову! Ты ветрогонкой хочешь заделаться, да?
Вид у меня, должно быть, решительный. Полина смотрит на меня испуганными глазами.
– Я не понимаю, о чем ты говоришь?
– Неправда! Ты знаешь, что на улице тебя ждет Мухобоев!
Полина всплеснула руками.
– Ах, господи, вот он про что! Мало ли меня ждут, мало ли за мною ухаживают? А я до сих пор знала только одного своего Сеню…
И вдруг заплакала, залилась слезами.
Моя злоба растаяла, как туман перед солнцем. Мне стало стыдно и жаль Полину.
Да, на этот раз мы помирились. Мы хорошо провели время. Вечер звенел для нас любовью. А когда при звездах и луне возвращался на базу, в душу опять ворвалось сомнение.
«Росомаха» должна бы уже вернуться, но все еще нет. Это вызывает среди матросов тревогу. Но никому не хочется верить, что случилось несчастье.
– Вернется, – говорят на базе.
– Конечно, вернется. Куда же ей деться?
– На дне моря хватит места для всех наших лодок, – подает голос Зобов.
К нему поворачиваются злые глаза.
– Ты что говоришь?
– Ничего. Только трусы вы большие. Боитесь правды, как плотва щуки.
На него обрушивается команда:
– Не квакай лягушкой!
– Заткнись!
– Двинуть его святым кулаком по окаянной шее, чтобы душой заговелся! Сразу замолчит…
Но Зобова этим не испугаешь: мускулы у него железные, а кулаки – два молота.
Встречаю на верхней палубе своего командира.
– Что-то долго, ваше высокоблагородие, не возвращается она…
Он знает, про что я говорю, и с напускным спокойствием отвечает:
– В шхерах где-нибудь путается. За время войны уже не один раз так случалось. Наверно, скоро опять станет рядом с нами.
Начальство распорядилось послать на розыски «Росомахи» две другие подводные лодки и миноносцы.
Дни стоят погожие, ясные, но для меня они наливаются свинцовой тяжестью. Гроза приближается. Я смутно сознаю это внутренним чутьем. Но какая? Живу с напружиненной грудью и жду неизбежного.
Разлад с Полиной углубляется. Я уже не сомневаюсь, что она любит другого – Мухобоева. И каждый раз, когда я возвращаюсь от нее на свое судно, решаю про себя:
«Не пора ли бросить всю эту канитель? Ясно, что связался чад с дымом, и получился один угар…»
И все-таки тянусь к Полине, как шмель к пахучему цветку. Без нее – пустота в душе, разрушенной войною.
О нашем состязании узнали команды с «Мурены» и «Триглы». Разболтал Мухобоев. Ему захотелось, чтобы и другие знали о его победе.
Некоторые из наших матросов подзуживают меня:
– Неужели уступишь этой твари?
Я отвечаю на это:
– Да уступить я никому и ни в чем не уступлю. Понимаете? И в любой момент могу в морду дать, кто будет лезть ко мне с таким разговорами.
Нашему отдыху пришел конец: «Мурена» подлечила свои раны и теперь спешно готовится в новый поход. В гавани, около гранитной стенки, где пришвартована лодка, громыхают ломовые подводы. Жадно лязгает цепью подъемный кран, а его длинная, как у жирафа, шея то и дело поворачивается. Натуживаются крепкие мускулы матросов, трещат под тяжестью спины. «Мурена» беспрерывно глотает грузы: снаряды, соляровое масло, смазочное масло, мины, ящики с консервами. Перед походом она старается как можно туже набить свой железный желудок.
Безоблачное небо обжигает зноем. Море плавится и кажется горячим. На матросах рабочее платье мокро от пота.
Неожиданно хлестнула команда:
– Смирно!
А вслед за этим слышим старчески трескучий голос:
– Здорово, морские орлы!
Около сорока глоток дружно и привычно выбрасывают в воздух готовый ответ:
– Здравья желаем, ваше гитество!
Это явился к нам сам адмирал, начальник подводной дивизии.
Он тучен – весом пудов на восемь. Сырое лицо с седыми бакенбардами расползлось в стороны. А над этим ворохом мяса и сала возвышается громаднейшая лысина, словно каменный мол над морем. Заочно матросы называют его: «Гололобый».
Офицеры и матросы поражены небывалым явлением: адмирал привел на подводную лодку свою дочь. Все смотрят на нее угрюмо, враждебно – быть теперь беде. Но что можно поделать? Гололобому все позволено – на золотых погонах его грозно чернеются орлы.
Дочь, как только спустилась внутрь «Мурены», пришла в восторг.
– Прелесть! Светло, как в театре! Папочка, да тут столько приборов разных, что можно запутаться! Я бы ни за что не разобралась.
– Поэтому-то, Люсик, ты и не командир, – смеется Гололобый.
– Папочка, а это что за машина?
Отец поясняет ей о дизель-моторах.
– Нет, все здесь удивительно! Нечто фантастическое!
У Люси звонкий голос, а с молодого лица радостно излучаются две спелых вишни, как два солнца. На тонкой фигуре – белое прозрачное платье. Она кажется мне чайкой: спустилась на минуту в лодку, но сейчас же упорхнет в синий морской воздух. И уже не верится, что от такой радостной женщины может случиться несчастье. Я смотрю на нее и думаю: неужели Гололобый, напоминающий собою гиппопотама, ее отец?
– Папочка! А где же перископ? Я хочу посмотреть в него.
– А вот командир покажет тебе.
Она поднимает ресницы и бросает на командира ласковый взгляд.
– Пожалуйста! Я с удовольствием вам покажу.
Гололобый продолжает осматривать лодку, всюду заглядывать. Вот здесь-то и случилась непредвиденная каверза. Не успел он войти в офицерскую кают-компанию, как на него набросился наш Лоцман. Это был командирский пес, лохматый, клыкастый, с голосом, точно у протодьякона, – ревущий бас. Гололобый со страху побелел, как морская пена. Но тут же опомнился, в ярь вошел. Глаза стали красные, как у соленого сазана. Поднялся шум – всех святых уноси.
– Это что за безобразие! На судне псарню завели!..
Но для Лоцмана, что нищий в рваной одежде, что адмирал в золотых погонах – все равно: заслуг он не признает. Еще сильнее начинает лаять.
В кают-компанию вбегает командир. Я впервые вижу его таким растерянным, обескураженным, чего не случалось с ним даже при встрече с неприятельским миноносцем.
Он даже не пытается унять своего пса, заставить его замолчать.
Гололобый обрушивается на командира, надрывается, синеть стал, как утопленник.
– Это мерзость!.. Под суд отдам!.. Всех отдам!..
А Лоцман тоже не уступает – поднял шерсть и готов вцепиться в бедра его превосходительства.
Нам и любопытно, кто кого перелает, и в то же время страх берет, чем все это кончится.
Наконец Лоцмана уняли, но не унимается Гололобый.
– Папочка! – обращается к нему дочь. – Папочка! Тебе же доктора запретили волноваться.
– Да, да, это верно… Горячиться мне вредно. Но меня псина эта вывела из равновесия…
Гололобый начинает затихать, а дальше и совсем обмяк. У него всегда так выходит: нашумит, нагрохочет, точно пьяный черт по пустым бочкам пройдется, – и сразу затихнет. В сущности, адмирал он – безвредный, даже добрый в сравнении с другими.
Приказывает выстроить нас на верхней палубе. Обходит фронт, шутит с каждым, улыбается.
– Ты что, братец, женат? – спрашивает у одного матроса.
– Так точно, ваше превосходительство.
– А, это хорошо, хорошо. Вернешься домой, а тут тебя женка ждет.
Другой матрос оказался холостым.
– Вот и отлично! – одобряет Гололобый. – Забот меньше, не будешь тосковать, не будешь беспокоиться, как там супруга поживает.
Подходит к Зобову.
– Ты что это, братец, серьезный такой, мрачный?
– С детства это у меня, ваше превосходительство.
– Что же случилось?
– С полатей ночью в квашню упал.
– Значит, ушибся?
Зобов преспокойно сочиняет дальше:
– Никак нет, ваше превосходительство, потому что я в самое тесто попал. И до утра так провалялся. С той поры и началось у меня это – скучище. Мать говорит, что мозги мои прокисли…
Хохочет Гололобый, смеется дочь, улыбаются офицеры и команда. Становится весело.
Доходит очередь до Залейкина. Веснушчатое лицо его строго-серьезное, как у монаха-отшельника, а глаза прыщут смехом.
– Ты чем до службы занимался?
– По медицинской части, ваше превосходительство.
– Как по медицинской?
– При университете в анатомическом театре работал вместе со студентами.
– В качестве кого же?
– А я без всякого качества – просто сторожем служил. Подавал человеческие трупы, а убирал только куски от них…
Гололобого от смеха даже в пот бросает. Он то и дело снимает фуражку и вытирает платком лысину.
– Ты, значит, знаком с анатомией?
– Так точно, я ее, можно сказать, всю на практике прошел, анатомию-то эту самую.
– В таком случае скажи-ка, братец, почему это я толстый?
Залейкин шевельнул бровями и отчеканивает серьезно:
– От ума, ваше превосходительство!
– Это что же значит?
– В голове ум не помещается – в живот перешел…
– Хо-хо-хо… – грохочет Гололобый, точно ломовик по мостовой катит. – Молодец! Люблю находчивых матросов! Вот тебе за умный ответ…
Дает Залейкину трехрублевую бумажку.
А когда Гололобый удалился, мы еще долго смеялись, смеялись до слез.
– Ой, батюшки! – жалуется боцман. – Я живот свой надорвал от смеха. Вот лысый идол начудил…
– Что вы, братва, – все лысый да лысый! – вступается Залейкин. – А я вам доложу на этот счет совсем другое.
– А ну, удумай что-нибудь.
– Вот козлы и ослы никогда не лысеют, а какой толк в них. Могут они, скажем, академию кончить и дослужиться до его превосходительства?..
И опять смех среди команды.
А когда заговорили об адмиральской дочери, все стали злыми: пребывание на подводной лодке женщины нам даром не пройдет.
По гавани с коммерческих и военных судов разноголосо прозвучала медь отбиваемых склянок. Через полчаса мне предстоит смена. А пока что – я с винтовкою в руках стою на верхней палубе «Мурены».
Солнце точно играет в прятки: то спрячется за облако, то опять обольет светом. Легкий ветер скользит по морю, словно пыль с него сдувает. Однако чувствуется, что погода начинает свежеть. Чайки нервничают: снежными комьями нижут воздух и беспокойно кричат. Ночью должна разыграться буря.
Я смотрю на морской простор, откуда доносится до меня угрожающий гул пропеллеров. Это парят наши гидропланы. Как они похожи на альбатросов! Некоторые спустятся на сизую поверхность моря, проплывут немного и снова взмоют в вечернее небо. С высоты виднее, не крадется ли где-нибудь в недрах моря неприятельская субмарина. Один из гидропланов, это чудо из чудес человеческого разума, вонзился в облако и скрылся за его пределами. Что ему там нужно? В гавани, недалеко от нас, дымит одной трубой их матка «София». Для гидропланов она является такой же базой, как наш «Амур» для подводных лодок.
Куда-то уходит, огибая мол, «Мудрец». Это – двойное судно, похожее издали на железный мост с двумя быками. На нем имеются подъемные краны мощной силы. Оно появилось на божий свет только во время войны и приспособлено исключительно для того, чтобы спасать погибшие подводные лодки.
«Мудрец» выходит на большой рейд и продолжает свой путь дальше. Я провожаю его глазами, а в голове возникает тоскливая догадка, что где-то в море произошло несчастье.
– Слышишь, что ли, Власов? Или оглох?
Поворачиваюсь на зов: с набережной кричит мне наш рулевой Мазурин. Из-под коричневых усов расползается такая довольная улыбка, точно его сразу произвели в адмиральский чин…
– В чем дело?
– Носатый-то ведь повел ее, твою кралю. Вон туда пошел, за город…
– Убирайся к черту!
Он еще что-то говорил, но я уже больше ничего не слышал. В груди заворочались змеи ревности и больно вцепились в сердце. Помутилось сознание. Я не помню, как сменился с поста. Мне никуда не хотелось идти, но что-то толкало меня за город, несло, как парус ветром.
Берег оказался безлюдным. Закат грозно нахмурил огненные брови. Из-под них упрямо смотрел на меня воспаленный зрачок. Не выдержал моего решительного взгляда – медленно опустились багряные ресницы. Море, как палач, нарядилось в красную рубаху. Ого! Будет дело! В воздухе послышался гул. Пой, ветер, пой панихиду! Прибою захотелось подшутить: разостлал передо мною ковер из белой пены, но тут же отпрянул назад. Неужели я такой страшный?!
Но где же, где эта счастливая пара? Мне хочется посмотреть им в глаза.
Начинается бугристое место. Впереди что-то мелькнуло. Ускоряю шаги. Так и есть: идут под руку. Полина первая заметила меня. Метнулась в сторону, точно Мухобоев оттолкнул ее. Он тоже оглядывается…
Сближаемся. Они останавливаются и ждут. Хочу быть спокойным, как индусский идол. Злобу свою сдерживаю, как цепную собаку. Полина не смотрит на меня, стоит с понурой головой, словно в ожидании приговора. Ветер путается у нее в юбке, играет локонами. Мухобоев первый заговаривает со мною:
– А, Семен Николаевич! Куда это ты так торопишься?
– Не дальше этого места.
– Разве что забыл здесь?
– Ничего, кроме подлости!
– Вот как!..
Разговор обрывается. Только сверлим друг друга глазами. Слышно, как под отвесным берегом рокочет прибой. Молчание наше становится тягостным. Мухобоев и на этот раз заговаривает первым:
– Что это ты смотришь на меня, как черт на архимандрита?
– Потому что я не просвирня, чтобы взирать на твою вывеску с умилением. А ты не только не архимандрит, но я и за человека-то тебя не считаю.
Мы оба задыхаемся от волнения.
– А кто же, по-твоему, я?
– Рвота поганая!
– А, так!..
Я почему-то снял свою старую, истрепанную фуражку и аккуратно положил ее на траву, точно это была корона с драгоценными камнями. А когда сделал это, сам удивился; быть может, удивил и своего противника.
– Мои кулаки давно соскучились по твоей морде!
Мы с ревом столкнулись, как два разъяренных тигра.

Обрушиваем друг на друга кулаки. Головы стали таранами. Падаем, поднимаемся – и снова нападаем. Пущены в дело пинки. Схватываемся за горло, рвем мясо, мячом катаемся по земле. Трещат кости, лица в крови. Нашу хриплую ругань пронизывает женский голос:
– Что вы делаете? Перестаньте! Ради бога, перестаньте! Господи, они убьют друг друга!
Но присутствие третьей, ее отчаянные вопли только подхлестывали нас. Мы озлобляемся еще больше. Меня пламенем обжигает желание столкнуть противника в море. Но и у него, видимо, та же мысль. Ползаем по земле и все ближе придвигаемся к обрыву. На самом краю его задержались. Схватились – и не можем отцепиться. Под ногами, внизу, на большой глубине, клокочет пена. В уши толкаются истерические вопли женщины. Перед глазами, совсем близко, маячит страшное лицо – в крови, с оскаленными зубами. На мгновение ужас сдавливает сердце. Но безумие берет верх. Я со всей силою рванул своего противника в сторону моря. Но он не отпустил меня. Вдруг земля дернулась из-под ног, как бумажный лист из-под стакана. Оба закувыркались в воздухе. Ударились в мягкое, податливое. На глаза надвинулось черное покрывало. Казалось, будем проваливаться в пучину без конца. В горле будто кусок соли застрял, забил дыхание. Я поперхнулся. И сами собою разжались объятия…
А когда вынырнули, то случилось нечто странное: мы поплыли в разные стороны.
Долго болтался в соленой воде, оглушаемый волнами, пока не выбрался на отлогий берег. Кругом ни одного человеческого голоса. Шагаю торопливо. И не хочу уже больше встречаться ни с Полиной, ни с Мухобоевым.
На базе, ложась спать, я почувствовал головную боль, и меня сильно лихорадило. Всю ночь нелепые видения рвали душу.
…Морское дно. Зеленый свет. Когда мы кончим драку с Мухобоевым? Наплевать! Вечно будем рвать друг друга, пока не сдохнем. А вокруг нас мечется Полина, голая, с распущенными волосами. Нет, это не волосы, а водоросли спускаются с головы. В молодую грудь ее впились крабы, грызут тело. В крови вся, но почему-то сладострастно взвизгивает. Все морские чудовища здесь: лангусты, морские коровы, змеи, скаты, морские архиереи, акулы. Какой только твари здесь нет! Обступили нас, смотрят неподвижными глазами. Я оторвал Мухобоеву нижнюю челюсть. Красной тряпкой болтается у него язык и не может слова сказать. Мухобоев содрал с моего лица кожу. Полина восторженно взвизгивает:
– Ах, как это мило!
И еще пуще извивается.
Вокруг нас хохот. Потом рев этой поганой оравы:
– Довольно!
– Надоело!
– Ничего нового!
– Видали мы это и среди своей братии!
А зубастая акула, вращая глазами, предлагает:
– Пусть она ни тому, ни другому не достанется…
Все набрасываются на Полину, хватают ее за ноги. Мы отталкиваемся друг от друга, смотрим в ужасе. Один момент – и наша любимая разорвана на две половины. С гулом и ревом удаляются все чудовища. А нам осталось от Полины только сердце. Оно бьется и содрогается, раскаленное, как уголь. Мы оба одновременно подхватываем его. И вдруг – что это значит? Это уже не сердце, а спрут. Два щупальца обхватывают Мухобоева, а шесть – меня. Это я точно вижу. Вся моя грудь стянута, как ремнями. Я задыхаюсь. Из меня высасываются жизненные соки… Это и есть любовь?
Я собрал последние силы, рванулся.
Удар по темени. Все исчезло.
Я ползаю на коленях. В голове боль. Передо мною знакомая стена с круглыми отверстиями, похожими на мутные зрачки. В полусумраке не сразу соображаю, что это железный борт нашей базы. Горит одна лампочка. На рундуках, в один ряд, валяются подводники. Всхрапывают, посвистывают носами. За бортом зашипело – это травят пар. Монотонно гудит вентиль. Кто-то придушенно стонет. Один матрос вскакивает, как очумелый, и орет во все горло:
– Кормовая цистерна лопнула.
Разбуженные люди ворчат:
– Дьявол комолый! Чего булгачит народ!
– Чтобы его мочевой пузырь лопнул!
Поворочались подводники, прочистили горла руганью и снова послышался храп.
Что стало с Полиной? Неужели погибла в море?
Я не мог больше заснуть. В больной голове муть. Поднялся и вышел на верхнюю палубу.
Рассветает.
На мостике базы – вахтенный начальник и сигнальщики. Через бинокли и подзорные трубы смотрят за морем, за каждым движением судов, чтобы отметить все это в вахтенном журнале. Около борта «Амура» – две подводные лодки. На них тоже вахтенные матросы с винтовками.
Море и небо в смятении. Всю ночь куролесил здесь разбойный ветер, этот любитель беспорядка, подстрекатель к хаосу. Воды – в горбатой зыби, в кипящей пене. Низко ползут тучи, а с них, мотаясь, свисают трепаные лохмотья. Глухим гулом наполнен мглистый воздух. Горизонт сузился, мир кажется тесным. И только на востоке виден провал. Он весь красный, зияющий, с раскаленными краями рваных туч. А дальше, за этой брешью, развертывается бесконечное пространство, пронизанное заревом утра. Туда темно-бурой громадой несется броненосец, весь закованный в стальные латы, потрясающий веером порозовевшего дыма. Слева от него дымятся тучи, похожие на вулканы. Ждешь – сейчас потрясут воздух сокрушительные взрывы. Справа, на кроваво-лиловых пластах облаков, вырисовывается человеческое лицо, пухнет, оскаливается, словно от прилива злобы. Еще минута – оно исчезает в огне. Световым половодьем разливается утро, ширится, гонит последние ночные тени. Взмывают и дыбятся красногривые волны.
А корабль все продолжает свой путь к востоку, неуклонно мчится на всех парах в красный провал прошибленного неба.
Что ждет его там, в этом огненном море? Тихая пристань с цветущими берегами или шторм с подводными скалами?
По глазам хлестнули золотые струи поднявшегося солнца.
Еще так недавно мы провожали «Росомаху» в дальний поход. Сорок с лишком человек махали нам фуражками, махали и мы им с берега. Улыбались друг другу. А теперь – мы никогда уже больше не увидим своих товарищей.
Вернулись с поисков миноносцы и подводные лодки. Обшарили все море, заходили на многие острова, расспрашивали рыбаков, обращались по радио ко всем сторожевым постам. «Росомаха» исчезла. Не осталось от нее ни одного признака, никакого следа. Нет сомнения, что – она погибла.
Это известие надвинулось на базу, как злая чума.
В открытые иллюминаторы смотрит утреннее солнце, но не разогнать ему хмури с матросских лиц.
Высказываются разные предположения:
– В подводных камнях заклинилась.
– Нет, скорее всего в заградительные сети попала.
– А может, на мину налетела.
И никто не может вскрыть тайны. Ее навсегда унесли на дно моря те, кто остался на «Росомахе». Вернее, другое:
– Уж больно отчаянный командир.
– Да, командир бедовый был.
– Он всегда, как шутоломный, лез куда зря.
Комендор с другой лодки сообщает:
– Это у него с горя.
Жадно поворачиваются лица к комендору.
– С какого же горя?
– Дома у него неладно было.
– А что?
– Наш один моторист рассказывал, будто жена командира закрутила любовь с каким-то инженером.
– А моторист-то ваш откуда об этом знает?
– Как же ему не знать, раз он сам путается с горничной Ракитникова.
Ругают женщин, проклинают войну.
Неугомонный Залейкин острит надо мною:
– Посмотрите-ка, братцы, нашему Власову кто-то поставил отличительные фонари под глазами.
Сейчас же начали и другие шутить. Рассказывают анекдоты, вспоминают разные смешные случаи, изощряются в остроумии, чтобы вызвать хохот. Вообще мы очень много смеемся. И я понимаю, насколько необходим для нас смех: он является противоядием от сумасшествия, как известная прививка от чумы. Вся жилая палуба охвачена гомоном, веселым шумом. Но это только внешнее, – чувство обреченности не покидает нас, до боли сжимает сердце. Гибель «Росомахи» – не первый и не последний случай. Такой же участи может подвергнуться и наша лодка. Поэтому мы как бы находимся на положении подсудимых. Перед нами невидимым призраком стоит грозная судьба. Для подводников у нее нет половинчатых решений: она или оправдает, или превратит в ничто.
После обеда выхожу прогуляться по набережной. Стоит небольшая кучка женщин и детей. Все те же знакомые лица, что в прошлый раз вместе с нами провожали «Росомаху». Воспаленные глаза устремлены в светлую даль. Все ждут, ждут дорогих сердцу людей. И часто сморкаются в белые платочки.
А водная равнина – вся в голубом шелке, в золотом блеске. Соперничает своим нарядом с лучистым небом.
Мне хочется крикнуть морю:
– Не будь подлым! Скажи этим женщинам, чтобы шли домой.
И мне кажется, что по водной глади не солнце рассыпало свои искры. Нет! То горят слезы погибших моряков.
Мальчик в матросском костюме, сын командира, семилетний Ракитников, обращается к стройной и красивой шатенке:
– Мама! Смотри – судно плывет. Это ведь папа возвращается, не правда ли?
Показывает ручонкой в лучезарную даль, туда, где из-за горизонта вырисовывается силуэт дозорного миноносца.
– Да, да, милый, это… это, наверное, папа…
Мать давится слезами, жмется, точно тесно ей в туго затянутом черном платье.
Мальчик захлопал в ладоши, восторгается:
– Вот хорошо! Папа опять будет рассказывать мне о своих приключениях…
Мать не выдерживает, и стоном прорываются муки ее оглушенного сердца:
– Боже мой! Боже мой!..
Я смотрю на нее и думаю: неужели она, эта рыдающая теперь женщина, является косвенной виновницей гибели «Росомахи»?
Отхожу в сторону.
Я знаю, что еще долго эти люди будут приходить на берег, будут много-много раз смотреть на море и ждать от него ответа. Ничего им не скажет море. Будет ласково сиять или мрачно бурлить, но правды от него не узнают, где могила их близких. Только буря знает об этом, только она одна будет петь над ними свои погребальные песни.
В носовом отделении «Мурены» никого нет, кроме меня. Зачем я пришел сюда? Не знаю. Последние события вывихнули мою душу, и я нигде не найду себе места. Сижу один на рундуках. По верхней палубе прохаживается часовой, и под звуки его шагов я путаюсь в своих безотрадных мыслях, как в лесных трущобах…
Что за нелепость творится на земле? Народы разделились на два враждебных лагеря. Бьют и режут друг друга, занимаются грабежом, превращают в развалины города и села, топчут поля, уничтожают богатства, созданные с таким трудом. И этот мировой разбой не только оправдывается, но всячески поощряется человеческими законами. Мало того, в это кровавое преступление притягивают и самого бога. И та, и другая из воюющих сторон обращается к нему с молитвами, с просьбой о помощи. Стараются: задобрить его – жгут перед ним свечи, курят фимиамом, жертвуют деньгами, льстят словами, рабски бьют челом. Чем такой бог отличается от бессовестного чиновника, промышляющего взятками? Кто больше даст, за того он и будет стоять. А если творец жизни – иной, то почему он не возмутится против такой извращенности людей? Почему он не зарычит всеми громами, чтобы от страшного гнева его содрогнулась вся земля?
Молчит небо, опустошенное войной, молчит. И не я один, а миллионы людей уже отвернулись от него и крепко натужились в тяжких думах…
Я вздрогнул: в гавани жалобно завыла сирена, точно собака, защемленная подворотней.
В носовое отделение «Мурены» вошел Зобов.
– Вот хорошо, что я застал тебя одного. Мне нужна поговорить с тобой.
– Ладно.
– Вот что, Власов, – брось за юбками волочиться.
– А что?
– Время теперь не такое. Видишь, как гибнут люди? Погибнем и мы. А во имя чего?
– Да, дорогой друг, вижу, все вижу. Вся земля – в черных тучах тоски, размывается дождями слез и крови. Поэтому и в моей груди – не сердце, а кусок раскаленного шлака. Но что можем мы с тобой сделать?
Зобов склонил ко мне лобастое лицо, мускулистый и упрямый, как буйвол. В стальном блеске серых глаз отразилась несокрушимая воля.
– Вся сила – в народе. А народ ощетинился. По всей стране несется ропот. Значит, наступила пора, когда нужно готовиться…
– К чему готовиться?
– К расплате.
– С кем?
– С теми барышниками, что торгуют человеческой кровью.
– А дальше что?
Зобов начал развивать свои мысли. Я давно догадывался, что у него есть какие-то замыслы. Оказывается – он только небо хочет оставить в покое, да и то лишь на время; на земле думает перевернуть вверх торманом все порядки.
Обещался познакомить меня со своими товарищами.
– Ты нам нужен будешь.
– Хорошо, Зобов, я согласен.
Я понял, куда должен направить свои силы. Стреноженный народ теряет смирение. Рвутся вековые путы. А гнев почти всей страны – это сокрушительный удар девятого вала. Уже чувствуется содрогание людского моря, глухой ропот грозных бурь. Быть может, я вдребезги разобьюсь о назревающие события, выплесну свою горячую кровь на мостовую. Все равно – мой курс обозначился ясно.








