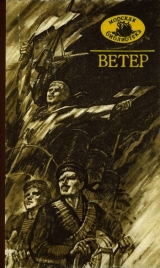
Текст книги "Ветер (сборник)"
Автор книги: Константин Паустовский
Соавторы: Алексей Новиков-Прибой,Борис Лавренев,Сергей Колбасьев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 20 страниц)
Тогда он всего лишь выполнял полученное им приказание и выполнял его против своей воли, но теперь это стало контрреволюционным деянием чистейшей воды. Что по этому поводу сделает командующий красной флотилией Плетнев?
Но еще хуже было то, что он слишком многим был этому Плетневу обязан. Даже своей жизнью. Тогда, после гибели «Джигита», когда Плетнев вытащил его из воды, он почти сразу же отблагодарил его арестом. И теперь снова должен был с ним встретиться.
Он с трудом допил свой чай и, когда вышел на палубу, не знал, что ему делать. Чтобы всё-таки чем-нибудь заняться, полез с артиллеристом по погребам и, хотя особых беспорядков не обнаружил, изрядно вымазался.
В таком виде его застал рассыльный из штаба с приказанием немедленно явиться к командующему.
Он вымыл руки и решил переодеться, но почувствовал, что нужно кончать сразу. Кое-как почистился и пошел. Когда шел, думал о том, что на свой корабль едва ли вернется.
На «Ильиче» постучался в ту самую каюту, в которой еще накануне сидел Иван Шадринский, и услышал глухой голос:
– Войдите!
Решительно вошел, но сразу остановился, пораженный тем, что увидел.
За столом, сгорбившись, сидел широкоплечий человек в кожаной тужурке. Это, конечно, был Семен Плетнев, но почти неузнаваемый. У него на палец отросла борода, скулы резко выступили вперед и лицо стало совершенно серым с черными провалами глаз.
– Здравствуйте, товарищ Бахметьев, – медленно сказал он. – Давненько не видались.
Всего лишь несколько минут тому назад такое вступление показалось бы Бахметьеву зловещим, но сейчас он думал о другом:
– Что с вами случилось?
Плетнев встал и протянул руку. Она была сухой, но всё-таки очень сильной, и Бахметьев пожал ее с радостью.
– Пустяки. Прихворнул малость, однако выжил. Садитесь, пожалуйста.
Бахметьев сел. Теперь он забыл всё, о чем только что думал. Он видел перед собой человека, с которым так много пережил, и был очень рад, что его видит. Ему становилось хорошо от одного присутствия Семена Плетнева. Хорошо и совсем спокойно.
Но внезапно он густо покраснел.
– Мне очень стыдно перед вами, – с трудом сказал он. – Тогда, в Гельсингфорсе, у меня не хватило силы отказаться.
Плетнев, не поднимая глаз, раскрыл коробку папирос и пододвинул ее к Бахметьеву:
– Смешные тут пароходы. Верно? – Подумал и добавил: – И порядка как будто маловато… Закуривайте.
Бахметьев не ответил. Ему нечего было отвечать. У него было такое ощущение, как будто он с размаху вломился в открытую дверь. Чтобы восстановить свое равновесие, он взял папиросу и размял ее пальцами.
– Завтра к вечеру должны прийти еще две канонерские лодки, – всё так же медленно продолжал Плетнев, – «Беднота» и «Карл Маркс». Значит, всего их будет пять штук.
Он определенно не хотел вспоминать о той гельсингфорсской истории, и, странное дело, Бахметьеву это было досадно. Может быть, оттого, что ему самому такого труда стоило о ней заговорить.
Нет. Чепуха. За эту забывчивость нужно было быть только благодарным. Бахметьев тряхнул головой и сказал:
– Да. Пять штук.
– Пять, – повторил Плетнев. – Конечно, некомплект команды и всякие неполадки по материальной части, но что-нибудь сделать можно. Вы примите от военмора Малиничева командование дивизионом, а потом мы с вами подумаем, как его наладить.
– Я? Командование дивизионом? – Бахметьев даже поперхнулся табачным дымом и закашлялся. Такого оборота дела он никак не мог ожидать.
– Вы, – ответил Плетнев и, подумав, добавил: —Сегодня.
Странно, что в бывшем матросе была та уверенность, которой не хватало бывшему капитану второго ранга Шадринскому. Пожалуй, флотилия и в самом деле выиграла от такой замены. А дивизионом, слов нет, любопытнее было командовать, чем одной лодкой.
– А как же Малиничев?
– Малиничев? – И Плетнев задумчиво потер подбородок. – Он будет у вас командовать какой-нибудь лодкой. По вашему усмотрению.
Бахметьев вскочил на ноги:
– Но ведь я же не могу. Он старше меня. Гораздо опытнее и вообще… Был лейтенантом, когда я еще учился в корпусе, и только что был моим начальником. Я не смогу отдавать ему приказания.
– Садитесь, пожалуйста. – Плетнев поднял глаза, и в глазах его была легкая усмешка. – Кто-то мне рассказывал, что нынче нельзя судить о командире по его бывшему чину. Верно это?
Бахметьев сел. Он чувствовал себя совершенно беспомощным. Должно быть, Ярошенко передал его слова Плетневу, и теперь он никак не мог от них отречься. И вообще не знал, что ему делать.
– Ну вот, – сказал Плетнев. – Когда вы были мичманом, я у вас служил простым минером. А теперь я командующий и свободно могу отдавать вам приказания… Сегодня, как полагается, вместе с Малиничевым подайте рапорты.
– Есть. – И, чтобы скрыть свое смущение, Бахметьев принялся раскуривать потухшую папиросу.
– Приказ получите в распорядительной части. Он у них готов. А комиссаром останется у вас Ярошенко. Вы хорошо с ним живете?
– Очень.
– В порядке, значит. – Плетнев наклонился вперед и через стол протянул руку. – Потолкуем с вами в другой раз, а сейчас пришлите мне товарища Лобачевского. Будьте здоровы!
Бахметьев вышел в коридор и так же осторожно, как и накануне, закрыл за собой дверь. Только теперь у него были совсем иные мысли. И первая – что выслушивать приказания от бывшего матроса оказалось вполне просто.
8
В каюте было темно и душно. Плетнев лежал с закрытыми глазами, но уснуть не мог.
Дела на флотилии обстояли плохо. Бестолочь, перемноженная на отвратительное снабжение, а людей нет и не предвидится.
Можно ли наладить хоть какую-нибудь корректировку огня с берега? Как быть с проклятыми дровами, которых всегда не хватало? Какие меры принять против возможного прорыва неприятельских кораблей?
Со всех сторон была сплошная путаница нерешенных вопросов, а кое-какие сотрудники штаба сидели с поджатыми губами и вовсе не спешили помочь. А другие, вроде Лобачевского, просто были бездельниками.
Впрочем, всё это он предвидел заранее и теперь жаловаться на свою судьбу не собирался.
«Боевые действия ограничивались обоюдным обстрелом позиций и налетами авиации с обеих сторон» – это была фраза из его последнего донесения в Москву.
Нет, какие уж там обоюдные налеты! Своя авиация просто никуда не годилась. Самолетов было порядочно, но летать могли всего лишь штук десять, двенадцать, да и те плохо.
Люди? Людей винить не приходилось. Черт знает в каком виде были сами машины, и механики работали круглые сутки, чтобы хоть как-нибудь привести их в порядок. А летчики за отсутствием бензина летали на мерзости, которая называлась «казанской смесью» и от которой всё время скисал мотор. Люди были героями.
«Боевые действия ограничивались обоюдным обстрелом позиций…»
Во время последнего обстрела на плавучей батарее «Урал» в канале орудия разорвался снаряд. Троих совсем разнесло, а несколько человек просто полетело за борт, и их пришлось вылавливать. Но самое страшное было потом. Пламя от взрыва проникло в трюм, где хранилось штук триста снарядов.
Он стоял на крыше рулевой рубки и в бинокль всё это видел, точно на экране кино. И также ничем не мог помочь.
Когда-то он испытывал нечто подобное. Может быть, это было в бою на «Джигите», а может – в полубреду в теплушке эшелона. Но теперь это было хуже, чем когда-либо. Его корабль без паров стоял ошвартованный к пристани, и он мог только смотреть. А сигнальщики без конца путались с флагами, и приказание подать помощь «Уралу» безнадежно запаздывало.
К счастью, Бахметьев, не дожидаясь никаких сигналов, подошел на своем «Командарме» прямо к борту батареи и со всей свободной командой бросился тушить пожар. Здорово рисковал. Мог и корабль свой погубить и людей, однако дело сделал. Огонь ликвидировал.
Вообще этот Бахметьев вел себя хорошо, и Ярошенко был прав, когда настаивал на его назначении начальником дивизиона.
В каюте на «Командарме» горел свет, но начальник дивизиона Бахметьев крепко спал. Он навалился плечом на деревянный борт койки и одну руку свесил до самой палубы, но никакого неудобства от этого не ощущал. Он был измучен до последней степени.
На столе стоял чайник с кипяченой водой, аккуратно завернутый в газету остаток хлебного пайка и барограф, отмечавший резкое падение давления. Рядом, прикрытое наганом в кобуре, лежало начатое письмо:
«Брат мой, Александр.
Я начинаю думать, что ты был прав, но всё это страшно трудно и, кажется, легче не станет. У нас слишком много врагов и слишком мало опыта. Впрочем, есть настоящие, очень крепкие люди.
Один из таких – тот самый Семен Плетнев, о котором я тебе рассказывал. Его прислали к нам командующим вместо мокрой курицы, Ивана Шадринского. Думаю, что это будет хорошо, но наверное еще не знаю.
Меня назначили начальником дивизиона канлодок. Лучше бы не назначали. Ты не можешь себе представить, что у нас творится.
Когда я наконец уйду со службы, я, наверное, стану пожарным. У меня сейчас необычайно много практики в этой области. Нет, не буду писать. Противно.
Будь другом, посмотри, что наша сестра Варвара делает с моим сыном Никитой. Ты отлично знаешь, что она за кушанье, а потому поймешь мое беспокойство.
Там осталось множество моего барахла, а швейцар Терентий ездит к себе в деревню. Пусть что-нибудь сменяет на масло и яйца для моего отпрыска…»
Дальше письмо было прервано, а пониже тем же, но более крупным почерком было написано:
1. Проверить боевые расписания.
2. «Беднота» – лопнувшая муфта у головы руля.
3. 8.30 – совещание в штабе.
4. Вопрос о Малиничеве.
Последняя запись была дважды подчеркнута, и рядом с ней стоял большой вопросительный знак.
Насчет военного моряка Олега Малиничева у командующего флотилией Плетнева были свои соображения. Не слишком веселые, потому что, вспомнив о нем, Плетнев тяжело вздохнул и перевалился на другой бок, как делают, когда хотят избавиться от дурного сна. Но всё-таки Малиничев не выходил у него из головы.
Оставлять его командовать дивизионом было рискованно, – слишком странные вещи о нем рассказывали Ярошенко и другие. Но вовсе списывать его с флотилии тоже не годилось. Пока что никаких особых дел он не наделал, а людей совсем не было.
Всё же с этим перемещением на дивизионе канонерских лодок получилось неладно. Обиделись разные бывшие офицеры, а это было некстати.
Может, следовало Малиничева перекинуть в штаб, а на корабль назначить кого-нибудь из штабных? Нет, в штабе и без него было не больно хорошо.
Бахметьев правильно сделал, что оставил его командиром «Уборевича» и вообще на него не нажимал. Но всё-таки не было уверенности в том, что всё пройдет гладко. Слишком уж спокойно принял Малиничев приказ о своем понижении.
Олег Михайлович Малиничев действительно был слишком спокоен. Он тоже не спал и, полузакрыв глаза, улыбался. На стуле рядом с ним лежал маленький шприц в никелированной коробке и разломанная ампула морфия, а на его левой руке была приятная округлая опухоль, от которой шло тепло.
Он уже давно привык к доброму зелью, и, пока в его чемодане хранилось около сотни ампул, все неприятности и огорчения дорого не стоили.
Сейчас он чувствовал себя мудрым. Командующий флотилией большевик Плетнев был просто ничтожеством, а желторотый мальчишка Бахметьев и того меньше. Они могли как угодно играть в военный флот и воображать, что их колесные калоши форменные броненосцы, – ему было совершенно безразлично.
Впрочем нет, ему было даже занятно. Пусть пока что поиграют. Времени им осталось немного.
Со всех четырех сторон горизонта поднималась старая, настоящая Россия, а за ней стояла вся боевая мощь великих союзных держав. Голод, сыпняк и разруха. Хваленой революции наступал конец, и ему оставалось только плыть по течению.
– По течению, – вслух подумал он и от удовольствия совсем закрыл глаза. Течение шло прямо на север, прямо к друзьям по ту сторону фронта.
9
Превосходное времяпрепровождение Бориса Лобачевского внезапно окончилось. Сверху по реке прибыли две баржи с минами заграждения, и командующий флотилией Плетнев вызвал его к себе в каюту.
– Скоро начнем их ставить, – сказал Плетнев.
– У нас всего двое минеров, – ответил Лобачевский.
– Завтра, надо думать, придет отряд моряков с фронта. Там еще кое-кого подыщем. – И Плетнев задумался. – Они прямо лесом идут. Семьдесят пять верст пешим образом, всё свое добро на себе. – Но думал он, видимо, совсем о другом и огрызком карандаша на полях какого-то приказа рисовал рогатую мину заграждения образца восьмого года.
– Значит, мы с вами будем их ставить, товарищ флагманский минер. Может быть, очень даже скоро. Верно я говорю?
Опять он говорил не то, о чем думал, и Лобачевский в ответ только пожал плечами. По целому ряду причин ему вовсе не хотелось заниматься минными постановками, но в конце концов служба была службой.
– Ну, а теперь давайте по-хорошему. – Плетнев открыл ящик стола и вытащил из него пачку чертежей. – Конечно, вы всё это знаете, а только я разные мелочи, может, лучше помню. Разберем, что ли?
Значит, вот к чему клонилось дело. Плетнев хотел ему помочь, но стеснялся это сделать.
– Охотно. – И Лобачевский придвинул стул, чтобы лучше видеть чертеж.
Час спустя он вышел из каюты. Одна из наиболее веских причин его нежелания возиться с минами отпала. Он был в превосходном настроении духа и, спускаясь по трапу на катер, даже посвистывал.
Мотор весело стучал и плевался из выхлопной трубы. Погода стояла на редкость приятная: синее небо, легкие перистые облака и теплый ветер. Рядом с катером сильным шлепком по воде плеснулась какая-то большая рыба. Хорошо бы ее изжарить в сухарях и съесть. Собственно говоря, совсем без дела на флотилии могло стать скучно, а мины сулили множество всяких развлечений.
Развлечения начались значительно раньше, чем он ожидал. Он высадился на баржу и отпустил катер. Потом с решительным видом подошел к ближайшей мине заграждения и постучал по ней пальцем. Но, прислушавшись, кроме звона услышал новый и непонятный звук – ровное, шедшее со всех сторон сразу гудение.
Откуда-то выскочили три человека, и один из них, старшина-минер Точилин, прикрыв глаза рукой крикнул:
– Аэропланы!
Их было целых девять штук, и они строем клина летели на небольшой высоте. Крылья их просвечивали желтым светом, и это было очень красиво. Никакого страха Лобачевский в первый момент не ощутил, но потом вспомнил о минах.
Большие черные шары сплошь перекрыли всю палубу, и в каждом из них было по восемь пудов тротила. Даже одной мины вполне хватило бы, а на барже их имелось сто восемьдесят. Что, если в самую гущу ляжет хорошая бомба?
Старшина Точилин подошел к борту и яростно сплюнул в воду. Оба молодых моряка стояли совершенно неподвижно.
Может быть, аэропланы не обратят внимания? Едва ли. Баржа была заманчивой мишенью и сверху, наверное, выглядела вроде бутерброда с зернистой икрой.
– Смешно, – сказал Лобачевский. Встряхнулся и поглубже засунул руки в карманы. Ему очень хотелось закурить, но рядом с минами этого делать не полагалось, и он решил не подавать дурного примера команде.
Канонерские лодки уже открыли огонь. Бомбомет с «Командарма» прочертил по небу две ровные цепочки дымков. Со всех сторон от летящего клина белыми ватными шариками в густой синеве раскрывались всё новые и новые шрапнельные разрывы. Это опять-таки было очень красиво, но, к сожалению, беспорядочно.
– Всем перейти в нос, – вдруг скомандовал Лобачевский, для того чтобы хоть что-нибудь сделать. Так стоять было просто невыносимо.
– Есть! – откликнулся Точилин. – А ну, шагай! Козорезов, нечего наверх смотреть, ноги переломаешь! Досужный, шевели штанами!
Лобачевский пошел последним. Шел ощупью, потому что не мог оторвать глаз от неба. Теперь клин разделился, и только три машины продолжали лететь по направлению к барже. Их, конечно, было достаточно.
– Мины, – не выдержал Досужный. Его веснушчатое лицо стало серым, и он с трудом ловил воздух широко раскрытым ртом. – Все рванут!
– Брось, – усмехнулся Точилин. – Если бомба тебе на голову ляжет, ты и не узнаешь, рванули они или нет. А не ляжет, так они и рваться не будут. Ясно?
Бомбы уже ложились. Первая – высоким столбом воды саженях в ста по корме, вторая – значительно ближе. Куда придется третья?
Пауза. Бесконечная, томительная, совершенно нестерпимая пауза. Глухой рев моторов и нарастающий дрожащий вой бомбы. Когда же конец?
Водяной столб под самой кормой, и сразу же второй удар – прямо по железу. Желтая вспышка, короткий гром, упругий воздух в лицо и толчок, от которого трудно устоять на ногах. Потом скрежет осколков.

– В порядке! – крикнул Лобачевский. На палубе у левого борта дымилась широкая пробоина, но мины не взорвались.
– Вода, – ответил Точилин. – Слушай!
В трюме шумел водопад, и весь корпус дрожал мелкой дрожью. Водонепроницаемых переборок у баржи не имелось – значит, это было дело нескольких минут.
Досужный вдруг сорвался с места и побежал по левому борту. На бегу сдернул брезент с крышки люка, запутался в нем, но не упал и потащил его к пробоине.
– Не выйдет, – и Лобачевский схватил за руку Точилина. – Стой!
Он совершенно ясно представил себе вывороченные наружу рваные края пробоины. Прилаживать к ним пластырь было почти безнадежно. Срочно требовалось придумывать что-нибудь другое.
– Руби канат! – скомандовал Лобачевский. – За кормой отмель.
Точилин схватил лом. Теперь можно было повозиться с пластырем. Аэропланы, развернувшись, кажется, снова собирались налететь, но думать о них было некогда.
Досужный аккуратно раскладывал брезент. Лицо его снова приняло нормальную окраску, и вид у него был такой, будто он занят самым обычным делом.
– Молодчинище! – И Лобачевский тоже взялся за брезент. – Чуть подальше в нос протянуть!
Из пластыря, конечно, ничего не получилось. Вероятно, пробоин было несколько штук, а брезент ложился куда не надо, и даже вчетвером с ним нельзя было сладить.
Баржа совсем низко сидела в воде, особенно кормой, но ее уже несло по течению. Успеет донести до отмели или нет?
Через кормовые клюзы на палубу внезапно хлынула вода. Она, вероятно, была холодноватой, и купаться совсем не хотелось. В трюме плескались форменные волны. Донесет или нет? Скорее, что нет. Но баржа с мягким толчком врезалась кормой в грунт, и Лобачевский поднял голову:
– Сидим. Красота!
Река уже была на уровне палубы. Чтобы не заливало ноги, пришлось лезть на первую попавшуюся мину. Вода лилась через все люки, бурлила и кипела, как в котле. Теперь стремительно опускался нос. Его уже перехлестнуло волной. Что дальше?
Но дальше всё было благополучно. Баржа всем корпусом села на мель. Над носовым люком лопнул последний воздушный пузырь, и вода успокоилась. Только тогда Лобачевский заметил, что аэропланы уже улетели, а к барже полным ходом шли сразу три моторных катера.
– Представление окончилось, – сказал он. Положил руку на горловину соседней мины и неожиданно нащупал еще теплый осколок бомбы. Спрятал его в карман и покачал головой. Могло кончиться много хуже.
На катер он ухитрился перебраться почти не замочив ног. Снял с баржи всех людей, сам взялся за штурвал катера и наискось через реку повел его к «Ильичу».
Плетнев ждал его у трапа. Позади в молчании стоял весь штаб, а за штабом толпилась команда парохода. Ярко светило солнце, сцена была превосходная, и зрителей было вполне достаточно.
– Разрешите доложить, товарищ командующий! – Голос Лобачевского звучал звонко и весело. – Баржа по всем правилам военно-морского искусства посажена на мель, и разгрузка ее трудностей не представляет. Убитых и раненых не имеется. Кроме небольшого попадания аэропланной бомбой, никаких особых происшествий не случилось.
– Есть. – Плетнев провел рукой по подбородку и улыбнулся. – Ну, а с минами вы ознакомились?
– Немножко, – ответил Лобачевский, – но достаточно.
Плетнев кивнул головой:
– Идем, значит, обедать.
10
У Бахметьева было напряженное, взволнованное лицо. Он усиленно старался раскурить свою папиросу и даже не замечал, что она у него потухла.
– Почему я служу у большевиков? – подняв брови, переспросил Лобачевский.
Он после ужина отдыхал на своей койке и вовсе не расположен был вести разговоры на серьезные темы. Впрочем, и в любое другое время он предпочитал их избегать. На кой черт Бахметьев лез к нему с такими дикими вопросами?
– Почему я служу у большевиков? Вероятно, по той же самой простой причине, что и ты. Где-нибудь служить всё равно нужно, и к тому же мобилизация. Какие у меня политические убеждения? Никаких, друг мой, совсем никаких. Больше тебе скажу: нам с тобой иметь их не полагается… Лучше возьми спички, если хочешь курить.
Лобачевский бросил на стол коробок, откинулся на спину и заложил руки за голову.
– Впрочем, кое-какие убеждения у меня есть. Я, например, убежденный любитель хорошего общества. Почему я пошел на фронт? Во-первых, потому, что меня послали; во-вторых, потому, что в – силу железного закона войны на фронте всегда собирается значительно лучшее общество, нежели в тылу. Вот тебе ответ на твой последний вопрос. Ты удовлетворен?
Бахметьев молчал. Он стыдился своей откровенности и жалел, что напрямик заговорил именно с Борисом Лобачевским. Можно было заранее предвидеть все его ответы, а значит, не стоило и спрашивать.
– Между прочим, – продолжал Лобачевский, – я не ошибся. Общество здесь вполне приличное. Не говоря даже о присутствующих, которые, конечно, соль земли. – И, приложив руку к сердцу, он отвесил изысканный поклон, который в его лежачем положении получился довольно нескладным.
– Возьмем хотя бы комфлота Семена Плетнева. Он меня просто поразил. Я никогда в жизни не думал, что у обыкновенного минера может быть столько такта и такое превосходное чувство юмора. И возьмем еще двоих минеров: Точилина и Досужного. Ты с ними, кажется, еще незнаком, но смею тебя уверить, оба они весьма достойные люди… Мне начинает казаться, что минная специальность облагораживает душу. Что ты на это скажешь?
За всей шелухой острословия у Лобачевского всё же проскакивали кое-какие новые для него мысли. Он бесспорно всерьез говорил о всех своих трех приличных людях, а из них ни один не окончил Морского корпуса. Это уже было кое-каким прогрессом. В конце концов разговор начался не зря, и теперь следовало довести его до полной ясности.
Бахметьев наклонился вперед:
– Милях в семнадцати к северу отсюда стоят английские мониторы. Думаешь, на них общество хуже?
Лобачевский взял со стола папиросу, не спеша ее закурил, пустил аккуратное кольцо дыма и дождался, пока оно, расплывшись в воздухе, не дошло до подволока.
– Знаешь, друг мой, может быть, и не хуже, только не для нас с тобой. Англичане, как известно, просвященные мореплаватели и всякое прочее, но тем не менее…
Лобачевский вдруг вскочил и опустил ноги с койки:
– Тем не менее идем в кают-компанию. Там могут дать чаю, а после воблы мне всегда хочется пить.
Он явно уклонялся от прямого ответа, и нажимать на него, конечно, не имело смысла. Бахметьев тоже встал:
– Ладно, идем.
В большом салоне парохода ярко горело электричество. На широких окнах зеркального стекла висели бурые матросские одеяла. Они были безусловно необходимы для затемнения корабля на предмет возможных аэропланных налетов, но рядом с красным деревом и бронзой выглядели странно.
На полукруглом угловом диване сидели Малиничев, тучный Бабушкин и крайне юный круглолицый флаг-секретарь Мишенька Козлов.
Малиничев ораторствовал:
– Вы понимаете? Новая обстановка, естественно, требует новых методов. Всякий консерватизм в данном случае просто глупость.
– Вы про что? – поинтересовался Лобачевский, и Малиничев повернулся к нему:
– Мы тут рассуждаем о нашем положении. По-моему, бывший комфлот Иван Шадринский показал себя безнадежным идиотом. Он, видите ли, учитывал превосходство сил противника, а потому придерживался оборонительного образа действий, то есть, попросту говоря, ничего не делал. Он не учитывал самого главного: в такой войне, как наша, побеждает не броня и не тяжелая артиллерия, а революционный дух!
Малиничев даже шлепнул ладонью по столу. Он явно упивался своими словами, и на его бледных щеках появились два розовых пятна.
– Командование красной флотилией требует от своего командующего создания новой, еще небывалой красной тактики, и в основе этой тактики должны лежать решимость, готовность нападать при любых обстоятельствах!
Бахметьев своим ушам не верил. Если бы то же самое говорил какой нибудь большевистский оратор на митинге, это было бы понятно и даже правильно. Но Малиничев? Неужели он воображал, что его слова примут всерьез? С ума он сошел, что ли?
И, подняв глаза, Бахметьев в зеркале напротив увидел фигуру остановившегося в дверях Семена Плетнева. Значит, вот в чем была причина малиничевского красноречия. Любезнейший Олег Михайлович хотел как следует втереть очки начальству. Выйдет ли?
– Внезапный удар, – продолжал Малиничев. – Вы представляете себе, чт о получится, если ночью наши канлодки потихоньку спустятся по течению и в темноте набросятся на стоящего на якорях противника? Если сухопутные части одновременно ударят по всей линии прибрежного фронта? Если наша авиация поддержит внезапную атаку своими бомбами?
Бахметьева охватила злость. Это была какая-то бредовая чепуха… Глупость, выходящая за пределы дозволенного.
– Если ночь будет темной, вы потихоньку сядете на мель и утром вас потихоньку раздолбают, – с трудом сдерживаясь, сказал он. – Но поскольку в наших широтах сейчас стоят белые ночи, вас раздолбают сразу же и на ходу. Вы тоже кое-чего не учитываете. Вы, например, забыли, что разговариваете со взрослыми, грамотными людьми.
Малиничев вскочил на ноги. Вся краска сбежала с его лица, и он расширенными глазами уставился на Бахметьева. Казалось, он сейчас на него бросится, но в напряженной тишине раздался голос Плетнева.
– Добрый вечер, – сказал он. Подошел к столу, медленно опустился в кресло и, наклонившись вперед, ладонью подпер щеку. – Отдыхаете?
– Так точно, – ответил флаг-секретарь Мишенька Козлов. У него было растерянное лицо и совершенно красные уши. Он никак не мог понять того, что происходило.
– Очень интересно отдыхаем, – подтвердил Лобачевский.
Малиничев стремительно сел и отвернулся. Он, видимо, чувствовал себя очень неважно, но жалеть его не приходилось.
– Скотина, – еле слышно пробормотал Бахметьев.
– Это правильно, что отдыхаете, – продолжал Плетнев, – работы сегодня хватало и завтра хватит. – И, задумавшись, неожиданно спросил: – Память у вас хорошая, товарищ Лобачевский?
– Самая лучшая во флотилии.
– А ну, посмотрим. – И Плетнев улыбнулся. – Однажды вы сказали, что станете флагманским минером, и, между прочим, не ошиблись. Помните, когда это было?
– Я сказал? – не поверил Лобачевский. – Едва ли. Минное дело всю жизнь было для меня загадкой, которую я отнюдь не стремился разгадать. Только здесь мне пришлось с ней столкнуться, р то совершенно случайно.
Плетнев покачал головой:
– Небогатая память. Совсем небогатая. Вы это сказали генерал-майору Грессеру в минном кабинете Морского корпуса. Было это в середине февраля семнадцатого года. В самые последние дни царской власти.
– Верно, – вдруг вспомнил Бахметьев. – Я в этот день как раз опоздал на репетицию, а потом… потом вы мне подсказывали насчет изготовления торпеды к выстрелу.
– Двенадцать баллов мы с вами получили за это дело, не так ли? – всё еще улыбаясь, спросил Плетнев.
– Ну, конечно, двенадцать. – И Бахметьев тоже улыбнулся. О Малиничеве он уже забыл. Он совершенно ясно видел перед собой Плетнева, каким он был в корпусе, – широкоплечего, молчаливого матроса с унтер-офицерскими нашивками. Почему он теперь выглядел как-то моложе?
Лобачевский развел руками:
– Признаю свое поражение. Теперь я действительно припоминаю, что сбрехнул Лёне Грессеру что-то в этом роде. И выходит – оказался пророком. Красота!
– Разве вы все вместе учились? – спросил Мишенька Козлов. Он наконец обрел дар слова и решил непременно принять участие в разговоре.
– Нет. Я у их благородий инструктором был. Таскал всякие тяжелые предметы и докладывал, что как называется. – И Плетнев задумался.
– Смешно у нас бывало в минном кабинете, – сказал Лобачевский. – Помните, как Леня убил змею?
– Ну, как же, – ответил Плетнев, – этого не забудешь.
– В минном кабинете? – удивился Мишенька. – Откуда же она там взялась?
Плетнев рассмеялся.
– В кабинете! Минер, объясните ему, в чем дело. – И Лобачевский объяснил.
В корпусе существовала старинная, веками освященная система «заряжать» преподавателей, иными словами – заставлять их рассказывать о всевозможных посторонних вещах.
Генерал-майор Грессер был по заслугам награжден прозвищем «самозаряжающийся Леня». Он с удовольствием рассказывал о чем угодно и чаще всего о том, как он убил змею.
«– Вот иду я с Верочкой (и голос у Лобачевского зазвучал глухим генеральским басом).
– А что, эта Верочка молоденькая? – интересуется класс.
– Чепуха, – ворчит Леня. – Верочка – моя дочь. Ей тогда было шесть с половиной лет. И вдруг вижу – она ползет из кустов.
– Верочка? – удивляются слушатели.
– Да нет же. Змея, конечно. С какой стати Верочка будет ползать в кустах. Тут я схватил…
– Змею? Верочку?
– Фу, глупые мальчишки! Палку! Зачем мне хватать змею или Верочку? Ну и трах ее по голове!
– Ой, неужели Верочку?»
– Тут уже Леня окончательно выходил из себя и ругался не меньше пятнадцати минут без перерыва. Получалось замечательно весело.
– Замечательно, – согласился Плетнев. – Только минное дело от этого веселья страдало. Плоховато вы учились, товарищи гардемарины. – Встал, подошел к одному из выходивших на корму окон и поднял одеяло.
За окном стоял сплошной туман. Даже труба ошвартовавшегося у борта буксира казалась плоской и будто полупрозрачной, а канонерских лодок вовсе не было видно.
– Ну, минер, сегодня вам практики не будет. Мины пойдем ставить завтра. – Подумал, опустил одеяло и, в упор взглянув на Малиничева, закончил: – Революционный дух у нас имеется, однако мы, пока что, тоже будем придерживаться оборонительного образа действий.
11
Это было шуткой, самой обыкновенной и неплохо задуманной шуткой, а получилось из этого черт знает что.
Ему захотелось разыграть всех этих ослов, и он превосходно вошел в свою роль. Пожалуй, даже слишком хорошо. Наболтал такого, что попал под подозрение. Какими странными глазами смотрел на него Плетнев!
Осторожно ступая, Малиничев шел по косогору. Шел сквозь густой туман, по рыхлой, осыпавшейся под ногами земле. Где-то впереди, вероятно, уже совсем близко, стоял его корабль. Вернее, не корабль, а проклятая посудина.
Мальчишка Бахметьев прямо его обхамил, и это было еще хуже, чем холодный взгляд Плетнева. Не так опасно, зато совершенно невыносимо… «Вы тоже кое-чего не учитываете…» Прохвост желторотый!








