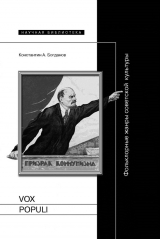
Текст книги "Vox populi: Фольклорные жанры советской культуры"
Автор книги: Константин Богданов
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
О мифе
За четыре года до выступления Горького понятие «миф» удостоилось скандального внимания в связи с историей, развернувшейся вокруг публикации книги Алексея Лосева «Диалектика мифа» (1930). Прежние книги Лосева, формально посвященные античной философии и эстетике, но имевшие своей целью создание системного онтологического учения [305]305
Античный космос и современная наука. М., 1927; Музыка как предмет логики. М., 1927; Диалектика художественной формы. М., 1927; Философия имени. М., 1927; Диалектика числа у Плотина. М., 1928; Критика платонизма у Аристотеля. М., 1929; Очерки античного символизма и мифологии. М., 1930. Т. 1; Диалектика мифа. М., 1930.
[Закрыть], не замедлили вызвать осуждение со стороны критиков, радевших о «чистоте» марксистско-ленинской доктрины. Характеристики Лосева как реакционера встречаются начиная с 1929 года [306]306
Бачелис И.Бессмертие от мертвых идей. Академия Худ. Наук в плену у реакционеров. Требуем вмешательства пролетарской общественности // Комсомольская правда. 1929.20 февраля; О последнем выступлении механистов // Под знаменем марксизма. 1929. № 10/11. С. 12–13; Григорьев М. М.Реакционная «диалектика». Эстетическая система Лосева// На литературном посту. 1930.
[Закрыть], но выход «Диалектики мифа» закончился для ее автора арестом (формальным поводом к которому послужил ряд мест, исключенных цензурой и самолично восстановленных Лосевым в напечатанном тексте).
В «Диалектике мифа» Лосев ставил перед собой задачу определить миф как таковой – «без сведения его на то, что не есть он сам», исходя из негативных феноменологических описаний мифа («миф не есть…»), чтобы вывести в конечном счете детавтологизирующую формулу, определяющую миф как синтез личностного и чистого опыта. «Монизм» мифа выражается, по Лосеву, в том, что он являет собою и форму и сущность: это «вещь» и «имя», категория сознания и само сознание, категория бытия и «творимая вещественная реальность», «личностная история» и ее идеальное задание. Обобщающая формула Лосева определяла миф как чудо – понятие, призванное в терминологии Лосева «диалектически» (т. е. «денатуралистически» и «деметафизически») примирить антиномии и антитезы личностной эмпирики и чистой логики. Понятия, синонимически прилагавшиеся Лосевом к «мифу», – «действительность», «символ», «личность», «субъект-объектное взаимообщение» – предельно осложнили последующие дискуссии исследователей лосевской философии о ее собственно философских основаниях: традиция денатуралистической феноменологии Эдмунда Гуссерля и Эрнста Кассирера в учении Лосева о мифе прихотливо соотносится с традицией мистического (и, в частности, православно-исихастического) познания сущего [307]307
Гоготишвили Л. А.Коммуникативная версия исихазма // Лосев А. Ф. Миф. Число. Сущность. М., 1994. С. 878–893. См. также: Гоготишвили Л. А.Ранний Лосев // Вопросы философии. 1989. №. 7. С. 132–148.
[Закрыть].
В Институте философии Коммунистической академии «идейный облик» арестованного Лосева стал предметом поспешного поношения в докладе Хаима Гарбера, выразившего удовлетворение арестом «философа православия, апологета крепостничества и защитника полицейщины» и уверенность в том, что контрреволюционная деятельность Лосева «не остановит всепобеждающей поступи социализма» [308]308
Гарбер X.Против воинствующего мистицизма А. Ф. Лосева // Вестник Комакадемии. 1930. № 37/38. С. 131–144.
[Закрыть]. Еще через месяц Лазарь Каганович, выступавший с докладом на XVI съезде ВКП(б), привел Лосева как пример, поучительно демонстрирующий правоту сталинского тезиса об обострении классовой борьбы «по линии культуры» и наличии недостатков в работе «организации политической активности масс». Под смех и аплодисменты зала Владимир Киршон (драматург и один из влиятельных лидеров РАППа) выкрикнул с места, что таких, как Лосев, надо «ставить к стенке» (по злой иронии судьбы, самого Киршона «поставят к стенке» спустя восемь лет; та же участь постигнет и Гарбера).
В конце 1931 года свою лепту в публичное шельмование Лосева (уже как год находившегося на лагерном строительстве Беломорско-Балтийского канала) внес Максим Горький. В статье «О борьбе с природой», одновременно опубликованной в газетах «Правда» и «Известия» 12 декабря 1931 года, Горький именовал автора «Диалектики мифа» примером «особенно бесстыдного лицемерия из числа „буржуазных мыслителей“», «очевидно малограмотным», «явно безумным», «сумасшедшим», «слепым», «морально разрушенным злобой» «идиотом», одним из тех «мелких, честолюбивых, гниленьких людей», кто «опоздали умереть», но «гниют и заражают воздух запахом гниения» [309]309
Горький М.О борьбе с природой // Правда. 1931. 12 декабря (Известия. 1931. 12 декабря); Горький М.Собрание сочинений: В 30 т. М., 1952. Т. 26. С. 186–198.
[Закрыть].
Причины, побудившие жившего в ту пору вдали от советской России Горького обрушиться с запоздалой бранью на Лосева, не совсем ясны. В статье приводились два возмутивших Горького суждения Лосева: о русском народе, переставшем быть православным, и рабском сознании рабочих и крестьян. Но не исключено, что свою роль в накале горьковской патетики сыграли, как предположил Леонид Кацис, антисемитские подтексты, вычитывавшиеся из известной Горькому расширенной рукописной версии «Диалектики мифа» (или каких-то отдельных рассуждений Лосева, зафиксированных в следственных делах ОГПУ) [310]310
Кацис Л.А. Ф. Лосев. B. C. Соловьев. Максим Горький. Ретроспективный взгляд из 1999 года // Логос. 1999. № 4 (14). С. 68–95. Материалом для предположений Л. Кациса послужила подборка документов: «Так истязуется и распинается истина»… А. Ф. Лосев в рецензиях ОГПУ // Вестник Архива Президента РФ. 1996. № 4 (23). С. 115–129. К сожалению, как справедливо (хотя и с излишней грубостью ad personam) подчеркивает Д. Иоффе, Кацис, настойчиво выискивающий в русской культуре все новых и новых антисемитов, нарочито не различает традиции религиозно-историософского антииудаизма и общественно-политического («погромного») антисемитизма, в котором Лосев обвинен быть никак не может ( Иоффе Д.Казус Ушельца, или Рефлексия о методологии постмодернизма середины девяностых годов // Топос. 2002. 28 октября – http://topos.ru/article/627).
[Закрыть]. Нетерпимое отношение Горького к антисемитизму известно и в общем позволяет предполагать, что если не содержательно, то каким-то ассоциативным образом «нелегальная брошюра профессора философии Лосева» связалась в его сознании с занимавшими его в это время темами (в 1929 и 1931 годах Горький пишет две отдельные статьи, посвященные антисемитизму) [311]311
Горький М.Об антисемитах // Правда. 1929. 26 сентября (позднее вошла в сб.: Горький М. Публицистические статьи. М., 1931); Горький М.Об антисемитах // Правда. 1931. 24 июля. В существующие Собрания сочинений Горького ни та ни другая статья не вошли.
[Закрыть].
Остается гадать, насколько внимательно Горький читал лосевскую «брошюру», но его собственные рассуждения на Первом съезде советских писателей о мифе как о воплощенном в образ «основном смысле», извлеченном «из суммы реально данного», «вымысле» и одновременно «реализме» вполне созвучны лосевской идее «диалектического» синтеза идеального и реального. При всей интеллектуальной несопоставимости Лосева и Горького, данные ими определения мифа равно подразумевают его принципиальную «детекстуализацию»: миф – это не текст, но нечто, что может им стать.
Годом позже Горький конкретизирует свою «мифологическую» формулу реализма в терминах «трех действительностей»: от советских писателей отныне требуется «знать не только две действительности – прошлую и настоящую», но и «ту, в творчестве которой мы принимаем известное участие <…> – действительность будущего». Изображение такой – еще не наступившей, но… уже наступившей действительности – является, по Горькому, необходимым условием «метода социалистического реализма» [312]312
«Мы должны эту третью действительность как-то сейчас включать в наш обиход, должны изображать ее. Без нее мы не поймем, что такое метод социалистического реализма» ( Горький М.Наша литература – влиятельнейшая литература в мире. Речь на втором пленуме Правления Союза советских писателей 7 марта 1935 // Горький М. Собрание сочинений: В 30 т. М., 1953. Т. 27. С. 419).
[Закрыть]. Содержательная бессмысленность горьковской риторики не означала ее неэффективности. Примирение взаимоисключающих понятий – сказки и действительности, вымысла и реализма – создает особый пафос пропагандистских предписаний, заставлявших критиков задаваться заведомо иррациональными вопросами: какую меру идеализации допускает соцреализм, коль скоро «жизнь наша настолько богата, <…> что нужна великолепная фантазия, чтобы представить это» [313]313
Гапошкин В.К вопросу о социалистическом реализме // Искусство. 1934. № 2. С. 8. Подробно: Добренко Е.Политэкономия соцреализма. М., 2007. С. 93–106.
[Закрыть], и как, в частности, определиться с тем, что называть сказочным жанром, когда «социалистическая наша действительность во многом опередила воплощенные в народных сказках чаяния»? [314]314
Бегак Б.Проблема литературной сказки // Книга и пролетарская революция. 1936. № 6.
[Закрыть]
Учитывая избирательную узость «культурного контекста», в котором слова Горького легко приобретали дидактический авторитет, можно думать, что и сами эти слова, и та пропагандистская патетика, которая диктовала ему представление о «мифе» как синониме «вымысла» и «реализма», соотносятся и с теми лексикологическими новшествами, которые выразились в существенном расширении значения самого понятия «миф» в его специализированно научном употреблении.
Разговорное и литературное употребление термина «миф» в русском языке XIX и начала XX века подразумевало представление о словесном сообщении(рассказе, повествовании), содержание которого не вызывает доверия [315]315
Черных П. Я.Историко-этимологический словарь русского языка. М., 1993. Т. 1. С. 535; Михельсон М. И.Русская мысль и речь. Свое и чужое. Опыт русской фразеологии. СПб., 1912. С. 431.
[Закрыть]. Научно специализированные (прежде всего филологические, но также фольклорно-этнографические и религиоведческие) истолкования понятия «миф» также существенно не разнились, хотя и допускали важные уточнения относительно степени достоверности мифологического повествования для различных аудиторий. Сообщение о событиях, которые представляются нам невероятными, не означает, что ему никто не верил и не верит, – хотя и показательно, что уже у Платона понятие «миф» употребляется в контекстах, подчеркивающих именно возможность сомнения в его достоверности. Миф – это не более чем «правдоподобный» рассказ или «правдоподобное» рассуждение, соответствующее конвенциональности человеческих знаний как таковых [316]316
«Мы должны радоваться, если наше рассуждение окажется не менее правдоподобным, чем любое другое, и при этом помнить, что и я, рассуждающий, и вы, мои судьи, всего лишь люди, а потому нам приходится довольствоваться в таких вопросах правдоподобным мифом (ειχότα μύθον), не требуя большего» (Tim. 29 bd. Пер. С. Аверинцева. См.: Там же. 30Ь. Подробно о принципиальной неверифицируемости мифа – в отличие от доступного перепроверке и опровержению логоса: Brisson L.Introduction à la philosophie du myth. Tome 1: Sauver les mythes. Paris, 2002).
[Закрыть].
Фольклорно-этнографический интерес к мифологическим повествованиям вне сферы греко-римской мифологии (и, соответственно, вне традиции классической филологии) существенно осложнил оценку мифа – как «извне», так и «изнутри» соотносимого с ним культурного контекста. «Достоверность» содержания мифа ставится в зависимость от его эвристической, социально-психологической и культурной функции и эпистемологически отсылает к особенностям интеллектуальных процедур, направленных на объяснение действительности (в терминах анимизма – у Эдуарда Тэйлора, Герберта Спенсера, Эндрю Лэнга, Лео Фробениуса, в терминах натуризма – у Адальберта Куна, Макса Мюллера, Федора Буслаева, Ореста Миллера), к переживанию ритуала (у Джеймса Фрэзера), к сфере народной психологии, находящей в «мифе» свое иррациональное «выражение» («дух народа» – у Вильгельма Вундта), к поэтике (у Александра Потебни, Александра Веселовского) [317]317
Подробнее о понятии «миф» в западноевропейской и российской науке: Мелетинский Е. М.Поэтика мифа. М., 1976; Топорков А. Л.Теория мифа в русской филологической науке XIX века. М., 1997.
[Закрыть]. В конечном счете интерпретативная ревизия понятия «миф» не прошла безрезультатно и для самой классической филологии, в которой понятие это стало, с одной стороны, указывать на некое социальнозначимое повествование о сверхъестественном, а с другой – на некоторые стоящие за ним мировоззренческие представления – историю человеческого сознания (у Германа Узенера), интуитивную убедительность нуминозного опыта (у Ульриха фон Виламовица-Мюллендорфа, Вальтера Отто) и т. д. [318]318
Обширная сводка определений мифа в традиции классической филологии дана Шарлем Делатром в предисловии к «Пособию по греческой мифологии»: Delattre С.Quelle définition du myth // Delattre С. Manuel de mythologie grecque. Rosny-sous-Bois, 2005. P. 5–62. См. также: Hubner K.Die Wahrheit des Mythos Verlag C. H. Beck. Munchen, 1985 (есть русское издание: Хюбнер К.Истина мифа: М.: Республика, 1996).
[Закрыть] В России предпосылки для расширительного истолкования «мифа» и «мифологии» применительно к коллективной психологии и, как мы сегодня бы сказали, когнитивистике оправданнее всего, по-видимому, связывать с авторитетными в начале XX века работами Потебни (полагавшего возможным говорить о мифологическом мышлении как о мышлении, которое не различает образ и значение [319]319
Потебня А. А.Из записок по теории словесности. Харьков, 1905. С. 406.
[Закрыть]) и Дмитрия Овсянико-Куликовского, определявшего мифологическое мышление как мышление именами существительными. Для ранних стадий человеческого развития такое мышление, по мнению ученого, было безальтернативным: никакого иного мышления, помимо мифологического, первобытный человек не знал [320]320
Овсянико-Куликовский Д. И.Психология мифа и первобытных верований. СПб., 1908. С. 41–44.
[Закрыть].
Так или иначе, при всех своих смысловых и дисциплинарных вариациях до середины 1920-х годов понятие «миф» не меняется в главном: миф – это некий словесный текст, фиксирующий собою сообщение, которому можно верить и не верить одновременно, дискурс «неопределенной степени достоверности» [321]321
Пользуюсь удачной формулировкой Дмитрия Панченко: Випперовские чтения. 1985. Жизнь мифа в античности. М., 1988. Ч. 1. С. 167, след.
[Закрыть]. Иллюстративным примером такого рода во мнении читателей тех лет могла служить знаменитая книга Артура Древса «Миф о Христе» (1909) (содержание которой Ленин охарактеризовал в фольклорно-этнографических терминах: «Известный немецкий ученый, Артур Древе, опровергая в своей книге „Миф о Христе“ религиозные предрассудки и сказки, доказывая, что никакого Христа не было, в конце книги высказывается за религию, только подновленную, подчищенную, ухищренную») [322]322
Ленин В. И.Полное собрание сочинений. Т. 33. С. 205. В СССР книги Древса активно переводились: в 1920-е годы «Миф о Христе» вышел несколькими изданиями, тогда же были изданы: «Жил ли апостол Петр?» (М., 1924); «Жил ли Христос?» (М., 1928); «Миф о Деве Марии» (М., 1926); «Отрицание историчности Иисуса в прошлом и настоящем» (М., 1930).
[Закрыть].
В 1930-е годы ситуация существенно меняется. Из сферы хотя и разнодисциплинарного, но так или иначе предметногоизучения мифов (интересовавших исследователей прежде всего как записи тех или иных текстов)внимание ученых смещается в сторону абстрактных концептуализаций, даже теоретически не предполагающих для себя сколь-либо определенных референтов. В концепции Э. Кассирера понятие «миф» указывает на «изначальный акт духа», предпосылочный к содержанию культуры: это и ядро языка (вопрос о происхождении языка и вопрос о происхождении мифа, по Кассиреру, есть один вопрос), и источник человеческого сознания (исторически формирующий религию, искусство, науку, право), и «изначальная форма жизни»: существование мифа интеллигибельно и вместе с тем онтологически действенно, символично и реально. Миф обладает не только воображаемым, иллюзорным, но и самостоятельным бытием: он лежит в основе культуры. Но именно поэтому любая форма дифференциации, мыслимая для человека, пребывающего в языке и культуре, не только (пред)определяется мифом, но и содержит в себе миф. В стремлении вывести миф из сферы его психологического истолкования (инициированного Вундтом и продолженного, применительно к индивидуальной и личностной психологии, Фрейдом и его последователями) Кассирер вернул мифу неокантианский статус «чистого» существования, но не избежал характерного парадокса, сближающего тезис о логическом «всеприсутствии» мифа с тезисом о психологической (и, в свою очередь, психоаналитической) «самопроизвольности» мифологических экспликаций. Многообразие символического – языкового, образного и умозрительного – «бытия» мифа в дескриптивном отношении мало отличимо от психоаналитического описания мифа в терминологии «бессознательного» (о котором, перефразируя остроумное замечание М. К. Мамардашвили и А. М. Пятигорского, вполне можно было бы сказать, что, не зная о нем ничего, мы все же знаем о нем гораздо больше, чем о сознании [323]323
Мамардашвили М. К., Пятигорский А. М.Символ и сознание. Метафизические рассуждения о сознании, символике и языке. М., 1997. С. 51. Авторы пишут о том, что аналитическое понимание сознания «обнаружило свою полную бессодержательность именно в результате введения бессознательного».
[Закрыть]).
В советской науке пика терминологической эзотерики (заметной уже в текстах Лосева и Горького) интерпретация понятия «миф» достигнет в книге О. М. Фрейденберг «Поэтика сюжета и жанра» (1936). Здесь миф хотя и историзуется (в противовес его пониманию у Лосева), но функционально оказывается не менее тотальным в референциальной неразличимости текста, действия и сознания. Позитивистское истолкование мифа (характерное, по мнению Фрейденберг, для предшествующих исследований мифологии) предполагало, что «миф есть продукт народного творчества». «Современное учение о мифе», связываемое автором преимущественно с Марром и Франк-Каменецким, исходит из иного понимания, определяющего миф как «всеобщую и единственно возможную форму восприятия мира на известной стадии общества» [324]324
Фрейденберг О. М.Поэтика сюжета и жанра. Л., 1936. С. 13, 14.
[Закрыть]. Истолкование мифа как «особой мировоззренческой формы» противопоставляется при этом не только его позитивистской интерпретации (с характерным для нее, по Фрейденберг, пороком – опорой на современный «здравый смысл» [325]325
Фрейденберг О. М.Поэтика сюжета и жанра. С. 20.
[Закрыть]), но также его «идеалистическому» истолкованию как «примата над бытием». Последнее «искажение» Фрейденберг считает, в частности, «спрятанным» в словах Лосева «Миф есть наиболее реальное и наиболее полное осознание действительности» (хотя можно заметить, что именно в этих словах никакого «примата мифа над бытием» не утверждается) [326]326
Фрейденберг О. М.Поэтика сюжета и жанра. С. 365.
[Закрыть]. «Вторичность» мифа, по Фрейденберг (как и вторичность языка, по Марру), соответствует постулату о вторичности надстройки к базису. Изменения языка и изменения мифа предопределяются свойствами базиса, изменяющегося в виду неустранимости классовых противоречий и изменяющего, в свою очередь, надстроечные формы действительности – формы мышления, языка, культуры, этики и т. д. На фоне работ Марра ничего концептуально нового в истолковании мифа у Фрейденберг нет, – за исключением того, что классификационный критерий, позволяющий говорить о тех или иных надстроечных формах действительности по меньшей мере как о «продуктах» мышления и деятельности, в данном случае снимается «по умолчанию», мифу априори вменяется способность «поглощать» и язык, и действие, и само мышление. При всех оговорках Фрейденберг об историчности (а точнее – о неопределенной архаичности) «тотального» мифа, соответствующего «всеобщей и единственно возможной форме восприятия мира», невозможно сказать, что для времени искомой всеобщности неявляется мифом. Содержательная синестезия слова, действия и мышления объясняется (а точнее, декларируется) Фрейденберг с опорой на концепцию Люсьена Леви-Брюля о дологическом мышлении, дающую, с одной стороны, достаточную основу для выработки надлежащего метода, «освобожденного от современного „здравого смысла“» [327]327
Фрейденберг О. М.Поэтика сюжета и жанра. С. 20.
[Закрыть], а с другой – «возможность изучения семантики, которая оказывается не плодом „народного творчества“ и „народной поэтической фантазии“ <…>, а историческим этапом сознания, реагирующим на реальную действительность» [328]328
Фрейденберг О. М.Поэтика сюжета и жанра. С. 29.
[Закрыть]. Понятно, что, выражая собою особенности «дологического» («синтетического», «комплексного», «диффузного») мышления, такая реакция оказывается предсказуемо вакантной к любым операциональным и дискурсивным (с точки зрения «здравого смысла») противоречиям. Действенность мифа определяется действенностью эмоциональной суггестии – тем, что сама Фрейденберг определяет как «антикаузальность» соответствующего ему мышления, хотя более точным термином в данном случае представляется термин Вундта, употребляемый им в работе «Миф и религия»: Zauberkausalität – магическая причинность.
Своеобразие мифологического мышления, – качественно отличающее его, по мнению Фрейденберг, «от нашего» мышления, – выражается (в парадоксальном противоречии с тем, каким образом можно вообще судить о качественно ином мышлении) в характеризующем его «тождестве причины и следствия», слитности «прошедшего» и «последующего», а также в «восприятии пространства как вещи». При таких предпосылках интерпретация античных (как и любых других) текстов закономерно оказывается у Фрейденберг никак не связанной с исследованием явлений, лежащих «за мифом в качестве его генетической причины» [329]329
Фрейденберг О. М.Поэтика сюжета и жанра. С. 30.
[Закрыть], но лишь фантазиями на предмет самого мифологического мышления, способного и должного объяснять собою именно то, что «нашему мышлению» принципиальнопротиворечит. Предсказуемым парадоксом при этом явилось то, что об ограниченности «здравого смысла» и безграничности мифологического мышления судить поневоле пришлось самой Фрейденберг [330]330
Невысокая научная репутация Фрейденберг у современных филологов-классиков (отвлекаясь от дисциплинарной квалификации исследовательницы: Панченко Д.Журнал «Метродор» и нонконформистская критика структуралистского литературоведения // Новое литературное обозрение. 1995. № 15. С. 149; Жолковский А.Совершитель Гаспаров // Новое литературное обозрение. 2006. № 77. С. 80) достаточно объясняется тем, что, даже если согласиться, что работы Фрейденберг могут считаться продолжением кассиреровской традиции философствования о мифе, они не имеют отношения к позитивистической традиции классической филологии, требующей считаться с особенностями текстов, а не с особенностями стоящего за ними мышления. Попытки «онаучить» тексты Фрейденберг расширением ссылочного аппарата в этом случае только усиливают впечатление об их филологической маргинальности, так как говорят не о том, что было важно для самой исследовательницы, а об эрудиции комментатора, ретроспективно контекстуализирующего ее текст (см., напр., комментарий С. А. Старостина в издании: Фрейденберг О. М.Миф и литература древности. 3-е изд. / Подг. Н. В. Брагинской. М., 2008). Если же такой эрудиции не наблюдается, то невостребованность творческого наследия Фрейденберг в последующей традиции классической филологии оказывается тем объяснимее, чем более апологичному реферированию удостаиваются ее идеи (развернутый пример такой апологии: Perlina N.Ol’ga Freidenberg’s Works and Days. Bloomington: Slavica Publishers, 2002). Впрочем, агиографическая «защита» Фрейденберг привычно ведется в плоскости эмоций – перечня благодеяний, за которые ей должны быть благодарны ее современники филологи-классики: Галеркина Б. Л.Минувшее – сегодня // Russian Studies / Etudes Russes / Russische Forschungen. Ежеквартальник русской филологии и культуры. 1996 (1998). Т. II. №. 4. С. 353–433. (Существуют, впрочем, и иные воспоминания, си:. Лурье Я. С.История одной жизни. СПб., 2004. С. 135–138.) Особенно занятны в этом ряду многочисленные статьи Н. Брагинской, не устающей порицать любого, кто не торопится признать во Фрейденберг светоч европейской мысли и классической филологии.
[Закрыть].
О чудесах и фантастике
В контексте споров, вольно или невольно объединивших Лосева, Горького, Фрейденберг, а также многих других советских интеллектуалов конца 1920-х – начала 1930-х годов, не вызывавшим содержательных разногласий методологическим принципом выступал тезис Маркса о возможности философской переделки действительности. «Прагматическая» парадигма риторизовала в этих случаях романтическую и антипозитивистскую интенцию – установку на синтетические, а не на аналитические методы исследования. Одним из тиражируемых эпитетов, надолго украсивших лексикон советской пропаганды, тогда же становится определение «небывалый», указывающее на достижения советской власти, экономики, науки, производства и т. д. [331]331
Земцов И.Советский политический язык. London: Overseas Publications Interchange, 1985. С. 242.
[Закрыть]Деятели культуры не уставали напоминать о «сказочном» контексте советской действительности – например, знаменитыми строчками песни С. Германова на слова В. Лебедева-Кумача «Советский простой человек» (1937):
Однако эффект таких напоминаний не ограничивался сферой культуры. В определенном смысле «ожидание чуда» может быть названо эвристической моделью советской коллективной психологии этих лет. Об актуальности таких ожиданий в общественном климате 1930–1940-х годов можно судить не только по вышеприведенным примерам из области гуманитарного знания, но и по истории естественно-научного знания – в частности, по ожиданиям и риторике, сопутствовавшим пропаганде мичуринской агробиологии, или по истории промышленного производства, сопровождавшегося с середины 1930-х годов пропагандой стахановского движения.
В истории советской науки имя Ивана Мичурина связывается с активным экспериментаторством в области ботаники и селекции культурных растений и широким общественным движением, вдохновлявшимся пафосом такого экспериментаторства. Вместе с тем сам Мичурин был лишь в очень малой степени пропагандистом тех теоретических обобщений, которые позже (уже после его смерти в 1935 году) были сделаны его последователями. Но именно его имя стало со временем символичным, послужив конструированию в общественном сознании такого теоретического контекста ботанических и биологических исследований, который оказался не столько научным, сколько популярным и почти фольклорным. «Дерзновенному величию разума человеческого – нет предела, – писал М. Горький в одном из своих писем, – а у нас разум этот растет с неимоверною быстротою и количественно и качественно. Чудеса, творимые неиссякаемой энергией И. В. Мичурина, – не единичны, чудеса творятся во всех областях науки, осваиваемой только что освобожденным разумом» [333]333
Горький М.Полное собрание сочинений. М., 1956. Т. 25. С. 216.
[Закрыть]. Ожидания, связывавшиеся с практическими начинаниями Мичурина, обретут программный статус в работах Трофима Лысенко. Лысенко декларировал непосредственную связь своей теории с идеями, заложенными в опытах Мичурина, поэтому для современников теоретическая преемственность генетических идей Мичурина и Лысенко воспринималась как выражение общей идеологической стратегии. Это обстоятельство позже Лысенко успешно использует в борьбе со своими оппонентами, генетиками окружения Николая Вавилова, которые были объявлены, помимо прочего, «антимичуринцами». Стоит заметить, что теоретические гарантии этих ожиданий декларировались на тех же эвристических (и риторических) основаниях, на которые опиралась идеологическая интенция марровского «учения о языке». Как для Марра, так и для идеологов «мичуринского движения» понятия происхождения, эволюции, дифференциации являлись понятиями не дискретного, но континуального порядка. С оглядкой на Мичурина, Лысенко не уставал повторять, что растение представляет собой живой организм, непрерывно взаимодействующий с внешней средой; в этом взаимодействии наследственность растения проявляется не изолированно (то есть не за счет проявления неких генотипических признаков, присущих именно данному растению, как утверждали генетики из окружения Вавилова), но за счет креативной силы самого этого взаимодействия. Принцип развития – это синтез: взаимодействие, скрещивание. Изменение внешних условий меняет и растение: оно мутирует, приспосабливаясь к окружающей среде, а тем самым продуцирует в себе и новые черты наследственности. Задача ученого состоит соответственно в том, чтобы направить эту мутацию в нужное русло – создать условия, в которых растение само улучшит свою природу. Улучшение природы растений видится, таким образом, не как анализ и выборка тех или иных генов (существование которых в качестве особых физических тел Лысенко считал зловредной выдумкой), но как творческий процесс, определяемый принципом природного саморазвития. В мире растений, если понимать этот мир как целое, развитие тотально и бесконечно. В нем – так же как и в языке – «все содержится во всем», поэтому «все» может быть и сведено ко «всему»: языки Грузии к языкам Северной Америки, яблони к сливам.
Становясь все более расхожим, сравнение советской действительности со сказкой вдохновляет в 1930-е годы как литераторов, пробовавших себя в сказочном жанре, – Николая Шестакова, Лазаря Лагина, Степана Писахова, Александра Твардовского («Страна Муравия», 1936) [334]334
Липовецкий М. Н.Поэтика литературной сказки (на материале русской литературы 1920–1980-х годов). Свердловск, 1992. С. 102.
[Закрыть], так и непрофессиональных авторов – например, военнослужащего-артиллериста и поэта-любителя Якова Чапичева:
Из учебника по фольклору Юрия Соколова студенты также извлекали ту истину, что действительность в СССР «оказалась богаче, интереснее, увлекательнее поэтического вымысла» [336]336
Соколов Ю.Русский фольклор. М., 1938. С. 520.
[Закрыть]. О том же извещал детского читателя Лебедев-Кумач в стихотворении, включавшемся (с 1938 по 1956 год) в обязательную книгу для чтения в начальной школе «Родная речь». Среди текстов, дававших четверокласснику представление о том, что такое сказка, сразу за отрывком Пушкина «У лукоморья дуб зеленый» к домашнему заучиванию и разбору в классе предлагалось стихотворение Лебедева-Кумача «Ковер-самолет»:
Народ спокон веков мечтал о самолете,
О сказочном ковре чудесной быстроты…
В могучем Сталинском Воздушном Красном Флоте
Воплощены народные мечты.
Растут богатыри и крепнут наши крылья,
Все выше мы летим, все дальше, все быстрей!
Бледнеют сказки перед нашей яркой былью,
И нас не устрашит любой дракон и змей! [337]337
Цит. по.: Родная речь. Книга для чтения в четвертом классе начальной школы. М.: Учпедгиз, 1956. С. 75. О характере текстов, составлявших этот учебник с 1939 по 1960 год, см.: Мамедова Д.Персонажи власти в литературе для детей советского периода // Культура и власть в условиях коммуникационной революции XX века. М., 2002. С. 131–157.
[Закрыть]
С 1939 года о сказке, «бледнеющей перед былью», советские дети могли судить, впрочем, не только из учебников, но и из кинофильма Александра Птушко «Золотой ключик». Фильм Птушко, новаторски объединивший кукольную мультипликацию и актерскую игру, был поставлен по мотивам сказки Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» (1935), адаптировавшей сюжет книги Карло Коллоди «Приключения Пиноккио, история марионетки» (1883) [338]338
О значимых «зазорах» между оригиналом сказки Коллоди и переделкой ее Толстым см.: Липовецкий М.Утопия свободной марионетки, или Как сделан архетип (Перечитывая «Золотой ключик» А. Н. Толстого) // Новое литературное обозрение. 2003. № 66 (http://magazines.russ.ru/nlo/2003/60/).
[Закрыть]. Для фильма Толстой изменил концовку своего литературного пересказа: отомкнувшие заветную дверь золотым ключиком куклы и папа Карло оказывались перед огромной книгой, со страниц которой, раскрывающихся панорамой Московского Кремля, к ним на помощь выплывал воздушный корабль.

Спасенные герои поднимались на борт, а командир корабля (равно напоминающий своим обликом – суровым обветренным лицом, трубкой под густыми усами, кожаными крагами, дубленкой и меховой ушанкой – как о недавних подвигах легендарных полярников и летчиков, так и о Сталине со знаменитого плаката Бориса Ефимова 1933 года «Капитан Страны Советов ведет нас от победы к победе»), ударив по лбу Карабаса-Барабаса, под колыбельно-напевную мелодию песенного финала брал курс на счастливую страну, слова о которой красноречиво перекликались с всенародно известным припевом из «Песни о Родине» Лебедева-Кумача:
Прекрасны там горы и долы,
И реки как песнь широки.
Все дети там учатся в школе,
И славно живут старики.
В стране той пойдешь ты на север.
На запад, восток и на юг —
Везде человек человеку
Надежный товарищ и друг. [339]339
В 1941 году появится еще один вариант сказки о Буратино – книга искусствоведа, художницы и писательницы Е. Я. Данько (1898–1942) «Побежденный Карабас», где конечным адресом кукольных героев оказывается Ленинградский Дворец пионеров. Еще позже о Буратино в советской стране расскажет книжка: Гальперштейн Л.По следам «Золотого ключика». Фотографии Я. Халипа. Рисунки В. Лосина. М.: Государственное издательство детской литературы, 1958 (изображения Буратино и пуделя Артемона в этой книжке наложены на фотографии из советского быта).
[Закрыть]

Пропагандистское сближение мифа и реализма, сказки и действительности, фантазии и «научного прогноза» приводит к постепенному вытеснению собственно фантастического жанра из советской литературы. К концу 1930-х годов объем публикаций на фантастические темы резко снижается, и эта ситуация остается фактически неизменной до конца 1950-х годов [340]340
См.: Бритиков А. Ф.Русский советский научно-фантастический роман. Л., 1970.
[Закрыть]. Патрик Макгвайр, сделавший содержательный обзор научной фантастики в СССР под политологическим углом зрения, выделяет среди возможных причин такого положения дел четыре обстоятельства – доминирование в Европе после Первой мировой войны жанров реалистического нарратива; очевидную несогласуемость утопического коммунизма с политической реальностью советского строя; борьбу с теми литературными жанрами, которые искушали возвращением к символизму, мистицизму и формализму; опасность идеологически наивного «социологизирования» писателей-фантастов и опыт уже имеющихся антисоветских научно-фантастических произведений [341]341
McGuire P.L.Red Stars. Political Aspects of Soviet Science Fiction. Ann Arbor: UMI Research Press, 1985. P. 14–15.
[Закрыть]. Помимо упоминаемой Макгвайром мрачной антиутопии Евгения Замятина «Мы», в 1930-е годы преступным прецедентом антисоветской фантастики во мнении литературных критиков стала изданная в 1931 году повесть Яна Ларри «Страна счастливых» [342]342
Как провидец Ян Ларри ликвидировал Маркса и Ленина // Литературная газета. 15 августа 1931; Под маской утопии – пасквили на социализм. Чью политику делает Ян Ларри? // Литературная газета. 18 декабря 1931; Журнал РОСТ. 1932. № 1. Замечательно, что, наращивая обвинительный тон критики в адрес Ларри («халтура» – «пасквиль, клевета на нашу политику, на линию партии» – «агитка классового врага»), автор каждой последующей рецензии обвиняет предыдущего рецензента, по меньшей мере, в непростительной близорукости и политических ошибках (такова, по мнению рецензента РОСТа, статья рецензента из ЛП обнаруживающая в критике Ларри за отрыв СССР от остального мира пропаганду троцкистского тезиса о невозможности построения социализма в одной стране). См. также: Блюм А.Запрещенные книги русских писателей и литературоведов. 1917–1991: Индекс советской цензуры с комментариями. СПб., 2003. С.114–115. В 1941 году Ларри будет арестован и 15 лет проведет в сталинских лагерях. Поводом к аресту писателя послужит посланная им на имя Сталина повесть «Небесный гость». Обвинительное заключение, осудившее Яна Ларри к лишению свободы сроком на 10 лет с последующим поражением в правах на 5 лет (по статье 58–10 УК РСФСР), дает хорошее представление о Сталине-читателе: «Посылаемые Ларри в адрес ЦК ВКП(б) главы этой повести написаны им с антисоветских позиций, где он извращал советскую действительность в СССР, привел ряд антисоветских клеветнических измышлений о положении трудящихся в Советском Союзе. Кроме того, в этой повести Ларри также пытался дискредитировать комсомольскую организацию, советскую литературу, прессу и другие проводимые мероприятия Советской власти» ( Харитонов Е.Приключения писателя-фантаста в «Стране счастливых» // http://www.lib.ru/TALES/LARRl/about.txt).
[Закрыть].

Доводы, приводимые Макгвайром, небесспорны (особенно первый из них), но применительно к идеологической и культурной атмосфере 1930-х годов могут быть суммированы таким образом: утопии перестают быть интересными для литературы, вынужденной иметь дело с безальтернативной действительностью советской пропаганды [343]343
См. также: Yershov P.Science Fiction and Utopian Fantasy in Soviet Literature. N.Y., 1954; Buchner H.Programmiertes Glück: Sozialkritik in der utopischen Sowjetliteratur. Wien: Europa, 1970; Lahana J.Les mondes paralleles de la science-fiction sovietique. Lausanne: L’Age d’Homme, 1979; Heller L.De la science-fiction soviétique: par dela le dogme, un univers. Lausanne: L’Age d’Homme, 1979 (есть русскоязычное издание: Геллер Л.Вселенная за пределами догмы. Размышления о советской фантастике. London: Overseas Publications Interchange Ltd., 1985).
[Закрыть].
К концу 1940-х годов ленинский призыв о необходимости мечтать обязывает к известным вариациям на тему «горьковского понимания» соцреализма.Таковы, в частности, рассуждения горьковеда Б. Бялика о «величии нашей действительности» и «возвышенном характере советских людей», ставящем «с особенной силой задачу возвышения над действительностью» и, в свою очередь, «задачу забегания вперед, в будущее, в завтрашний день» [344]344
Бялик Б.Надо мечтать! // Октябрь. 1947. № 11. С. 186.
[Закрыть]. Ответ на вопрос о том, как решить такую задачу, надлежало искать, впрочем, не в сфере фантазирования о будущем, а в сфере Возвышенного, «очевидным» воплощением которого советская действительность уже является [345]345
Замечательно четкую формулировку этого тезиса в 1940 году дал театральный критик Ю. С. Спасский: «Пользуясь терминологией Аристотеля, можно сказать, что советский человек в действительности лучше, чем он кажется в своем быту» ( Спасский Ю.О поэтическом герое наших дней // Театр. 1940. № 2. С. 90).
[Закрыть]. В этой ситуации уэллсовская характеристика Ленина как «кремлевского мечтателя» стала, по меткому замечанию Кобо Абэ, формулой и руководством «правильной» фантастики – идеологически предсказуемой, партийно-подконтрольной и непреложно осуществляемой в практике коммунистического строительства [346]346
Abe К.The Boom in Science Fiction (1962) // Science Fiction Studies. 2002. November. Vol. 29. Part 3 (http://www.depauw.edu/sfs/backissues/88/abe.htm). В начале 1950-х годов допустимость литературных мечтаний обрела литературоведческие формулировки «фантастики ближнего прицела» и «фантастики на грани возможного». Из вопросов, обращенных в 1950 году к читателям журнала «Октябрь» в статье С. Иванова «Фантастика и действительность», будущее советской фантастики вырисовывалось исключительно в радужном свете: «Разве исторические указания тов. Сталина о развитии нашей промышленности на ближайшие несколько пятилеток не являются огромнейшей темой для писателей? Разве постановление партии и правительства о полезащитных лесных полосах, рассчитанное на пятнадцатилетний срок, в течение которого должна быть коренным образом преображена почти половина нашей страны, преображена настолько, что изменится даже климат, разве это постановление не является исключительно благодарным материалом для работ наших фантастов? Разве постановление партии и правительства о продвижении субтропических цитрусовых культур на Север опять-таки не послужит материалом для ряда ярких полотен художников слова? А тема новой Москвы в перспективе ее реконструкции на основе разрабатываемого сейчас плана? Повторяем, условия для развития советской научной фантастики и приключенческой литературы огромны и блестящи» ( Иванов С.Фантастика и действительность // Октябрь. 1950. № 1. С. 155). Спустя три года после появления наставительной статьи Иванова читатели «Октября» могли узнать и о том, какой должна быть «советская сказка»: «Сказки, оправданные трудом, опирающиеся на науку, запросы и гипотезы техники, – вот основа нашей советской сказочности. И если учесть, что развитие науки и техники в нашей стране воистину сказочное и сказочны трудовые подвиги нашего народа, то можно себе представить, до какой высоты должна подняться советская сказка, чтобы силой своей реальной фантастики перекрыть самую нашу действительность» ( Захарченко В.К разговору о научной фантастике // Октябрь. 1953. № 2. С. 166. Автор поминает попутно и Уэллса, так объясняя неспособность буржуазного фантаста «понять смелую мечту Владимира Ильича»: «Это вполне закономерно: о будущем можно думать по-разному»).
[Закрыть]. Допустимое фантазирование достаточно определяется программой задач, сформулированных партией и гарантированно осуществимых безошибочностью партийных постановлений.








