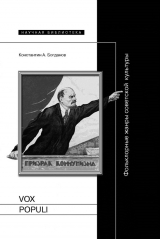
Текст книги "Vox populi: Фольклорные жанры советской культуры"
Автор книги: Константин Богданов
Жанры:
Культурология
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 20 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
О новом (в) языкознании
Отношение к тексту в советском обществе на первый взгляд может показаться близким к сакрализации сказанного и написанного: неадекватно жестокие наказания за корректорские опечатки в эпоху сталинизма и вера в то, что «рукописи не горят», являются следствием одного и того же ритуального миропереживания [110]110
Среди выразительных примеров такого рода см. документы: Первый секретарь Казахского крайкома ВКП(б) Мирзоян – Кагановичу об опечатке в газете «Казахстанская правда». 16 дек. 1934 г. // Большая цензура. Писатели и журналисты в стране Советов. 1917–1956 / Сост. Л. В. Максименков. М.: Материк (Россия. XX век. Документы), 2005. С. 350–351 (за ошибочное напечатание имени Сталина вместо имени Кирова арестованы наборщик, корректор, линотипщик, директор типографии; сняты с работы врид. редактора и секретарь редакции); Стецкий – Сталину и Кагановичу об ошибке в газете «Известия». 26 января 1935 г. // Большая цензура. С. 361–362 (постановление о снятии с работы литсотрудника, не заметившего ошибки в наборе имени Молотова, напечатанного как Молоков, Сталин лично исправляет на «арестовать»).
[Закрыть]. Стремление Сталина заявить о себе как классике общего языкознания также, вероятно, связано с убеждением в том, что власть над языком есть также и власть над тем, что он собою обозначает [111]111
О возможных причинах обращения Сталина к языкознанию см.: Philips К. Н.Language Theories of the Early Soviet Period. Exeter (Exeter Linguistic Studies. Vol. 10), 1986. P. 92–94; L’Hermitte R.Marr, Marrisme, Marristes. Une page de l’histoire de la linguistique soviétique. Paris, 1987. P. 73–75; Алпатов В. М.История одного мифа. Марр и марризм. М., 1991. С.181–187; Алпатов В. М.Марр, марризм и сталинизм // Философские исследования. 1993. № 4. С. 287–288; Gray P.Totalitarian Logic: Stalin on Linguistics // Critical Quaterly. 1993. Vol. 35. № 1. Алпатов с сомнением относится к предположению, что Сталина мог раздражать «малый культ Марра», как мешающий «его собственному большому культу» (С. 184). Мне такое предположение кажется, напротив, вполне оправданным, причем поводом к такому раздражению могли быть юбилейные торжества 1949 года, объединившие в рамках публицистических славословий имена Марра и Сталина (в связи с семидесятилетием Сталина и пятнадцатилетием смерти Марра). См., напр., статьи, открывающие выпуск журнала «Русский язык в школе» (1949, № 6): Акад. И И. Мещанинов и проф. Г. П. Сердюченко. Языкознание в Сталинскую эпоху; Проф. Н. С. Чемоданов. И. В. Сталин и советское языкознание; Проф. Е. М. Галкина-Федорук. Н. Я. Марр – творец нового учения о языке). Интересно, что еще в 1931 году критически настроенная к Марру редакция журнала «Революция и язык» (гл. ред. М. Н. Бочачер – директор Института языкознания при Наркомпросе), отказывая Марру в праве считаться «основоположником марксизма в языкознании», противопоставляла его лингвистическим работам «труды Маркса, Энгельса, Ленина, а также и Сталина – все труды в целом, а не только специальные их высказывания по вопросам языкознания», как «достаточные основы для построения настоящей подлинной марксистско-ленинской науки о языке» (Наши задачи // Революция и язык. 1931. № 1. С. 4). Отметим, что иностранных языков, за исключением русского, Сталин не знал, хотя, по ряду свидетельств, в молодости пытался учить немецкий и даже эсперанто ( Троцкий Л.К истории русской революции. М., 1990. Т. 1. С. 402; Сто сорок бесед с Молотовым. Из дневника Ф. Чуева. М., 1991. С. 257). На полях прочитанных Сталиным книг встречаются попытки перевода отдельных слов и имен собственных (не всегда успешного: так, под гравированным портретом Гольбаха в работе Г. Александрова «Философские предшественники марксизма» рукой Сталина написано: «Pol Henri Holbach»). Иногда Сталин-читатель отчеркивает иноязычные выражения, – в частности, латинские: например, обводит волнистой линией заключительную фразу в работе Маркса «Критика Готской программы» «Dixi et salvavi animam meam» ( Илизаров Б. С.Сталин. Штрихи к портрету на фоне его библиотеки и архива). Инициированная Сталиным дискредитация Марра может быть расценена на этом фоне и как сублимация неудач в практическом овладении иностранными языками (замечу попутно, что, защищая отвергавшуюся Марром индоевропеистику, Сталин признает за сравнительно-историческим методом хотя бы ту пользу, что он «толкает к работе, к изучению языков»).
[Закрыть]. Возражения Сталина против «яфетической теории» Николая Марра реабилитировали не только грамматику и традиционную компаративистику, но и приоритет «надежных» системно-статистических языковых описаний. Характерные для Марра рассуждения о стадиальной динамике семантических изменений уступили место статистическим наблюдениям над повторяющейся вариативностью морфологических единиц [112]112
Виноградов В. В.Значение работ И. В. Сталина для развития советского языкознания // Вопросы языкознания в свете трудов И. В. Сталина. М., 1952. С. 48–55; Алпатов В. М.История одного мифа. Марр и марризм. М., 1991. С. 191–209. Применительно к фольклористике дефамация Марра выразилась в торжестве описательных методов анализа и отказу от представлений о динамической («стадиальной» и «взрывной») диахронии. Так, напр.: Астахова А. М. Значение трудов И В. Сталина по вопросам языкознания для развития науки о народном поэтическом творчестве // Известия Академии наук СССР. Отделение литературы и языка. 1951. Т. X. С. 533–546. Ср.: Талпа М.Учение Н. Я. Марра и фольклористика // Литературный критик. 1937. № 3. С. 130–160.
[Закрыть]. Показательно и то, что один из главных «теоретических» тезисов, провозглашенных Сталиным в ходе так называемой полемики «по вопросам языкознания», развел понятия языка и идеологической надстройки. В противовес Марру, полагавшему, что язык зависим от базиса – производительных сил и производственных отношений, Сталин наделил язык «диалектической» самостоятельностью. Важно подчеркнуть вместе с тем, что, хотя Сталин и отверг языковое учение Марра, их взгляды на язык в определенном смысле могут считаться схожими.
Марр был убежден, что язык дифференцирует смыслы, которые существуют до и помимо языка и которые, строго говоря, безразличны к тому, как они дифференцируются – за счет речи, письма или чего-то еще. Такое «еще» Марр, как известно, находил в явлении, которое можно было бы назвать мистическим, если бы оно не декларировалось с опорой на марксизм. Это так называемый «ручной язык» – понятие, которое является ключевым для генетической (или, как называл ее сам Марр, «яфетической») теории языка [113]113
Марр Н. Я.Язык и мышление (1931) // Марр Н. Я. Избранные работы. М.; Л., 1934. Т. 3. С. 106–109, 118–120.
[Закрыть]. Стоит оценить новизну этого понятия в идеологической и научной ситуации 1920–1930-х годов. С одной стороны, понятие «ручного языка» поддерживало ставшее к тому времени уже хрестоматийным положение Маркса и Энгельса о роли руки в эволюции человека, а с другой – решало (или, точнее, снимало) одну из основных методологических проблем исторической и теоретической лингвистики – проблему, связанную с дуализмом «устности» и «письменности». Генетически, а значит, и по своей сути (ab origine) язык представал в теории Марра как единство мышления, письма и труда. В современных терминах можно было бы сказать, что Марр понимал язык примерно так, как Джон Остин понимал перформатив: язык не называет, язык делает.
Положение об акциональной природе языка, принципиальное для Марра и его последователей (Израиля Франка-Каменецкого, Ольги Фрейденберг, Ивана Мещанинова, в последние годы его жизни – Дмитрия Зеленина), лежало в основе той анаграмматической комбинаторики («глоттогенетических» первоэлементов «сал», «бер», «йон», «рош»), которая позднее будет сочтена и объявлена абсурдной. Следует заметить, однако, что логических изъянов в аргументации Марра нет. Если язык является не знаменательной системой, а действием, то суть лингвистического анализа заключается в выявлении функций, а не значений, в частности – в ведущей роли сказуемо-предикативных частей речи, а не именительных (не исключено, что Марр в данном случае как бы проецировал эргативность грузинского языка на структуру русского) [114]114
Мурашов Ю.Письмо и устная речь в дискурсах о языке 1930-х годов: Н. Марр // Соцреалистический канон / Ред. X. Гюнтер., Е. Добренко. СПб., 2000. С. 599–608. Добавлю, что позднее проблемами эргативности активно занимался последователь и пропагандист Марра акад. И. И. Мещанинов, полагавший, в частности, возможным говорить о том, что в лезгинском и агульском языках «центр передачи эргативных конструкций переносится на имена», так что не только глагол, но и подлежащие мыслятся как эргативно-значимые ( Мещанинов И. И.Эргативная конструкция в языках различных типов. Л., 1967. С. 66).
[Закрыть]. Классическое языкознание, сравнительная индоевропеистика виделись ему, с этой точки зрения, ошибочными не только идеологически (уже потому, что они не считаются с ролью труда и руки в эволюции человека, а значит, и в эволюции его языка), но и логически (хотя бы потому, что исходят из положения о разных языковых семьях при очевидном единстве человечества, а значит – и «человеческого» языка). В противостоянии «буржуазной» индоевропеистике Марр отстаивал такое понимание языка, которое – при всех своих историко-социологизаторских декларациях – подчеркивало антропологическое и биологическое единство человеческого рода. «Ручной язык» – это язык, на котором говорят все, всё человечество; он един и потому «общепонятен» по самой природе человека. Идеологическая функция лингвистики представала поэтому решением не просто научных, но именно социальных задач (что объясняет, между прочим, и ту пропагандистскую риторику, которую марристы использовали для опорочения индоевропеистики). Интенция, которая предполагала само наличие таких задач, – это стратегия не объяснения, а создания языка. Лингвист-яфетолог как бы возвращал язык его носителю, делал его общим для всего человечества.
Советское государство становится ареной языковых экспериментов с самых первых лет своего существования. Реформа письменности, создание русифицированных азбук для различных национальностей – все это было тем фоном, на котором создавалась и воспринималась языковедческая теория Марра [115]115
Smith M. G.Language and Power in the Creation of the USSR, 1917–1953. Berlin; N. Y.: Mouton de Gruyter, 1998.
[Закрыть]. Еще за четверть века до революции академик Сергей Булич, оценивая широкое распространение «лингвистической» моды на изобретение новых языков (языка волапюк, эсперанто), предполагал, что сам факт этой моды едва ли случаен. Булич писал: «Постоянное появление проектов всеобщего языка не только указывает на известные общественные потребности, но и служит, быть может, симптомом каких-то нам еще не ясных будущих эволюций общества» [116]116
Булич С. К.Всемирный или международный язык // Энциклопедический словарь Брокгауз и Ефрон. СПб., 1892. Т. 7. С. 397.
[Закрыть]. Общественная потребность, на которую, говоря словами Булича, указывала языковая теория Марра, – это потребность идеологии в преодолении различий. Реконструкция праязыка отвечала этой потребности тем, что такой язык радикально отменял «буржуазное» различие культур, рас и языковых семей. Для современников лингвистические работы Марра и его последователей были как бы еще одним (в дополнение, например, к созданию единообразной графической системы для языков народов, не имевших письменности) воплощением языкового экспериментаторства. К середине 1930-х годов еще не были забыты футурологические утопии, вдохновлявшие героя «Счастливой Москвы» Андрея Платонова (1936) жить в комнате, стены которой были украшены портретами Ленина, Сталина и доктора Людовика Заменгофа – изобретателя языка эсперанто (хотя пройдет еще несколько лет, и сама причастность к эсперантистскому движению будет служить достаточным поводом к обвинению в антисоветской деятельности) [117]117
Линс У.«Опасный язык». Книга о преследованиях эсперанто. М., 1999; Степанов Н.Как это было. Полный разгром советского эсперанто-движения в 1938 году // http://miresperanto.narod.ru/historio.htm.
[Закрыть]. Но Марр шел дальше: декларация единых для всего человечества фонетических, морфологических, грамматических закономерностей языковой эволюции и редукция самой этой эволюции к комбинаторике исходных четырех «глоттогенетических» первоэлементов превращала «язык прошлого» в «язык будущего». Общий язык, реконструируемый марристами, это и новояз, и в то же время – сугубая архаика. Неслучайно, что именно из лагеря марристов вышли работы, где традиционному филологическому изучению мифологии было противопоставлено изучение мифавообще, мифа как такового.В понимании Франк-Каменецкого и Фрейденберг миф, подобно языку у Марра, является не номинацией, но дейксисом – единством мышления, труда и письма.
Свойственные Марру мессианизм, универсализм и восходящее к романтизму (в частности, к Вильгельму фон Гумбольдту) представление о языке как воплощении творческой энергии, по всей видимости, были чужды Сталину. Однако предложенная им (с подачи А. С. Чикобавы и В. В. Виноградова) теория языковой прагматики также была не лишена романтической и антипозитивистской интенции: обоснования внесловесных – «не-текстовых», «не-метафизических», но деятельностных аксиом социального мироустройства. Возводя русский язык к национальным (а не интернациональным, как у Марра, хотя не менее фантастичным – «курско-орловским» – диалектным [118]118
Можно предположить, что ошибка Сталина была вызвана смешением названий курско-московского диалекта и названия одного из наиболее кровопролитных сражений Второй мировой войны – Курско-орловской наступательной операции 1943 года ( Борев Ю. Б.Сталиниада: Мемуары по чужим воспоминаниям с историческими притчами и размышлениями автора. М., 1991).
[Закрыть]) истокам, Сталин так же, как и Марр, невольно вменял языку прошлого (в данном случае – русскому) не только дескриптивный, но и перформативный смысл. В теории Марра такая перформативность представала в иллюстративном буквализме: «ручной язык», объявлявшийся основой человеческой коммуникации, фактически превращал саму эту коммуникацию в нечто вроде сурдоперевода к произносимому тексту. В «теории» Сталина человеческая коммуникация приобрела грамматическую членораздельность, но не изменила традиционного представления о языке как важнейшем критерии социального экспериментаторства [119]119
«Без языка, понятного для общества и общего для его членов, общество прекращает производство, распадается и перестает существовать как общество» ( Сталин И. В.Марксизм и вопросы языкознания. М., 1950. С. 19). Выводы, извлеченные советскими учеными из языковедческих постулатов Сталина: Вопросы языкознания в свете трудов И. В. Сталина. М., 1952; Александров Г. Ф.Труды И. В. Сталина о языкознании и вопросы исторического материализма. М., 1952.
[Закрыть].
О возвышенном
Пропагандистские, публицистические и в существенной мере литературные тексты советской эпохи конструируют идеологически рекомендованную действительность, которая может быть названа реальностью текста, имевшего свой смысл в структуре (квази) ритуального опыта (и потерявшего этот смысл, когда такой опыт стал неактуальным). Существование многочисленных текстов, разительно диссонировавших советской реальности («Жить стало лучше, жить стало веселее», «Партия – ум, честь и совесть нашей эпохи», «Вся страна с чувством глубокого удовлетворения…»), объясняется с этой точки зрения не только лицемерием властей, но и семиотическим эффектом сосуществования социальной реальности и реальности текста, – или, говоря языком Гете, сосуществования Правды и Поэзии, дополняющей и осложняющей наши представления о социальной повседневности. При этом особенностью советской культуры следует считать именно идеологическую настоятельность и типологическую повторяемость создаваемого ею на протяжении десятилетий вымышленного мира – пространства Воображения (не потерявшего, как выясняется, и сегодня своей эстетической привлекательности и психологической убедительности). Ретроспективное убеждение в том, что «у нас была великая эпоха», поддерживается самозабвенным желанием жить в мире вечно повторяющегося текстаи (что одно и то же) в пространстве и времени ритуала – поскольку именно ритуал столь же воспроизводит мифологические события, сколь и сам предстает этими событиями [120]120
Lincoln В.Discourse and the Construction of Society: Comparative Studies of Myth, Ritual, and Classification. Oxford: Oxford University Press, 1989; Байбурин A. K.Семиотизация мира в ритуале // Байбурин А. К. Ритуал в традиционной культуре. Структурно-семантический анализ восточнославянских обрядов. СПб., 1993. С. 201–212.
[Закрыть]. Указания (или оговорки) исследователей, занимающихся советской культурой, на то, что они имеют дело с ритуализованной и семиотически самодостаточной культурой, неслучайны при этом как с содержательной, так и с методологической стороны. Вслед за Катериной Кларк, предложившей сравнение советского романа с ритуалом, подчеркнем психолингвистическую основу функционирования ритуального дискурса в традиционных культурах. Повсеместно, где существует сколь-либо обособленный «язык ритуала» (или «язык мифа»), его присутствие в социальной действительности вполне описуемо в терминах феноменологической дополнительности, а не шизофренического конфликта [121]121
См., напр.: The Power of Discourse in Ritual Performance. Rhetoric, Poetics, Transformations / Eds. Ulrich Demmar, Martin Gaenszle. Berlin; Hamburg; London; Münster: Lit Verlag (Performanzen/Performances. Vol. 10), 2007.
[Закрыть]. Нарративы, претендующие подменить социальную реальность реальностью текста, ритуализуют всю сферу советской публичной культуры – от литературы до архитектуры и оперной музыки. Недавнее исследование Евгения Добренко хорошо показало, как те же нарративы сближают литературу, науку и пропаганду в сфере политэкономии [122]122
Добренко E.Политэкономия соцреализма. М., 2007.
[Закрыть]. Именно так в истории (и «действительности») СССР сосуществовали пустые прилавки, продовольственные очереди и роскошно изданная «Книга о вкусной и здоровой пище», повествовавшая о фантазматических яствах и пользовавшаяся феноменальным читательским спросом (три издания с 1952 по 1954 год общим тиражом полтора миллиона экземпляров).
О взаимопонимании
Примеры социального двуязычия – владения речевыми альтернативами, реализуемыми в зависимости от социальной ситуации, – очевидны в случаях билингвизма, с нередкой для него иерархией языковых кодов и социальных ролей. Так, русские аристократы XIX века употребляли французский язык в общении друг с другом и русский язык – в общении с крестьянами, а мужчины в Парагвае, владевшие испанским и гуарани, ухаживая за женщинами, говорили по-испански (на социально более престижном языке), а женившись – переходили на гуарани [123]123
Rubin J.Bilingualism in Paraguay //Anthropological Linguistics. 1962. № 4; Крысин П.Речевое общение в лингвистически и социально-неоднородной среде // Речевое общение в условиях языковой неоднородности / Ред. Л. П. Крысин. М., 2000 – цит. по: http://urss.ru.
[Закрыть]. При использовании одного национального языка социальная вариативность языковых кодов менее очевидна, но также достаточно обычна [124]124
Labov W.The Social Stratification of English in New York City. Washington, 1966; Krysin L. P.Sociolinguistic Problems in the USSR //Sociolinguistics. Tübingen, 1988.
[Закрыть]. Применительно к социальной истории русского языка такая вариативность проявляется в складывающемся к началу XX века представлении о сравнительном «языковом стандарте» – социальной престижности форм московского произношения (на безударное – а) по сравнению с «окающими» говорами, диалектной маргинализации севернорусского «цоканья», южнорусского фрикативного «г», смягчения «т» в окончании третьего лица глаголов («поють») и т. д. [125]125
Зеленин Д. К.Великорусские говоры. 1913; Шахматов А. А.Описание Лекинского говора Егорьевского уезда Рязанской губернии. 1914; Характеристика народных говоров по реке Костроме. 1927; Каринский Н. М.О говорах восточной половины Бронницкого уезда // Известия ОРЯС. 1903. Т. XVIII. Кн. 2. С. 212–215.
[Закрыть]Языковые различия оказываются в этой динамике непосредственно связанными со сферой обращения «символического капитала», иерархизующего, по суждению Пьера Бурдье, сферу социальных отношений: символический статус говорящего утверждается и тем, какон говорит, к комуон обращается, и тем, какими обстоятельствамидиктуются его речевые предпочтения [126]126
Bourdieue P.Language and Simbolic Power. Cambridge: Harvard UP, 1991. Отталкиваясь от Бурдье, Виктор Живов предлагает говорить о «лингвистическом капитале» ( Живов В. М.Язык и революция. Размышления над старой книгой А. М. Селищева // Отечественные записки. 2005. № 2(23) – http://www.strana-oz.ru).
[Закрыть]. Степень взаимопонимания участников коммуникации повсеместно определяется при этом совпадением используемых языковых подсистем (например, литературного языка, бытового и диалектного просторечия). Важно подчеркнуть, что даже в случае использования предельно общего «языкового стандарта» оно не исключает нарушения коммуникативного автоматизма, требующего выполнения правил т. н. речевой кооперации [127]127
Грайс Г. П.Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 16. Лингвистическая прагматика. М., 1985. С. 222, след.; Гордон Д., Лакофф Дж.Постулаты речевого общения // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 16. С. 277, след.
[Закрыть]. О социальных предпосылках и условиях такой кооперации можно судить по примерам, которые Лев Якубинский в своей знаменитой работе «О диалогической речи» (1923) назвал примерами «шаблонного взаимодействия». В этих случаях смысловые неувязки речевой коммуникации не препятствуют взаимопониманию собеседников, так как более важными оказываются не логико-семантические, а ситуативные и эмоциональные связи – сходство бытовой обстановки, «предсказуемость» коммуникативных ожиданий, инерция языковых (в частности, синтаксических) клише и т. д. В анекдотически утрированном виде такое «взаимопонимание» обычно изображается как разговор глухих, обменивающихся содержательно несогласуемыми репликами («– Здорово, кума. – На рынке была; – Аль ты глуха? – Купила петуха. – Прощай, кума. – Полтину дала») [128]128
Якубинский Л. П.Избранные работы. Язык и его функционирование. М., 1986. С. 45–50.
[Закрыть]. «Общий язык» коммуникантов предполагает в этих случаях навык дейктически формализованной коммуникации и социально-ситуативных оценок, предвосхищающих смысловую переработку речи (или текста) в зависимости от того, кто говорит, как говорят, кем являются коммуниканты по отношению друг к другу и т. д. [129]129
Возможно, что одним из стимулов к идее «шаблонного взаимодействия» Якубинскому послужил опыт анализа восприятия поэтических текстов. Главными тезисами первой опубликованной работы Якубинского стали положения 1) о сосуществовании практического и стихотворного языкового мышления, и 2) о «сознательном переживании звуков при стихотворном мышлении», зависимости смысла стихотворения от того, каким «психофонетическим» образом оно выражено. Так что и в этом случае содержательному взаимопониманию поэта и аудитории служит своего рода «шаблонное взаимодействие» – ситуация общих эмоций, «опережающих» смысл слов ( Якубинский Л. П.О звуках стихотворного языка (1916) // Якубинский Л. П. Избранные работы. С. 163–175).
[Закрыть]
Общественно-политическая риторика первых лет советской власти дает многочисленные примеры аналогичного «взаимопонимания» ораторов и аудитории. Более того: задачи «языковой политики», как они формулируются в конце 1920-х – начале 1930-х годов, могут быть описаны как целенаправленно соотносимые с социальными и коммуникативными преимуществами «шаблонного взаимодействия». По иронии метода, авторитетный вклад в формулировку таких задач сделал и сам автор понятия «шаблонных взаимодействий» – Лев Якубинский, ставший к тридцатым годам сторонником Николая Марра и авторитетным пропагандистом особого «советского языкознания» (в 1933–1936 годах Якубинский возглавлял Ленинградский НИИ языкознания, а позднее был профессором, заведующим кафедрой и деканом в ЛГПИ им. А. И. Герцена). В цикле работ Я кубинского, публиковавшихся на страницах журнала «Литературная учеба» и в 1932 году собранных (в соавторстве с Ан. М. Ивановым) в отдельную книгу «Очерки по языку», создание «новой языковой культуры» обсуждалось с упором на проведение языковой политики («сознательное вмешательство класса в развивающийся языковой процесс, сознательное руководство этим процессом»), выражающей «общую политику пролетариата, осуществляемую в генеральной линии партии». «Первейшим условием успеха языковой политики является распространение хотя бы элементарных знаний о языке в широких массах и хорошая теоретическая подготовка того руководящего актива, который эту политику осуществляет» [130]130
Иванов Ан. М., Якубинскии Л. П.Очерки по языку. Для работников литературы и для самообразования. Л.; М.: ГИХЛ, 1932. С. 38, 39.
[Закрыть]. Советские писатели и их научные наставники – специалисты в области марксистской лингвистики – призваны к тому, чтобы организовывать «писательскую практику на здоровой теоретической базе», суть которой должна составить борьба с «идеалистической школой, индоевропейской лингвистикой и ее порождением – формальной школой грамматики», следование учению Марра «о едином стадиальном глоттогоническом процессе, обусловленном классовой борьбой и движением развивающегося экономического базиса общества»; но, конечно, самое главное – «тщательнейшее изучение трудов классиков марксизма-ленинизма, которые дают не только совершенно достаточные положения для разработки диалектико-материалистических установок языкознания, но целый ряд конкретных высказываний по вопросам теории языка и языковой политики» [131]131
Иванов Ан. М., Якубинскии Л. П.Очерки по языку. С. 39, 40.
[Закрыть].
Дидактические наставления Якубинского и Иванова замечательны характерным для советской пропаганды логическим предвосхищением основания (petitio principii) – доводами к идеологии, которая в объяснительном отношении объявляется заведомо «достаточной» для социальной прагматики [132]132
В другой работе Якубинского, не включенной в «Очерки по языку», заведомая ошибочность позиции Соссюра о невозможности «организованного вмешательства общества в языковой процесс» аргументируется следующим образом: «Если Соссюр прав, то к языковедению, оказывается, неприменим очень известный <…> совет Маркса философам – не только изучать, но и преобразовывать мир» ( Якубински Л. П.Ф. де Соссюр о невозможности языковой политики // Избранные работы. С. 73).
[Закрыть]. Идеологическая правота предопределяет не только правоту научного дискурса, но и правоту социального действия, коль скоро они мыслятся связанными с идеологией (так, например, название газеты «Правда» автоматически делает правдой все, что в ней напечатано) [133]133
Ср.: Brooks J.Socialist Realism in Pravda: Read All about It! // Slavic Review. 1994. Vol. 53. № 4. P. 973–991.
[Закрыть]. В научно-теоретическом отношении нового здесь не много: любая концептуальная схема, положенная в основу рационального выбора, не может считаться строго последовательной, хотя бы потому, что имеет свои непроговариваемые предпосылки [134]134
Davidson D.On the very Idea of the conceptual Scheme // Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association. 1974. Vol. 57. P. 5–20. См. также: Mittelstrass J.Changing Concept of the A PRIORI // Historical and Philosophical Dimensions of Logic, Methodology and Philosophy of Science / Ed. Butts and Hintikka. Dordrecht; Boston: D. Reidel, 1977. P. 113–128.
[Закрыть]. Но есть и отличие: в аргументации Якубинского и Иванова эпистемологические доводы, выраженные прецедентными понятиями идеологии (упоминанием о руководящей роли партии, классовой борьбе, задачах пролетариата), выступают в функции не только логической предпосылки, но и процедуры подразумеваемого «доказательства» (или, лучше сказать, волевого решения), призванного манифестировать предустановленную социальную практикуи заранее известные выводы – о руководящей роли партии, классовой борьбе и очередных задачах пролетариата. Провозглашенная авторами «новая языковая культура» в принципиальном отношении может считаться при этом ужесуществующей – просто потому, что для нее изобретено соответствующее словосочетание. Схожим образом у тех же авторов строится определение того, в чем выражается «собственно пролетарская языковая культура» (или, иначе, «пролетарская языковая идеология»):
На основе нового классового сознания, нового способа освоения действительности, нового диалектико-материалистического мышления, – пролетариат как класс противопоставляет себя буржуазии в способе использования общенационального языкового материала, в обращении с этим материалом, в способе отбора из него нужных для конкретных целей фактов, в своем отношении к этим фактам и их оценке, в новом по содержанию их осмыслении, в новой их конкретизации в своей речевой практике [135]135
Иванов Ан. М., Якубинский Л. П.Очерки по языку. С. 121.
[Закрыть].
Очевидно, что коммуникативно согласованное понимание такого определения может быть достигнуто только как результат «шаблонного взаимодействия» – навыка следования правилам речевой кооперации, предопределяющей социальный дейксис легко опознаваемыми словесными сигналами: «новое классовое сознание, новый способ освоения действительности, новое диалектико-материалистическое мышление». Особенности нового социолекта определяются не через номинативные характеристики (что именно ново в новом языке), а через функциональные и экспрессивно-оценочные: важно, кому он служит и какие задачи преследует. Отличия старого «речевого метода» от «пролетарского речевого стиля» коренятся, таким образом, не в специфике лексико-грамматического, синтаксического и фонетического словотворчества (как об этом еще можно было думать, читая Селищева) [136]136
Применительно к фонологии наблюдения Селищева можно дополнить шуточным, но правдоподобным сообщением М. Л. Гаспарова: «Брат фольклориста (К.В.) Чистова пошел по партийной линии, и у братьев раздвоились диалекты: партийный заговорил на фрикативное h» ( Гаспаров М. Л.Записки и выписки. М., 2000. С. 234).
[Закрыть], но в самих носителях «пролетарской психологии и идеологии»: «наиболее полное выражение пролетарского речевого стиля» надлежит искать «у крупнейших языковых работников пролетариата вообще, и притом у таких работников, которые жили не оторванно от широкой рабочей массы, но глубоко проникали, в частности, в ее речевую жизнь». Понятно и то, что «в наипервейшую очередь» пролетарский стиль надлежит искать у Ленина, который не только «был и остается величайшим идеологом и вождем рабочего класса вообще», но, кроме того, «сознательно строил и в специально языковой области», «выковал свою языковую идеологию, свой пролетарский стиль в непрестанных боях с различного сорта буржуазными и подбуржуазными идеологами в области устной и письменной публичной речи», «вел свою языковую работу не уединенно, а с пристальнейшим учетом языковых процессов, происходивших в самой рабочей массе» [137]137
Иванов Ан. М., Якубинский Л. П.Очерки по языку. С. 122.
[Закрыть].
В целом содержательная сторона текстов, функционирующих в границах «пролетарской языковой идеологии», оказывается в книге Якубинского и Иванова непосредственно соотносимой не с тем, каковы эти тексты, а с тем, кому они идеологически вменяются: «передовым языковым работникам», Ленину, Сталину – или, например, Троцкому (ко времени издания книги бывшему уже в партийной опале и потому очевидно демонстрировавшему ошибочность своих высказываний о языке) [138]138
Иванов Ан. М., Якубинский Л. П.Очерки по языку. С. 175–179. За год до выхода книги Иванова и Якубинского М. Гус, рассуждая о необходимости рационализовать деловой язык, призывал равняться на уже существующий «пролетарский литературный язык», лучшие образцы которого «даны в работах Ленина, Сталина» ( Гус М.Принципы рационализации делового языка // Революция и язык. 1931. № 1. С. 44–45).
[Закрыть]. Смысл текста (и, соответственно, его коммуникативная эффективность) опирается, таким образом, не столько на текстовые, сколько на экстралингвистические факторы общественно-политического дискурса. Главными из них – применительно ко всей сфере советского социолекта – мне представляются его дидактическая востребованность и дидактическое целесообразие.








