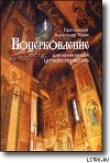Текст книги "Чужую ниву жала (Буймир - 1)"
Автор книги: Константин Гордиенко
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 22 страниц)
И Лукия с Татьяной, теперь задушевные приятельницы, добрые соседки, беспокоятся о детях, не налюбуются славной парой... Расцвела, снова пополнела, как яблоко, на воле Орина, красивая, радостная. Но родные дети неудачливы, тревожат материнское сердце. Судьба детей матерей породнила.
Музыканты играют, молодые пары кружатся, веселятся, и пожилые люди столпились, вспоминают свои молодые годы, говорят о политике...
4
Зрелое зерно высунулось из колоса, из лопнувшей сорочки, ветер треплет сухим колосом, выбивает зерно, шипит перестоявшая пшеница, погнулась, ветер обламывает ее, солнце печет, зерно высыхает, съеживается, покрывается морщинами, облипает половой. Свекла запеклась, обгорела, листья свернулись, а у Харитоненки кровь запекается в сердце.
Забастовка.
Знаменательное это слово у каждого на уме. Загорелые, сосредоточенные лица, сжатые, потресканные губы, сверкающие взгляды отмечены волей, решимостью наказать, покорить пана, вымотать из него жилы. Проклятья народа сыплются на голову врагов. Пусть пан перемучится душой, попортит себе кровь, зачахнет, завянет, как его поле, – может быть, скорее согласится на требования людей.
А рабочие в городах, говорят, уже останавливают поезда, выпускают пар, гасят топки, и уже прошел слух, что Нарожный бежал из тюрьмы, бунтует рабочих, выступал на станции перед солдатами, ехавшими на войну, засыпал их листовками и, пока подоспели жандармы, исчез...
Забастовали литейщики в Сумах, железная дорога, телеграф, и уж панам никак не доставить войска...
Забастовала паровая мельница в Лебедине, и рабочие ходят на сенокос, на жатву к богатым хозяевам, чтобы заработать на хлеб, ходят по селам, мастерят, исправляют плуги, кадки, ведра, кто что умеет. Деревня жадно набрасывается на посторонних людей с разговорами, осведомляясь о всяких новостях и событиях. Немало пришлого люда, неужто среди них не найдется революционера? А рабочие сумского Павловского завода уже получили прибавку, сломили-таки Харитоненку, дружные были люди – так нужно действовать и селам. Теперь они не работают от зари до зари, добились трех смен, восьмичасового рабочего дня, выхлопотали право покупать по копейке за пуд тысячу пудов жома на сахарном заводе – скоту сытный корм, тридцать пудов патоки и чтобы за забастовку никто не был наказан или уволен, а также чтобы не вычитали из заработка денег за страховку и на церковь.
Слух о победе на большом рафинадном заводе в Сумах, где работало немало односельчан, расходился, разрастался, преувеличивался, поразил окрестные села – сломить сопротивление Харитоненки было не так легко, приходилось вырывать каждую копейку. Сахарный завод у Харитоненки не один, слух сразу облетит, привлечет к себе рабочих...
И уже Буймир запретил Харитоненке рубить лес: как и зерно, лес народное добро, и пусть пан его не рубит и не вывозит. Захар сам оповестил Чернуху о постановлении села, эконом только по-глупому поражался, возмущался, – а что он может сделать? И уже паны покидают деревни, слух прошел, что Харитоненко послал телеграмму, – смеху было на селе! Везде пересказывали, как пан бежал и послал губернатору телеграмму:
"Бунт, насилие, едва убежал, спасайте, ради бога, разбой, пришлите войска, грабят, бесчинствуют, громят, умоляю помощи".
Грицко Хрин с прикрасами рассказывал всем – в церкви, в корчме, на ярмарке, – не жалея слов и догадок, расписывал, как перепугался Харитоненко, когда узнал о пугале и засыпанной меже. В имения теперь не наведывается, боится, чтобы не захватили – припомнили бы ему отработки, штрафы, грабеж, вековую нужду. Сидит в Сумах, запрятался, дрожит. Бежали паны, потеряли штаны... Чувствуют свое бессилие – против ветра и силы песком не посыплешь!
А чего это Грицко Хрин шатался в Сумы? Люди ломали головы и решили: не иначе как встречался с Нарожным.
Даровая сила плывет из городов на поля богатых хозяев, а у помещика хлеб стоит, переспевает, обсыпается. Мамаево поле как ветром вымело – в неделю обкосили. Теперь свозят, ставят стога, а еще немало у него клочков, аренды, мороки, хлопот. Соседи приходят: одолжи, выручи – как отказать? И вот крутись теперь, мотайся по этим полевым закоулкам, трать дни, силы... Тайная мечта Остапа Герасимовича – свести эти клочки в одно поле, завести машины, как в экономии, – вот тогда он прожил бы недаром свой век!
Калитка и Мороз тоже в выгоде, заблаговременно управились со своими полями и арендованной землей. Пришлой силы этим летом привалило – дешевые руки, голодные люди согласны работать хоть за одни харчи.
Необыкновенное лето выпало в деревне. Бывало, в жниво крестьяне бросают все и бегут на панское поле зарабатывать копеечку – свое подождет, успеется, сколько там своего поля! Теперь пан болеет печенкой, а люди убирают свою ниву! О панском поле не очень заботятся.
Забастовка.
Тимофей Заброда жаловался Павлу – косили Мамаев хлеб. Хозяин сбавил Тимофею плату – хоть со двора уходи или работай за одни харчи, лишних рук сколько привалило, от двора не отгонишь, вырывают работу друг у друга. Мамай болеет душой – мало ему земли, вот если бы можно было захватить еще, как можно больше!
Заброда свое возьмет, утешал Павло батрака, но сам крепко задумался и надумал: сельский комитет решит, какая плата должна быть Тимофею, пусть он не беспокоится. Не важно, что придется перессориться с хозяевами, – люди за бесценок работают на них, хозяева добровольно платы не надбавят.
Надо будет посоветоваться с Нарожным. Не приходится говорить, с какой радостью он узнал, что Нарожный на воле. Сколько наболевших дум скопилось у Павла. Только ли у него? Весь сельский комитет с нетерпением ждет от Нарожного вести.
Свою нивку семья Захара убрала быстро, и пришлось задуматься, как быть дальше. Татьяна корила мужа и сына: стоит горячая пора, а они дома сидят без дела – надо бы копейку зашибить, не ждать, пока "солнце взойдет". Захар с Грицком и Павлом взяли косы, снова подались к хозяевам, почти за бесценок работали на Мамая, лишь бы прокормиться, пока пана одолеют. Потом спохватились, заговорили о том, чтобы и с хозяев установить плату по рублю в день, да вовремя не договорились, не сладились. Однако не оставляли мысли об этом. К тому же и в сельском комитете были зажиточные, пришла страда – не до заседаний. Мамай сам перед жатвой призывал людей, чтобы бастовали, не спешили к помещикам, восклицал:
– Нам подали камень вместо хлеба и змею вместо рыбы!..
О, боже милосердный! Все тащат, растаскивают харитоненковское добро, наживают себе хозяйство, а ты, старшина, не смей, смотри и бойся закона, бойся земского!
Калитка метался, словно зверь в клетке, домашние дрожали, молчаливые, запуганные. Обрушился на Якова: чего он сидит, остолоп, думает? Приходил в себя, с ненавистью посматривал на свой царский кафтан, от которого старшине нет никакого утешения, наоборот – лишился даже пользы. Закрадывалась мысль: а не ляпнуть ли этим кафтаном об землю? Но не осмелился, не отважился, таил эту мысль про себя. Кто знает, что может случиться? Как бы не прогадать...
Старшина! Люди растаскивают панское добро, рубят лес, косят сено, а ты что? Податей не платят, законов не выполняют, властей не признают, а кто виноват? Старшина! О ком поют песни на ярмарке? А тут еще дома не ладно, сноха бросила мужа, навеки ославила, водится с бунтарями. Когда-то старшина самому черту мог обломать рога, а теперь он последний человек на селе! Безнаказанно издеваются, насмешничают. В глазах темнеет – сколько бед и напастей свалилось на старшину этим летом!
Приснился ему ужасный сон – не к добру: будто попадали со всех церквей купола... Убивают князей, министров!.. И собаки лают на запад, и вороны каркают, и петухи поют – плохие приметы... Стоит стог сена, и на стогу сидит Орина – молодая, голая, – к чему это?
На селе начались волнения, и хозяева сошлись к Калитке на совещание. За рюмкой разговаривали о жгучих делах.
Мамай захмелел, отяжелел, набрякшее сытое лицо его чуть не лопается, налег мясистой грудью на стол, неловко размахивал руками, наставлял, поучал кумовьев.
– Наше дело – направлять людей... Руководствовать ими. И быть незаметными для начальства. Аренду прихватить, вырвать луга и пастбища. Мы что? Люди требуют!
– Смотрите, кум, не прогадайте, – предостерегал Калитка соседа от опасных мыслей, хоть сам не представлял себе, что может случиться, – все село, вся губерния бунтует. На всякий случай мудро высказывал неясные мысли, предостережения.
Остапа Герасимовича ничто не пугает. Пустое, зряшный переполох. Он видит далеко.
– Забастовка нам на пользу, требование высокой оплаты выгонит помещика с земли. Уже и так ходят слухи, что помещики сбывают землю, скотину. Капнист, Суханов не хотят заниматься сельским хозяйством. Невыгодно. Дойдет очередь и до Харитоненки. Кто будет у него покупать? Захар? Грицко? – с усмешкой доказывал Мамай.
Мороз даже просиял от убежденных слов кума, понял:
– Откуда этим Захарам достать денег? Не у них ли описывали подушки за подушное?
– Дело даже не в деньгах, – учил Мамай кумовьев (не понимают они в политике, сразу видно). В ответ на удивленные взгляды собеседников пояснил: – Зачем деньги? Даром? Нет. Надо выполнить закон и быть в выгоде. Вексель. До покрова. А там будет видно – манифест или переменится власть. Кто будет арендовать или покупать землю? Чем будут работать? На своей нивке не могут управиться. Пусть берут. Жаль? А чем работать? Кто будет устанавливать порядки? Мы с вами! К нам придут: спасите! Наше дело сторона. Мы что? Выручить человека в беде сам бог велел.
Все были в восторге от пылкой, остроумной речи – быстрый умом человечище, угловатый, но хваткий! Ясная голова! Вот кому быть земельным министром! Такой не пропадет, не погибнет. Исполненные приязни к Мамаю кумовья пьют и заплетающимися языками бормочут:
– А кто будет обрабатывать – видно будет...
Морозу теперь все нипочем – после того как его по приказу земского сняли со старост за то, что он в комиссии ходил к пану а предъявлял требования. Общество выбрало, разве же он виноват? Мороз, слава богу, только избавился от мороки.
Лука Евсеевич вспомнил о тех палках, которые достались Калитке от людей. Для него все обошлось счастливо, он теперь самый обыкновенный человек. Даже на душе легче. Пострадал за народ... А нового старосту общество выбирать не хочет: "На черта он нам?" Старшину не признают: "У нас теперь своя власть, сельский комитет!" Захар теперь всему голова!
Тут Калитка перевел разговор: на него возложено ответственное дело (кто как не он на глазах у начальства) – как бы словить Нарожного, который убежал из Сумской тюрьмы. Исправник наказывал, чтобы подстерегли...
Высокая награда от губернатора мерещилась Калитке.
Сколько дел свалилось на голову Захара! Везде он стал нужен. Без него сход не начинают, требования пану предъявляет он, выбирают его, а не Мамая, забастовкой он руководит, направляет, чтобы никто к пану на жатву не шел, он же верховодит обществом – глава сельского комитета! Уже давно среди людей идет разговор: на черта нам старшина, шкуродер, прощелыга, обманщик, хапуга? Все за народную власть, за Захара – податей не плати, повинностей не отбывай.
– Кто пойдет к пану на жатву – будет гореть! – Страшная эта угроза повисла над селом, и все знали, что бросил эти слова отчаянный Грицко Хрин, бросил не на ветер.
А на стражника, урядника и старшину, которые были раньше (раньше!) знатными людьми на селе, никто не хочет даже и смотреть, они заслужили общее презрение, и начальники боятся показываться днем на улицу ненавистны всему селу. Как-то ночью люди наделали даже убытков начальникам – у кого разобрали ограду, у кого сняли ворота и пустили их вниз по течению Псла, расшили хлев, засыпали колодцы, – и верховодили нападением кто же, если не Захар, Грицко, Павло, Орина? Задорная молодка разоряла своего тестя! Уж и поиздевались же и натешились над панскими прихвостнями той благостной ночью!
Свет перевернулся в глазах старшины, урядника, когда они утром повыползали из своих хат и увидели страшное опустошение, совершенное селом среди ночи. Словно налетела буря и поломала хозяйство, развернула, разметала. Когда теперь все наладишь? Всю ночь трещало, гремело, грохотало – и не выходи, потому, что огреют колом по голове, какой бы вояка ни был – осядешь. Они оробели, дрожали, не спали, едва дождались рассвета.
Толстая Ганна ходила утром по воду и на все село голосила над чужим колодцем, проклиная лихих ворогов, заводил – Грицка, Захара. А из зеленой чащи вышли Татьяна Скиба и Чумакова Лукия, костлявые, лютые, напали на паниматку – подстерегали, что ли, – побили ведра коромыслом, не пустили к воде. Помяли жирные бока, все припомнили проклятой, ненасытной Ганне: слезы невестки, сиротские деньги, магарычи, взятки, сплетни, пересуды, издевательство над людьми – было что вспомнить. На все село изругали, отбивая коромыслом холеные бока и приговаривая: "За смех, за глумление над Ориной!.." Все высказала сватье Лукия. Вцепилась в косы, водила, мотала за надругательство над дочерью мстила мать. И удивительно, никто не защитил, не вступился, никто из всего села не окликнул, хоть и повыбегали изо всех хат, высыпали на улицу, на огороды. Целая толпа не без удовольствия наблюдала, как Лукия била сватью, приговаривая:
– Думаешь, долго будем тебе угождать? Прислуживать?! Пришел, паниматка, тебе конец!
Происшествие на всю округу!
Новый переполох всколыхнул все село: пока люди бастовали, набежали соседние села, надумали захватить работу. Видно, экономия не дремала. Чернуха захотел перехитрить Буймир, разослал надсмотрщиков по дальним селам, нанял там крестьян, и те бросили свои нивки, теперь косят, вяжут панский хлеб в Доброполье. Злая весть ошеломила, встревожила Буймир, люди кинулись к ветхим воротам, обступили хорошо знакомую убогую хату, на которую все село теперь возлагало надежды. Захар стоял перед миром задумчивый, встревоженный. Немало горьких слов пришлось ему выслушать. Председатель сельского комитета ничего не знает не ведает, а тем временем чужие села захватывают у нашего пана работу, лишают Буймир заработка. Куда мы пойдем? Чернуха обманул общество и теперь насмехается.
И Захар повел в поход взволнованное село. Сотни брылей, платков пошли на переговоры с пришлыми. Грозная, единодушная толпа.
Не забыли прихватить дубье, колья, заткнули за пояса топоры. Девушки вооружились острыми тяпками.
Захар оправдывался перед людьми:
– Разве кто виноват? Дозорные наблюдали за панскими полями, а сегодня с утра экономия нагнала людей – набежали соседние села.
Со взгорья за селом открылось обычное и вместе с тем неожиданное зрелище, которое возмутило людей, наполнило их гневом. На побелевших панских нивах размахивали крыльями косилки, блестели косы, сновали верховые. Началась жатва – широкие поля были перерезаны полосами скошенного хлеба. Жатва только что началась, а уже на току, около оврага, стояла молотилка. Харитоненко спешит обмолотить перестоявший хлеб.
Гневно взвилось над головами красное знамя. Его подняла Орина. Куда бы ни ходили, что бы ни делали, знамя неотступно было при людях, словно придавало отваги, разума, вело в поход. И почему-то вошло в привычку знамя всегда развевалось над Ориной...
Не кому другому, как Гаркуну и Пугачу, поручено руководить жатвой этого лета в Доброполье. Пшеница – что море. Удостоенные высокого доверия, предчувствуя хороший заработок, награду, надсмотрщики ветром летали по полю, расставляли рабочую силу, разбивали участки для косарей, косилок. По приказу эконома разогнали гонцов по окрестным селам нанимать еще людей.
Небо затуманилось, поле заволокло дымкой, распаренные тела косарей, вязальщиц обвеяла приятная прохлада, над нивами разнеслась протяжная девичья песня:
Марусино благородна,
Не влюбляйся в дворянина...
Надсмотрщики сегодня на удивление радушны с вязальщицами, не кричат, не ворчат. Разве они не знают, как обращаться с людьми – шуткой, остротой, а иногда и окриком.
Девушки проворно двигались, крутили свясла и тянули, вытягивали, выводили – может ли девушка вязать без песни?
Бо дворянин пiзно ходить,
Не одную Марусину з ума зводить...
А потом напали на надсмотрщиков, стали упрекать, бранить. Обычные разговоры:
– Напекли хлеба, чтоб у вас на сердце пекло! И это в первый день! Не выкис, корка так и отстает, целый день тошнит. А что же будет дальше?
Девчата с тоской тянули, вытягивали:
Не одную, то другую,
А все тую Марусину молодую...
Косари у дороги стали точить косы, закуривали, а сухонький малорослый дед окинул взглядом небо и уверенно сказал:
– Будет дождь. Пшеница отошла, не осыпается зерно.
Обвел взглядом поле, дорогу и заметил – приближается большая толпа с красным знаменем...
...Оставайся, Марусино, сама дома...
Песня оборвалась, косари, вязальщицы заметили большое шествие, на минуту остановились, застыли, а затем нехотя продолжали работу, встревоженно ожидали, медленно довязывали, докашивали. Зловещая тишина нависла над полем, только слышно было, как дребезжат косилки.
Над дорогой взвилась песня, – не жалостная, не тягучая, а совсем иная – грозная, необычайная, бунтарская песня! Красивая статная молодка несла красное знамя, которое особенно бросалось в глаза среди белых сорочек. Красным своим цветом оно приковывало взгляды людей, разговаривало с ними, взывало к ним. Жнеи, косари словно оцепенели. Высокий, хилый бородач ведет поход, властно поднимает руку. Косилки остановились. Остановилось и шествие. По нивам пробежало беспокойство. Казалось, властная рука остановила самую жизнь. Поденщики сходились, вязальщицы перевязывали платки. Нахмуренные косари вытирали взмокшие лбы. Ждали. На всю округу гремит Буймир. Беды не миновать.
Примчались надсмотрщики, остановились в стороне: беспорядок снова затеяли. Захар встал на косилку, обвел глазами толпу. Могучий взмах руки все бросили работу, приблизились, одни нерешительно, другие бегом.
– Что же у вас тут – спят и не знают о революции? – грозно напал Захар на оторопевших людей, которые растерялись и не могли понять: может быть, на самом деле что-то случилось, какое-то выдающееся событие? Теперь такое время, каждый час какая-нибудь неожиданность, а они ничего не ведают.
Однако Захар, не давая опомниться, с горячностью бросал мятежные слова:
– Сын Харитоненки заводы проигрывает в карты за границей, а Харитоненко из вас жилы тянет!
Очень неловко почувствовали себя поденщики под пронзительным гневным взглядом известного на весь уезд оратора, который всегда появляется на ярмарках, сходах, бунтует людей против панов, нагоняет страх на начальников.
Многолюдное шествие, которое привел Захар, тем временем обступило поденщиков. Крестьяне Буймира не могли стоять молча, угрожающе посматривали, опирались на колья, с бранью нападали на соседей, которые нарушили постановление и сорвали забастовку. Опережали мысль оратора, который пока что все-еще делал вступление:
– Рабочие давно вывезли псов-управляющих на тачках, а у нас еще до сих пор Чернуха, Пугач и Гаркун сидят на шее!
Слова оратора тяжелым укором западали в души людей. Рабочие везде борются за свои права, потому что капиталисты выжимают из рабочего все его силы, а под старость выбрасывают его на улицу. Уже восстал "Потемкин Таврический", забастовали железные дороги и телеграф. Царь и министры надумали задавить, разгромить революцию. А зачем соседи сорвали забастовку? Зачем нарушили приговор? Броненосцы "Три святителя", "Двенадцать апостолов" и "Георгий Победоносец" не могли ничего сделать с восставшими матросами, которые выкинули красное знамя и провозгласили революцию. И солдаты уже поют "Марсельезу". Рабочие Петербурга и Кавказа сражаются на баррикадах!.. Что-то необычайное и непонятное для соседей содержится в этом слове. Захар подробно объясняет, как рабочие нагромождают камень, доски, бревна, ящики – помогают женщины и даже дети, – рубят телеграфные столбы, срывают вывески, оплетают все проволокой, загромождают улицу – получается заслон от казаков и полиции, который называется баррикадой.
Задумчивые, хмурые поденщики молча слушали Захара, который призывал бастовать волостями, уездами. Наука эта называется тактикой. Односельчане восхищались своим знаменитым оратором, который овладел великой силой слова и теперь так красноречиво поучает людей.
Отозвался молодой, низенький паренек из соседнего села, Гнат Стриба. Поучения и упреки ему надоели. На клич Захара бросать работу Гнат Стриба упрямо вел свое:
– Мы каждое лето мыкаемся по заработкам, нам не на что купить и нечего продать, разве что свои руки! Мы уже отвыкли от своей земли, нам все равно ходить по экономиям, какая лам корысть в аренде? Разве соберешься силами купить коня, плуг, вола? Нам землп не арендовать, не сеять. Нам нужен кусок хлеба, чтобы его есть. Куда мы пойдем?
– Свет широк, – ответил Иван Чумак.
– Свет широк и для вас. Дома куска хлеба нет, коровенка стоит без корма. Буймир хоть панское добро захватил, а мы что?
– Не надо было зевать! – вновь подал слово Иван Чумак.
– За вами поспеешь!
Нарастали недружелюбные выкрики, начинались ссоры.
Стремясь избежать вражды между селами, Павло вразумлял, предостерегал людей, чтобы не отчуждались, не шли врозь, не срывали забастовку. Надо сообща, селами, волостями, уездами, губерниями, вместе с рабочими наступать на панов. Только тогда можно сломить Харитоненку, Суханова, Капниста, Кенига. Попытка Павла объединить два лагеря не привела ни к чему. Надо сказать, Павло иногда шел против общества, и поэтому бородачи не соглашались с ним – сами теперь набрались ума, не молодому парню учить общество. Павло испытывал смятение, он не видел единодушия села в борьбе с панами и не мог этому помочь. Призывал соседей не становиться поперек дороги Буймиру, заверял:
– Мы свое возьмем, Харитоненко нам всем заплатит за то, что заработали, и за то, что не заработали!.. Подождите...
– Хорошо тому, у кого есть с чем ждать, – высмеял совет Павла пожилой чахлый косарь, обозлив своим упрямством буймирцев.
Сухонький, вертлявый дед напал на ненасытный Буймир:
– Что вы тут порядки наводите? Это наш пан!
С сельскими землями Бобрика граничит экономия. Немало крови выпила! Сколько людских сил там пропало. Мало ли вытянуто отработками, штрафами? За леса, пастбища, дороги? А теперь Буймир зарится на панские земли? Хочет прибрать к рукам панское добро, арендовать Доброполье, чтобы соседям негде было приработать? Бобрик решительно заявляет, при этом лица краснеют от натуги, срываются голоса:
– Что вы тут свои права предъявляете? Это наш пан!
– Наш пан!
Возмущение охватило Буймир по поводу этих бесстыдных слов, Мамай и Мороз с великим жаром накинулись на соседей, которые по-глупому распустили брехливые языки, завели непутевые разговоры, пошли против здравого смысла.
– Очнитесь, оглупели вы, что ли, с ума сошли, или у вас головы вывихнуты, или в головах все навыворот? С Харитоненкой еще и деды наши были в тяжбе по поводу спорных земель, это наш пан!
– У вас хаты под боком, а нам куда деваться? – вмешались в спор прибывшие из далеких сел. – И что делать?
– Бастовать! – решительно твердит Павло.
– А чем жить? Кто нас будет кормить?
Павло увидел, на какие хитрости пошла экономия – навербовала рабочие руки в дальних селах, дальний должен держаться места, потому что нет под боком прибежища. "И как помочь беде? – думал он. – Надо рассудить в сельском комитете".
– Распрягайте волов, что вы на них смотрите? Гоните их с поля! призывал горячий Грицко Хрин.
Поднялся неимоверный шум, люди кипели от гнева, угрожающе наступали на пришлых, взялись за колья, стали окружать, девчата секли тяпками одежду, а если кто-нибудь упирался, задирался, то тяпки ходили и по спине.
– Прочь отсюда!
– Нам мало работы!
– А то посечем!
– Прогнать чужих!
– Головы поснимаем!
И когда Павло, бестолково крутясь, сделал попытку защитить людей от побоев рассвирепевшей толпы, Захар пригрозил Павлу палкой, крикнул сыну, чтобы тот не путался под ногами.
Началась великая свалка. В котел с варевом побросали постолы, тряпье – чтобы и не надеялись на миску борща. Буймирцы распрягали волов, переворачивали возы, рубили колеса, оси. Пришлые хватали свои манатки, срывались и кидались стремглав, спасаясь от гнева, расправы. Миску горячего борща не дали похлебать. Рассеялись по полю, довольные, что хоть целы, что вырвались живыми.
Село разгорячилось, разбушевалось. На глаза попались машины. Угроза для села! И без того не хватает работы, а тут еще машина – скоро не нужно будет ни сеятеля, ни косаря, ни вязальщицы, на что ты сдался на земле? И без того экономия за бесценок вербует рабочую силу. Всегда хозяйствовали на земле человек и конь, а тут вдруг – машина! Вырывает работу и у коня и у тебя. Жнейки да косилки обкрадывают людей. Целую зиму слонялись без работы Захар и Грицко. Да они ли одни? Бывало, зимой люди ходили с цепом и зарабатывали на харчи, а теперь молотилка прижала, целую зиму некуда приткнуться, свободные, гулящие руки, голодные дети.
С этими мыслями люди выпрягли волов, накинулись на косилки, жнейки и начали бить, крушить. В щепки изрубили колеса, покололи доски, разбили ножи, погнули железо, а что не брал обух – закладывали жерди, налегали, гнули, переворачивали, перебрасывали, били жердями, оглоблями, с боков, снизу. Все полегло перед разъяренной силой.
Павло сначала растерялся, но хлынула разъяренная толпа, закружила парня. Не подумают ли люди, что он в страхе перед паном оцепенел? И Павло тоже замахнулся колом.
Как ни упрашивали топтавшиеся поодаль на конях надсмотрщики, чтобы пожалели машины – жнейки не виноваты, – люди были неумолимы и слушать не хотели, нещадно расправлялись с машинами. Будет что рассказать надсмотрщикам пану. Обманули поденщиков – путаный, полегший хлеб, оплетенный повиликой, хлеб, который тянется за косой, предоставили косарям, а хороший думали собрать машинами.
Вот тут-то Мамай стал умолять односельчан, чтобы не трогали жнейку, которую пан выписал из-за границы. Мамай хочет взять ее себе, дома будет жать, немалое поле – когда уберешь руками! – будет и людям и себе, вязальщиц не надо. К тому же люди ему в аренду сдают свои участки, как тут поспеть, а жнейкой день – и поле убрано... Раскрыв рот и растопырив руки, он стоял перед грозной толпой, защищая машину. Упал на жнейку, молил людей:
– Не троньте, моя!.. Мое добро!..
– А и правда, люди добрые, послушаем Мамая, – согласился Мороз.
Сначала в жарком гневе люди никак не могли раскусить, чего хочет Мамай, о чем хлопочет. Обходили жнейку, чтобы поудобнее за нее взяться. Когда же пришли в себя и поняли, к чему он клонит, сильно обозлились на жадного хозяйчика. Мало людей с Калиткой ободрал, ненасытное брюхо, когда же накормят тебя? С этими словами Захар, а за ним Грицко Хрин без колебания опустили колья на жирную Мамаеву спину, так что загудело. Мамай завертелся, перевернулся, завопил, рванулся, как обожженный, и едва выбрался из толпы, щедрой на тумаки. Оглушенный, он стоял у дороги, тяжело дышал, изгибался, проклинал лихих заправил – Грицка, Захара, которые помяли человеку ребра ни за что ни про что. Ослеплены ненавистью, не ведают, что творят. Побьют, поломают машину, изувечат, никому от этого выгоды не будет, а кабы Мамай взял жнейку себе, была бы польза.
А люди тем временем облепили молотилку, впряглись, налегли, поднатужились, – молотилка погрузла широкими колесами в стерне, но по утоптанной дороге покатилась легко, даже развеселив людей. На все поле раздавались выкрики, словно шли на приступ, одолевали врага, брали гору, осиливали, еще немножко – и конец... Люди, обливаясь потом, с неслыханным напором толкали ненавистную машину – и молотилка полетела в пропасть.
Со злорадством смотрели, как в клубах пыли, бешено грохоча, катилась она в овраг, летела, перевертывалась и разваливалась. Незабываемое зрелище! Захар, Грицко сияли от счастья. По телу разливалось блаженство. Не каждому дано понять, почувствовать! Дыхание остановилось. Людям казалось, что вместе с машиной летит стремглав, вниз головой в пропасть, гудя и грохоча, ненавистный панский мир.
...На безлюдное тихое поле легли сумерки, у дороги стлался дымок, дотлевали обломки машин, накрапывал дождь.
5
С Нарожным встретились, как с родным, обнялись, как с братом. Он побледнел, похудел, глаза запали. Вспоминал, расспрашивал обо всех, разговорчивый, глаза блестят, только кашляет. Приходится ему скрываться, чтобы не проведала полиция. Рабочие прячут его у себя. Просидели целую ночь, говорили о политике – в уезде не одно село. Захар поставил на стол гостинец – спелые груши, сочные, ранние, с горшок величиной. "Моего приобретения..." Из помещичьего сада принес Захар гостинец.
Нарожный смеялся до упаду, веселился без конца: на вербе выросли?.. Советовал не надеяться на царскую думу, а наш сельский комитет похвалил. Не заметили, как прошла ночь. Ужинали, пили не чай, а чарку. Только часто он хватается за грудь – не отбили ли легкие?..
– Не дворяне, – говорил он, – дадут нам землю и свободу, а, значит, народные избранники.
И когда Захар тут спросил, не выгнать ли, часом, из сельского комитета чертову душу – Мамая, которого навязали на сходе зажиточные хозяева, Нарожный предостерег от этого, призвал к единодушию в борьбе с помещиком. Конечно, до поры до времени...
В Захаровой хате начиналось заседание сельского комитета. Набилось полно народа, слушали отчет, жадно ловили каждое слово, когда Захар, то есть председатель, рассказывал о своей встрече с Нарожным, который вызвал Захара на тайное совещание и дал инструкции. Дал или не дал мастер "инструкции", но раз Захару втемяшилось в голову новое, любопытное, звучное слово, необычное для крестьянского уха, так почему не порадовать присутствующих? Уж не скоро он о нем забудет. Правда, в эти дни люди падки на новые слова, с каждым из них словно открываются новые горизонты.
Дед Ивко расчувствовался, прослезился – мастер ему передал поклон, у мастера сорочка истлела в тюрьме, столько он принял горя! Запечалилась о нем Татьяна – ослабел, похудел, как бы чахотка не прикинулась. Не близкий край, а то бы молоко носила, корова теперь славно доится, захватили у пана сена.
Захара слушали верные люди, немалый круг, опытные в тайных делах сельский комитет. Мамай не пришел. Не до заседаний ему. Надо сказать, Иван Чумак не так давно переступил порог Захаровой хаты и словно породнился с ним – соседи жили в добром согласии. Максим думает сватать Захарову дочку, как только с жатвой управится. Приработать надо за лето, собирают деньги на хозяйство, лишь бы только у панов вырвать землю, потому что на чем же хозяйничать?