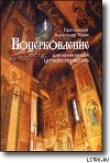Текст книги "Чужую ниву жала (Буймир - 1)"
Автор книги: Константин Гордиенко
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 22 страниц)
Не может смотреть мать на свою дочку: сохнет, желтеет... Больна, недоедает или от тоски? Не жалуется, никого не укоряет, хоть и нелегко у нее на душе. Мать пристала, привязалась с расспросами, да, видно, и дочь уже не в силах молчать, смутилась, разволновалась.
Доверила дочь свое горе матери. Нет житья, нет радости с этим Яковом – словно в пенек душу вложила. "Смолоду – мужа, под старость – деда не будет..." Как Орина к матери собирается, так свекровь ей за пазуху и в карман залезает: "А ну, с чем ты идешь?" – чтобы случаем яблоко или яйцо не взяла. В подоле горшки держит, за столом ложку каши положит – "довольно или еще?". Мука, сало, крупы под замком, только вода не заперта. Пятьдесят колод пчел в поле, а мед едят лишь на спаса. Свой пруд, а юшку без рыбы варят. За коровами смотришь, а стакана молока никогда не видишь. Хлеба, горячей пищи по-человечески, вовремя не съешь. ...Всех обид, издевательств, которые приходится терпеть у Калиток, не пересказать...
Ивану Чумаку нелегко слышать эти жалобы. Он сердито стучит трубкой дочь приходит, чтобы корить отца, что ли? Надо было уважать себя, тогда и тебя люди уважали бы!.. А дочь в ответ – не в силах она жить у Калиток, терпеть муку, надругательства! Она пришла в родной дом за советом, робко высказала мысль о том, чтобы уйти от мужа, а над ней глумятся!.. Разве она не работала бы, не ходила бы в экономию?
Ошеломила домашних неожиданная новость – дочка хочет от Калиток уйти, бросить мужа, навек осрамить Чумаков! У них в роду такого не бывало! Мать Лукия хоть и сокрушалась сердцем, думая о дочке, теперь предостерегала Орину от своеволия. Боже избави, от нее люди отшатнутся! Вразумляла, наставляла:
– Молчи, дитятко мое, побойся бога, не говори никому, покоряйся, слушайся, нам и не пискнуть против старшины!
Неразумные слова Орины рассердили отца. Чтобы дочь не смела думать об этом! Стыда и совести у нее нет! Никогда не было такого. Испортились молодые люди. Бога не боятся, людей не уважают.
– И мысль об этом выкинь из головы! – наставляет Иван Чумак. – Уйти от мужа? Да где это видано? Кто тебя научает? Ты уже в нашем хозяйстве чужая – хочешь, чтобы люди нас осмеяли? От двора отрезана – как тебя принять? От такого хозяйства хочешь уйти? Может, когда-нибудь хозяйкой будешь, не век же Калиткам жить, поможешь нам. Хочешь меня поссорить со старшиной? Чтобы я виноват был перед Калиткой? Хочешь на меня беду накликать?.. Живи! Терпи! Разве хоть одна женщина на селе ушла от мужа? Была такая, и ту по этапу вернули! Не знаешь закона? Не знаешь, что муж имеет права на жену? Хочешь, чтобы люди тебя перестали узнавать? Чтобы весь наш род поносили? И так ославила! Разве ты у меня одна? Вон Марийка растет – кто ее возьмет? Уйдешь – никто сестру не захочет взять: эта из такого двора, что не уживаются! Люди смотрят: если первая дочка не засиделась в девках, то пусть их будет семеро – разберут!
Конечно, отец только накричал, но пальцем не тронул дочери – не девка, замужняя, над ней есть хозяин, муж ею распоряжается...
Орина не посмела ни одним словом перечить отцу. В родную хату принесла свое горе, отважилась прийти за советом, чтобы избавиться от ненавистных Калиток, уйти со двора, но еще больше горя принесла ей родная хата, придавила, совсем развеяла надежды на освобождение. К тому же отец пригрозил "етапом" – что-то страшное, позорное чувствовалось в этом слове.
Марийка заплаканными глазами смотрела на сестру: неужели батько из-за нее, из-за Марийки, не хочет принять Орину? Да она будет до седых волос сидеть дома, не станет выходить замуж, только бы Орина вернулась в родной дом...
Тем временем у Калиток тоже поднялась свара, перебранка. Свекровь бесновалась, кляла невестку, что не послушалась. Сегодня без позволенья пошла, а что будет завтра?
Роман Маркович укорял и поучая сына:
– Вот что твоя молодая выделывает!.. Будешь потакать, дашь жене волю, так скоро она наденет штаны... Что ты, муж или тюфяк? Чтобы жена посмела ослушаться! Какой же ты хозяин?
– Вахлак! – с презрением бросила брату прямо в лицо Ульяна.
Яков растерялся, беспокойно заерзал.
– А если Орина меня бросит, что тогда? – отвечал он наседавшим на него родным.
Способности у Якова хватит, справиться-то он сумеет, только боится, чтобы не бросила Орина. Где он тогда другую жену найдет? Разве они знают Орина не раз пугала его этим, чтобы не приставал.
Отец вправлял мозги сыну:
– Бросит – этапом приволокут...
Много он не говорил, но успокоил сына – уж кто больше знает, чем старшина? Закон, сила в его руках.
Яков и без того уже мучился. Потакает он жене, это правда, непокорна стала Орина, пренебрегает мужем. Запрет ее не останавливает, никогда-то она не послушается, не смолчит, всегда резкое слово найдет. Правду говорят домашние – люди скоро начнут над ним смеяться: жена, мол, командует, держит верх. Не способен он, что ли, скрутить жену? Как тут не возьмет досада – муж сидит дома, а жена где-то разгуливает!
Разволновался, разошелся Яков... Пошла на мужа наговаривать! Снова пожалуется брату. Разве Яков не знает, что это за родня? Не знает он, что ли, что ему делать?
Сильно разлютовался Яков, запряг кобылу, погнался с возом за женой, как вихрь вылетел со двора, встретил ее уже на улице, привязал к оглоблям. Раз хлестнет кнутом кобылу, дважды жену:
– Не ходи никуда без хозяина!
И люди видели, останавливались, но не вмешивались, не вступались.
Обычное явление – муж жену бьет! Эка невидаль!
Муж заставляет жену любить!
Кто не знает порядка?
Бьет муж жену сколько хочет и как хочет, и никому нет до этого дела моя хата, моя жена, моя кобыла, мое право! Купил в полное владение!
Приволок домой муж непокорную жену, к возу привязанную. Кто ее знает, где она шаталась? С конем в пристяжке прибежала, посрамленная, осмеянная. Может быть, пьяная?..
Свекровь встретила в воротах.
– А что? Жаловалась?! Шлялась?! Ишь, шлюха! Не уважаешь мужа? Будешь еще целовать след его ножек!..
Отец сына похваливает:
– Вот теперь ты муж!
Собрались молодки, судили, рядили:
– Никак не приспособится эта Орина к мужу, женщина с норовом...
– У даренной на свадьбу сорочки пола с прорехой – вся жизнь с прорехой...
Орина, запуганная, избитая, сидела в хате, всхлипывала. Сердце разрывалось от отчаяния. Сегодня как никогда она почувствовала свою беспомощность. Подалась к матери за помощью – отец поругал, а муж поиздевался вволю... Что плохого она сделала? Только навестила родных... Яков тем временем наводил порядок в доме. Теперь он знает, как заставить жену любить мужа, не будет больше потакать Орине. Теперь он заставит ее угождать, приноравливаться к мужу, выбьет из нее дурь. От этой мысли и от похвал домашних Яков заважничал, прохаживался по двору, даже запел...
Пел он про негожую жену, что не умеет ни снопа связать, ни слова сказать... Сноп свяжет – он развяжется, слово скажет – не нравится...
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
1
Гневные ветры обложили село, дождь сечет землю. Вереницы девушек вьются по туманным дорогам. В чистом поле набегают тучи, дожди моют, хлещут по ватной одежке – об отцовом сыне мать и батько плачут, а о сиротине черный ворон крячет. Буйные порывы ветра сгоняют желтую листву, заработчики сходятся к родным очагам.
Лишние руки прибывают на село.
Павло с Максимом вернулись раньше – выгнали из экономии.
Едва отошли утомленные жилы, все снова стали собираться у бабки Жалийки в пасмурные осенние вечера – долгожданные встречи, разговоры, развлечения. Немало набежало за лето новостей, пока их перебрали, немало и пряжи наготовили, намяли, начесали. Ветер гуляет на чердаке, девушки прядут на посиделках с тайными думами, тревогами. Полотна закупают для войск целыми сувоями. Проворные девичьи пальцы выводят нитку – солдатская сорочка на перемену, а может быть?.. Надо себе и домашним кое-что пошить, хозяйке посиделок матери Жалийке собрать по полмотка – говорят, возвращается ее искалеченный сын.
Девушки поют во всякую погоду. Станут на улице, прислушиваются, как разносятся голоса, кличут хлопцев, да что-то не очень те торопятся. Осенний туман разносит жалобные голоса.
Где бы хлопцы ни ходили, где бы ни бродили – гонят беспокойные думы, – все же двора Жалийки не миновать. Приходят в хату рассеять свои сиротские настроения: "Дайте коней вороных под рекрутов молодых, гей!" Без привычного шума и гама стоят возле прялок, вяло разговаривают, садятся играть в карты.
Павло склонился у стола неразговорчивый, озабоченный – видно, опостылели ему посиделки без Орины. Парень исхудал, глаза блуждают. Как ни стараются девчата, не могут ничего выведать, родной сестре не скажет. Следили, наблюдали, не приглянулась ли какая-нибудь из них. Нет, видно, свет ему не мил... Без веселой подруги скучно и девчатам. Не жаль, кабы была счастлива, да в неволю выдали дочку Чумаки.
Люди осуждают Чумаков – Калиткино добро им затуманило голову.
Павло совсем извелся. Бесталанный парень – заниматься хозяйством не на чем. Невесело заработчикам среди хозяйских сынков. Ходят слухи, будто Павло подговаривает Орину бросить мужа, да неизвестно, как на это посмотрит Чумак. Вероятно, и на порог не пустит дочку. Павлу невозможно вмешаться – у нее муж, отец. Люди слышали, как Захар под хмельком срамил Чумака. Да разве поможет? Все равно Орине некуда деваться. В отцовском доме – нет места. Разве что внаймы. Но кто ж ее возьмет в своем селе? Старшины побоятся. А из чужого села приведут по этапу.
Да и Павло сам слоняется без дела. Свет широк, а деваться некуда.
– А уже солдаты отказываются ехать в Маньчжурию, слух такой. Новобранцы отказываются от набора, – сообщил Павло.
Всех всполошила эта новость, хоть глухие слухи об этом ходили и раньше по селу. Не могли понять: как осмелились?
– А кто контрибуцию будет платить, если нас японец побьет? – задал Мамаев Левко дальновидный вопрос. – Хорошо тебе – с голого, как со святого...
Левко – сынок богатого отца, красная рубаха на нем ласкает глаз, он заботится о своем хозяйстве. Мамай знается с бывалыми людьми. У Мамая пьют, гостят старшина, батюшка, урядник, разговаривают о порядках, о повсеместных неполадках, забастовках, о войне, о том, что неуважение к властям проникает в села, потому что повсюду уже подбивают народ бунтовать. Левко всего наслушается, знает немало мудреных слов, о которых Павло, может, и не слышал.
– Не буду платить и тебе не советую, – отвечает Павло на предостережение Левка.
– Пусть паны платят, они войну затеяли, – добавляет Максим.
– Паны с тебя и потянут, – вставляет Маланка.
Ульяна неприязненно молчала, хорохорилась – пристойно ли дочери старшины слушать эти разговоры? Сама не принимала в них участия и другим не советовала.
Хозяйские сынки милостиво разрешили: говорите, пока мы с вами! Бояться какого-нибудь там стражника или урядника!
Хозяйка посиделок Жалийка прослезилась, вспомнила сына Охрима, который потерял на войне ногу. Дома горюет молодая солдатка с дитем.
На девичьи беспокойства Павло пожал плечами: разве он все это сам выдумал? Слыхал разговоры людей на ярмарке, все осмелели, не скрывают своих мыслей, поднимают голос, повсюду ропот, грозят панам – кому это не известно?
Левко пришел к выводу: война вывела кое-кого в люди. Слава, служба, награды. Взять хотя бы Назара Непряху. В стражниках он теперь. А кем был?
Маланка расписала этого Назара. В воскресенье был на ярмарке – медали и кресты на солнце сияют, он поигрывает широкими, как у пристава, голенищами, побрякивает саблей, шнуры у него горят – словом, ярмарочный красавец. Весь народ засмотрелся, как стражник наводит порядки на ярмарке, надзирает. Соседи наперебой зазывают Непряху, то есть Назара Сидоровича, на магарычи, да он не с каждым станет разговаривать и пить чарку.
Посиделки знали: урядник Чуб, старшина Калитка, стражник Непряха надежная охрана села. Свой суд и расправа. Говорили об этом с неприкрытой насмешкой, даром что дочь старшины слушала, – не боялись.
Хозяйские дочки тут не стерпели. Ульяна Калитка, на которой плисовая корсетка чуть не лопалась, Мамаева Наталка, которая поигрывала в сторону Василя черными бровями, ладно сбитая Морозова Настя, заметные, видные девчата в кругу латаных девушек, обозлились. Загомонили наперебой: вот развезли про политику! Долго еще слушать эти нудные разговоры? Не на посиделки, что ли, пришли? Вместо того чтобы с дивчиной любо-мило посидеть, попеть, хлопцы завели разговоры о войне, о порядках, о податях, словно деды!
Изменились хлопцы – это заметили девчата, – стали какими-то вялыми, не чувствуется в них удали, настоящего запала. Куда девались славные шутки, затеи? Пьют до потери сознания или ходят понурые, придавленные, полусонные... Как сурки!
Девчата пряли со скукой – скоро всех хлопцев заберут. Из памяти не выходила тягостная картина.
...Густой осенний туман стлался по земле, горланили петухи. Новобранцы, сбивая жидкую грязь, брели по селу. Следом тянулись вопли жен, девичий плач. Рекруты опухшими глазами смотрели на белый свет...
Песня – девичья утеха и отрада – зазвенела в хате... Ульяна Калитка, вероятно наслушавшись песен в Лебедине, завела среди своих подруг:
Нiхто так не страдає,
Як милий на войнє...
Вiн пушки заряжає,
I думає о мнє...
Она поразила всех своей необычной песней. Будто тоскует дивчина... Подружки неспроста бросают взгляды на Мамаева Левка.
Да и с песней теперь остерегайся. Всех напугал недавний случай. Парни и девушки сошлись около Псла, над кручей в леске, пели при луне, ясные голоса разносились по воде до самого села. Вдруг из лесочка примчались верховые, урядник, стражник, десятник, окружили перепуганных певцов, захватили и погнали в волость. Непряха, как бешеный, скачет на резвом коне, гонится за девчатами с криком, шумом. Девчата – в плач, в слезы, сбились как овцы, беспомощные, перепуганные, упрашивали, чтобы их освободили. Но урядник Чуб был неумолим:
– Вы знаете, что петь запрещено? Политический год!
Арестованных гнали по селу в волостное управление. От Непряхи никто не убежит, всякие песни и веселия в его руках, он только недавно поступил на службу, а уже слухи шли везде о ретивом стражнике. Долго ли ему выслужиться до урядника? Заманчивое будущее вставало перед его глазами тогда он не будет чистить коня Чубу...
Непряха злорадно объявил понурому табунку:
– До утра посидите в холодной, а там дадут вам метлы и отведут под караулом подметать базарную площадь.
Срам, надругательство на все село. На весь уезд ославят. Набрались страха, наплакались, нагоревались.
– Дядечка, да мы только пели "Гриця".
На слезы не обратили внимания.
– Нельзя собираться! Почем знать, кто среди вас затесался? Может, были политические разговоры, против закона пошли – теперь не без этого. Может, кого-нибудь прикрываете, припрятываете?
Грозил, стращал урядник, видно было по всему, что молодежи не миновать беды. Тогда парни сложились и выкупили девчат, те бросились врассыпную, а хлопцы пошли в волость, да скоро и они откупились.
Все ж таки и урядник и стражник не без сердца, они же только выполняют законы – освободили, помиловали певцов, потому что убедились, что это ни в чем не повинные сельские парни, девушки. Все были довольны, что так счастливо обошлось, потом со смехом вспоминали, пересказывали. Однако остерегались. Когда же об этом случае узнали Максим и Павло, они решили проучить Непряху.
Выследили, засели. Ночью стражник мчался на коне к своей дивчине на хутор. Хлопцы привязали поперек дороги между двумя ясенями у околицы веревку. Непряха упал с коня, разбился. С той поры он стал еще лютее.
Павла с Максимом боится вся улица. Смелые парни. Они и хозяйских сынков брали в кулаки. В разгар молотьбы разбили молотилку в экономии. Павло на барабане стоял, подавал снопы, а кто-то замотал в сноп рядно. Барабан такой, что только колосок пролезет, а тут драный мешок сунули. Порвало середину. Сбежались надсмотрщики, пришел эконом, вызвали мастера. Молотилка надолго выбыла из строя: повредило вальницы, поломало бичи, порвало ремень. Досталось от эконома надсмотрщику Гаркуну. Издавна повелось – месть заработчика. Как ни оправдывался Павло – разве уследишь в горячей работе? – выгнали парня и ничего не заплатили. На землях Харитоненки ему теперь не найти работы.
А пока что посиделкам не страшно – ведь пели, разговаривали про политику в присутствии хозяйских сынов. Те, известно, заносились. Очень они испугались какого-то там Назара Непряхи!
Тоскливая песня звенела в хате, хватала за сердце:
Ой мати моя, не жени мене...
Не жени мене, не жури себе,
Бо вiзьмуть мене в некруточки,
Обрiжуть менi чорне волосся...
...Посиделки вгоняют в сон. Хозяйские хлопцы прикорнули около своих раскормленных девчат. Ночь укрывает всех. Павло вышел из хаты. Сторож пробил часы на колокольне.
2
Заводь затянуло льдом. Под босыми ногами молодой ледок трещал, ломался, расходился, булькала загнившая вода. Река была еще жива, еще плескалась черная вода Псла, но болота уже замерзали. Орина вошла выше колен в заводь, взбудоражила застоявшуюся воду, вытаскивала коноплю. На лице ее проступил пот. Сапоги она сбросила. Останутся сухими – ноги согреются. Она стояла по пояс в заводи, лопаткой откидывала землю, отбивала мерзлые комья. Ноги, руки задубенели, тело горело. Коноплю замачивали как будто не глубоко, к осени от дождей вода в заводи поднялась.
Женщина погрузилась в холодную муть, оттянула коноплю с края, а теперь надо с середины. Орина доставала клюкой придавленные землей снопы конопли и выбрасывала на берег. А золовка Ульяна, укутанная платком, в кожушке, в добротных сапогах, подхватывала на берегу вилами эти снопы и укладывала для просушки.
– Тяни, тяни! – покрикивала она на невестку. – Не замерзать же конопле в воде!
Согрелась, разрумянилась и, стоя за камышом, за лозняком, подгоняла Орину.
– Ты не замерзла?
Помочила горячую руку:
– Вода подо льдом не очень холодная.
Но ее в это болото и огнем не загонишь.
Вода под ветром стыла. Орина уже не чуяла рук и ног, красных, как бурак. Обмерзшая, закоченевшая, она едва отваливала тяжелые пласты земли. Живет – без радости, помрет – без горя. Одна лишь мысль согревала душу. Искалечили, изломали девичью волю, но сердце надеется: может, проглянет солнышко? Давно бы наложила на себя руки, кабы не надеялась, не верила... Павло не даст себя затоптать, сумеет защитить себя, достичь своего, добиться освобождения и для нее... Иначе как жить?.. Орина полоскала пучки конопли, отмывала их от земли, подавала золовке... Все вытерпит, перенесет Орина, лишь бы только любящее сердце не закрылось для нее.
Ни у кого не было таких ряден, как у Ганны Калитки. Она умеет, знает, как выращивать коноплю, ткать полотно. В пору убранное, вымоченное волокно мягко, лучших ряден ни у кого нет. Цветными нитками разукрашены, любо глянуть. На все село славятся Калиткины рядна...
Застоявшаяся подо льдом вода стала скользкой, зеленой, затхлой. В голове даже помутилось.
Конопля поспела и стала осыпаться еще к Семенову дню, ее убрали тогда, высушили, обмолотили, намочили. Неожиданно пришли заморозки, чуть-чуть не прихватили, не замуровали коноплю в болоте. Невестка должна вытащить – кто ж полезет в студеную воду? Пока не было невестки, Татьяна Скиба вытаскивала коноплю – отрабатывала. Что ж, невестка будет валяться в постели, а Ганне нанимать?
– Сиднем сидя не расцветешь, молодица! – не раз корила, поучала невестку Ганна.
Выйдя из воды, Орина вся дрожала, из глаз ее текли холодные слезы, под коленями вздулись синие жилы, юбка затвердела, как луб. Орина не могла завязать платка, надеть сапоги, пальцы онемели, застыли. Едва добежала до дому, стуча зубами. Резкий ветер хлестал ее. Муж открыл двери и хмуро посмотрел на почерневшее лицо жены. Она стянула мокрую одежду, влезла на печь, погрузила ноги в горячее зерно и, дрожа, стала согреваться. Колени ломило, руки болели по локоть, но Орина молчала, чтобы свекровь не корила: калеку взяли...
Ульяна пришла вослед, утомленная, замерзшая, выпила кружку водки. Сильная, веселая, помощница матери, утешение матери. Горлица сизокрылая до сих пор еще не свила своего гнездышка. Голые девки повыходили замуж, а хозяйская дочь сидит дома. Скоро вечер, а невестка все лежит на печи, дочь, что ли, должна возиться со свиньями и коровами? Дочь еще дождется своего, еще придет ее время. Надо печь топить, коров доить, воду носить. Свекровь рассердилась, накричала на Якова, что жене потакает.
Мамаева Секлетея навестила соседку. Она зачастила к Калиткам, присматривалась к Ульяне. Та была с ней приветлива и ласкова, весело поблескивала зубами, а уж проворна, сильна – семерых стоит! Ульяна как раз собиралась на посиделки, вертелась перед зеркалом, прославленная вышивальщица и пряха! Ганна угощала соседку, задабривала, нахваливала Левка, приохочивала через мать, которая, наверно, передаст: Левко желанный зять для Калиток. Раздобревшие хозяйки злословили в теплой хате, а Орина при луне белила хату, потому что днем некогда. Как следует надо побелить, чтобы не видно было следов помазка, чтобы утром свекровь не ругала. Печальны мысли невестки. Все равно не угодишь, знала хорошо...
Свекровь прихлебывала густую терновую наливку, хмельная, льстивая судачила с кумой и напевала, выла:
Чого, сину, горiлки не п'єш?
Горiлки не п'єш, жiнки не б'єш?
3
Свет падает на седую, взлохмаченную голову, на костлявые руки – дед Ивко обдирает кукурузные початки и поучает невестку:
– Квась капусту тогда, когда старый месяц пойдет с круга.
Вот лихо его возьми! Все приметы, обычаи, знаки известны старику, а роду все равно не везет. Неудачный ведун.
Вместе с туманами и слякотью на село хлынули новые думы и заботы. Семья Скибы каждый вечер собирала к своему очагу все беды, насевшие на село, глушившие людские ожидания.
Татьяна никогда и часочка не посидит без дела: выгонит корову, заткнет за пояс кудель, прядет и пасет. Теперь она готовит ужин, рубит капусту. Свежий запах капусты расходится по хате. Захар приходит из экономии усталый, но не злой. Прошло время, когда он гонял жену вокруг хаты. Теперь новая тревога свалилась на ее голову. Попали в немилость старшины Захар с сыном. Остереглись бы, смолчали, как другие, так нет же, всюду встрянут. Татьяна уже не раз говорила: "Всех не обогреете".
Вечные беды подстерегают каждый день и шаг человека. Захар по самую маковку в отработках и никак не выберется. Разве можно угадать, предвидеть, что ждет человека – панские прихоти, самодурство, выдумки? А тут еще сын беды натворил в экономии, хотя Захар в душе этим немножко и гордится...
Засушливое лето сожгло хлеба – недород. Под осень задождило, на арендованных выпасах поднялась трава, и эконом Чернуха поднимает цену, вымогает теперь от общества: отрабатывайте еще! Паши под зябь, вози бураки... На дожде зарабатывает. И кто его знает, когда будет конец этим отработкам! Отрабатывай за то, что он тебе дает землю в аренду, отрабатывай за дорогу, за выпас, за сенокос, за водопой, за штраф, за дождь, за солнце, за то, что смотришь на белый свет, за то, что дышишь... Пусть бы уж земля провалилась с этими отработками!
Захар снимает намокшую одежонку и, возмущенный негодными порядками, обращается к домашним с обычными рассуждениями.
А брать аренду приходится. Разве у Захара есть свой сенокос? Тина, топь, гниловодь булькает, чавкает, клокочет, косишь по колено в болоте. Или пашня – зола, песок, глина!.. Да еще бери, что дают. Харитоненко повсюду сеет бураки. Станет он резать Доброполье? На тебе, убоже, что мне негоже...
С неутешительными новостями вернулся сегодня Захар, да приходил ли он когда-нибудь с веселыми? Плохие вести никогда не выводились в хате, а теперь, в недород, особенно угнетали село.
Харитоненко зарабатывает на голоде! Полову, которую надо бы выкинуть на навоз, экономия продает крестьянам. За пуд половы, чтобы прокормить одну-единственную скотину, работай два дня. Бурелом, хворост, который сгнил бы в лесу, он продает по пять рублей за фуру, воз гнилой соломы покупай по десять рублей или зимуй в нетопленой хате.
Татьяна рассказала домашним, как женщины пошли в панский лес по терн и груши, сушить на зиму – все равно сгниет. Насобирали бурелома. Тут их перехватили лесники, объездчики, стянули с женщин юбки и пустили в одних сорочках. Плач, крик на весь лес. Пересидели в лозняке над Пслом, намерзлись, дожидаясь вечера, и со слезами пришли в село. С замужних женщин стянуть юбки! Срам!
Давно ли сняли кожух со старого Ивка за то, что телка паслась на толоке? Хочешь – выкупай кожух, хочешь – отрабатывай.
На что только не пускается экономия, чтобы выжать с поденщика даровую работу! Нанимают на плантацию сто поденщиков, а после обеда надсмотрщик по приказу Чернухи полсотни выгоняет и ни гроша не платит – неисправная, мол, работа. И люди мирятся с этим.
– В том-то и беда, что мирятся! – как бы с упреком заметил дед Ивко.
Греха не побоялся богомольный старик, против Святого писания пошел. Сложные мысли в суровых глазах. Незаметно для самого себя Ивко избавился от вечной покорности злу.
– Мирятся, потому что боятся остаться без работы, – поясняет Захар.
– В нужде человек становится шатким, нестойким, – утверждает Ивко по своему горькому опыту.
– Или же смелеет, – в раздумье замечает Захар.
И это было удивительное наблюдение, вероятно тоже на собственном опыте. Захар уверяет отца: еще придет кара на панов, умные головы давно предсказывают, пусть только сладятся люди.
Татьяна с тревогой слушает эти пророчества. А дед Ивко благословляет людей на святой гнев против панов.
– Пусть этих панов покарает Страшный суд! – торжественно произносит он. – И как это сталось, что молодые учат стариков?
Ивко обводит домашних взглядом, вероятно с мыслью о Павле. Известно, старики привыкли подчиняться, молчать, терпеть. А какие разговоры по ярмаркам!.. Страшно слушать... Но только зачем людей против царя подбивают? Ведь и недоимки царь простил, когда родился наследник, – это говорил учитель Смоляк на ярмарке...
На отцовские размышления Захар отозвался любимой поговоркой: бей поганую сороку, превратишь ее в ясного сокола. Захар, видно, тоже подпал под влияние этих разговоров, ведет страшные издевательские речи во всеуслышание. По мнению Захара, царь задумал внести умиротворение своей грамотой. Чтобы люди молились за царевича, чтобы он вырос здоровый и еще сильнее, чем отец, поработил народ. Однако земский со старшиной припрятали эту царскую грамоту, недоимки ведь взыскивают, описывают имущество и продают. Много помогла Захару эта грамота? Разве Добросельский после той ярмарки не запугивал учителя, не твердил ему:
– Одно из двух: либо учи детей, либо шатайся по ярмаркам.
Пригрозил обратиться к самому губернатору с жалобой на Сумскую земскую управу, которая насаждает бунтарей по селам. Учитель много порассказал бы людям, да боится лишиться службы, втихомолку рассказывает, хоть за ним и следят. Когда Захар – никто другой не отважился – спросил старшину на сходе об этих недоимках, которые прощены манифестом, что ответили Калитка и Мамай? Захару еще легко сошло, общество его отстояло: "Мы люди темные..." По приказу старшины Захара на три дня заперли, чтобы не будоражил людей. Захар, может быть, и не дался бы, да насели урядник, стражник, десятники, повалили, скрутили, заперли в холодную.
Тогда люди возвысили голос, начался ропот... Калитка тянет недоимки с людей, описывает, продает, люди платят и не знают, что царской грамотой недоимки прощены! "Добросовестные" помощники старосты и сборщика за магарыч кого хочешь обойдут, но Захара не минуют никогда. Что ответил Калитка? Болея душой за царскую казну, старшина с Мамаем и другие хозяева заплатили, мол, за людей все недоимки заранее, а теперь как, должны, что ли, терпеть убытки? Нужно им вернуть деньги? Кому милость, а кому убытки? Не может такое быть. Хозяева, мол, хотели оказать обществу услугу, на всю округу Буймир прославился, заплатил недоимки – даром, что ли, старшина выслужил царский кафтан?
Разве не обманут, не обведут общество волостные воротилы? Калитка жалеет о тех временах, когда за неуплату подати водили по снегу босыми, обливали водой на морозе. Хорошо, что отменили волостные розги, а то Калитка натешился бы. Теперь он кулаком убеждает непокорного. Земского начальника задобрил и сейчас правит. Он и солдатские деньги и дрова замотал – плачут солдатки с малыми детьми. Иным уменьшит возраст, чтобы на службу не взяли... Коней для армии покупали – хозяева угощали Калитку: "Поставь моего коня". Сотни загребали. Старшина барышничал лошадьми. Проходимец! Печатными буквами расписывается, а весь свет обманывает. Печатью ударит – закон! Медаль нацепит – власть! Мамай ездит по хуторам, скупает сено, осоку, аир, стога сена наставил, перепродал его с Калиткой на войну. Наживались и на сене и на лошадях. А кто осмелится на сходе против старшины выступить – у Калитки под рукой урядник, стражники, десятники. Много стражников развелось теперь и в экономиях и по селам...
В глухие осенние вечера долго мерцают огоньки по хатам, женщины прядут, текут разговоры про сельскую обездоленность, и в словах уже не чувствуется прежней покорности злой доле. С гневом говорят о расплате с панами, как это сделали в других селах.
– Потому что уже вот тут наболело. – Захар стучит в свою впалую грудь. Напряженное молчание придавило хату. Это были еще, может быть, не совсем отчетливые, ясные намерения, еще туман стоял перед глазами, но уже воля и решимость проникали в душу.
Татьяна, которая пряла около печи и одновременно готовила ужин, засмотрелась в погасший очаг. За день она измоталась, работая у чужих людей, и теперь, пользуясь свободной минутой, отдыхала. Дремали Захар с дедом Ивком, тоскливая песня навевала сон – плакалась жена, что родилась на беду, горшком воду носить, соломой печь топить. Идешь в кладовую – нет ни хлеба, ни соли... Она ж не убегала от своей женской доли...
В каких бы затруднениях ни жили, хата засыпала с песней.
В жизни всегда так. Подмазывает женщина глиняный пол, в глазах черно, на душе тоскливо – с досады возьмет да и запоет. От песни по телу разольется истома, с песней вьется мечтательная дума, женщина в забытьи мажет пол...
4
Орина огородами ночью прибежала к родной матери.
В одной сорочке, босая, завернутая в ряднину, с запекшейся на теле кровью. Со слезами на глазах умоляла – не может больше терпеть... Мать испуганно приложила руку к ее лбу. Дочь хрипела, горела, грудь ее была заложена. Жалость охватывала от одного взгляда на Орину. Мать уложила ее на теплую лежанку, укрыла кожухом, протопила печь соломой, заварила калины с сахаром, напоила – пусть пропотеет, авось отойдет. Глаза заплыли кровью, посинела, пожелтела...