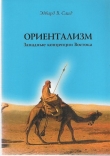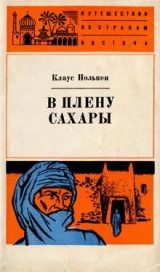
Текст книги "В плену Сахары"
Автор книги: Клаус Полькен
Жанры:
Путешествия и география
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 22 страниц)
Александр в Сиве
Не прошло и двухсот лет после авантюры Камбиза, как другой царь двинул свои войска в Ливийскую пустыню. Этому царю повезло несравненно больше.
Александр Македонский задался целью покорить весь мир. В 332 году до н. э. он завоевал Египет. Готовясь к новому походу, он решил поднять свой авторитет и престиж. Что в этом плане могло быть более эффектным, чем посещение оракула Зевса-Амона?
Еще во втором тысячелетии до н. э. египтяне обеспечили себе верховную власть над оазисом Сива, подавив сопротивление ливийских племен. Вместе с египетскими завоевателями появились и египетские боги. Первым из богов вернулся в Ливийскую пустыню Амон вместе со своим символом – бараном с загнутыми книзу рогами. Однако, если в самом Египте Амон уже терял свое былое влияние и его место заняли другие боги, в ливийских оазисах слава его, напротив, сильно возросла. В одном из храмов Харги сохранился гимн более позднего времени: «Ты, Амон, ты Атун, ты Чепри, ты бог солнца, единственный, который был с самого начала. Ты тот, кто принимает по своему желанию любой образ… Ты властвуешь над всем; небо и земля подвластны тебе, боги в твоих руках и люди под твоими ногами. Кто может сравниться с тобой?»
Одновременно с ростом престижа этого бога в Сиве возросла и власть жрецов Амона. Словно бы для увенчания этой славы и укрепления жреческой власти храму был придан «оракул». О его «основании» Геродот сообщает нам следующее: «Две черные голубки, снявшиеся в Фивах египетских, прилетели: одна в Ливию, другая в Додону; эта последняя села на дубе и человеческим языком проговорила, что здесь должно быть учреждено прорицалище Зевса. Другая голубка удалилась к ливийцам и приказала им основать прорицалище Амона». Вывезя эту легенду из Греции, добросовестный Геродот приводит и вторую версию, которую он услышал в Фивах. Тут вместо голубей фигурировали две чернокожие фивянки, похищенные финикийцами и проданные затем в рабство в Додону и Сиву.
Воспроизведенная Геродотом легенда отражает, во всяком случае, тот факт, что в Кирене действительно была создана греческая колония, которая вела оживленную торговлю с Сивой и наряду с этим проявляла интерес к его оракулу. В Сиве произошло смешение древнегреческой и древнеегипетской религий. Учитывая интересы обеих группировок, Амон превратился в Зевса-Амона. Сивский оракул постепенно становился самым прославленным оракулом древнего мира. Отдельные неудачи уже не могли подорвать его престиж. Когда Крез – царь Лидии – в 550 году до и. э. готовился к войне с персами, он опросил все оракулы Греции. Однако, перед тем как услышать пророчество, он решил проверить, насколько правдив каждый оракул. В этих целях он потребовал у них ответа на вопрос о том, что он, Крез, делал в определенный день. Сивский оракул дал неверный ответ, но, как уже говорилось выше, это ему не повредило.
Однако вернемся к Александру Македонскому, который стремился к мировому господству. С этой целью он провозгласил себя сыном бога солнца Амона и тем самым наследником фараонов. Церемония была совершена египетскими жрецами. Однако жрецы далекого Египта, неизвестные в Греции да и в других частях света, казались властелину недостаточно влиятельными для упрочения его престижа. Он желал более веского признания своего величия. Зевс-Амон из Сивы, наиболее почитаемый бог-оракул, должен был приветствовать его, назвав сыном бога солнца, и таким образом оповестить весь мир о притязаниях царя.
В сопровождении небольшой части своей армии Александр отправился из дельты Нила в Сиву вдоль побережья Средиземного моря, а затем воспользовался старым караванным путем. Придворные историки царя отметили, что войско в пути настиг дождь, и истолковали это событие как изъявление особой божьей милости. Разумеется, начавшуюся тогда же песчаную бурю они не рассматривали как проявление гнева Всевышнего. Оказывается, даже водители караванов испугались этой песчаной бури, но тут появились два ворона – вестники бога – и, летя впереди войска, показали императору дорогу в оазис.
В храм сивского оракула Александр вступил в сопровождении одного-единственного жреца. Когда он вышел в передний двор, где его ожидала свита, лицо его выражало удовольствие. Ответ оракула якобы был благоприятным. Однако дословный текст изречения оракула так и не стал известным. Свита Александра тем не менее протрубила на весь мир, что Зевс-Амон полностью поддержал императора в его притязаниях на мировое господство.
Греки шли по караванным путям навстречу новым битвам. Сива, однако, перешагнула через зенит своей славы. Когда триста лет спустя, в 23 году до и. э., Египет посетил греческий географ Страбон, он с огорчением отметил, что «оракул, который раньше был в большом почете, почти прекратил свое существование». В раннехристианское время оазис стал местом ссылки побежденных в религиозных распрях епископов. Однако молва о прежнем величии оазиса пережила века. За это время она искажалась, приукрашивалась и в конце концов превратилась в сказку. В XV веке арабский географ ал-Макризи писал:
«Город Сантарийя является частью оазисов. Его построил, будучи уже в преклонном возрасте, царь коптов Минакиуш… Сначала он построил ипподром и приказал своим друзьям упражняться в верховой езде. Затем он построил больницу для страдающих тяжелыми хроническими недугами; он снабдил ее лекарствами и обеспечил врачами… Для себя он учредил „царский праздник“. Праздник начинался в определенный день в году и продолжался семь дней; гости пили и ели, а царь, восседая на троне, благосклонно взирал на гостей. В центре города был построен цирк, вокруг которого возвышался семиступенчатый амфитеатр. Он был увенчан куполом из лакированного дерева, покоящимся на мраморных колоннах…
На самой верхней ступеньке цирка восседал царь, рядом с ним его сыновья, родственники и владетельные князья. Вторую ступеньку занимали верховные жрецы и высшие сановники; третью – главнокомандующие войсками; четвертую – философы, астрономы, врачи и мужи науки; пятую – строители и зодчие; шестую – представители ремесленных цехов; наконец, седьмую – остальной народ. Каждому сословию предписывалось смотреть только на тех, кто сидит под ним, а не на тех, кто выше их: ведь они все равно никогда не будут пользоваться равными с ними правами».
Макризи разочарованно заметил, что эти времена давно ушли в прошлое. «Сегодня Сантарийя – очень маленькая область, в которой проживает не более шестисот человек, пришедших из культурного края; называют их „сиве“; их диалект сивский. Здесь встречаются сады, где растут пальмы, инжир, масличная пальма и другие деревья. Имеется много виноградников. И сегодня здесь не меньше двадцати источников, которые обильно пропитывают землю пресной водой… Злые духи ненавидят жителей этой местности. Одиноких они уводят с собой. Очень часто можно услышать посвистывание духов».
Во время египетского похода Наполеона в Европе пробудился интерес к Востоку. Европейских ученых прежде всего привлекал оазис Зевса-Амона. Первым в 1792 году двинулся с караваном из Александрии англичанин Браун и этим путешествием заслужил себе титул «новооткрыватель Сивы». В 1798 году немец Фридрих Хорнеман дошел до Сивы и, разумеется, начал искать развалины храма, некогда прославленного оракулом. Однако Хорнеман нашел лишь жалкие развалины. Он писал: «Уммебеда (так называют эти развалины местные жители) находится рядом с деревней Агрми, или Шарки, и по соседству с горой, в которой якобы сокрыт богатый источник пресной воды. По оставшимся развалинам беспристрастный наблюдатель не может с уверенностью определить, как выглядело строение первоначально и с какой целью оно было сооружено».
В центре поля, где громоздились руины, Хорнеман нашел остатки маленького строения, воздвигнутого на скале. Он принял его за главную часть храма. Строение имело три входа. Внутри его исследователь увидел иероглифы и рельеф. Следы краски свидетельствовали о том, что храм был когда-то выкрашен в зеленый цвет. Ни Браун, ни Хорнеман не сделали зарисовок храма Уммебеда, а в 1811 году он был еще больше разрушен землетрясением. Французский ученый Фредерик Кайо измерил руины храма, установил точное географическое положение местности и определил, что Сива лежит ниже уровня моря. Позднейшие экспедиции исследовали храм Агхурми в оазисе и обеспечили сохранность его росписей и надписей.
В отличие от Уммебеды, агхурмийский храм довольно хорошо сохранился, однако в течение столетий жители Сивы застраивали его снаружи и изнутри. Вокруг храма и между его отдельными частями были построены жилые дома, прилепившиеся к античным стенам. Чтобы найти рельефы или надписи, ученые должны были получить разрешение домовладельцев на обследование их жилых комнат или кухонь. Так они нашли росписи и египетские иероглифы IV века до н. э. На одном рисунке был изображен «правитель Сивы», поклоняющийся богам во главе с Амоном. Частично сильно поврежденный рисунок показал, что на «правителе» была одежда египетского фараона, а над его лбом красовалось страусовое перо. Такое страусовое перо характерно для всех древнеегипетских изображений ливийцев.
Сегодня Сива – египетская провинция. В ней имеются больница и почта с телефонной связью. Все еще действуют упомянутые в древние времена артезианские колодцы, среди которых самый знаменитый – «Айн Муса» – «Источник Моисея». Из него бьет ключом теплая вода, якобы предохраняющая от злых духов. Деревья вокруг источника увешаны приносящими счастье амулетами. Еще Геродот упоминал другой колодец – «Солнечный источник» – и так описал это чудо: «Эта вода, теплая рано утром, становится несколько холоднее в час дня, когда открывается рынок; к обеду она делается очень холодной, и тогда они поливают ею свои сады. С убыванием дня вода набирает снова тепло, и к заходу солнца она становится снова теплой. Теперь она становится все теплее и теплее; как только проходит полночь, она снова охлаждается, и так до утра».
В данном случае Геродот ввел в заблуждение своих современников, ибо измерения температуры, произведенные многочисленными исследователями, показали, что во всех случаях температура была одинакова – 29 градусов по Цельсию. Другие источники, кстати, имеют точно такую же температуру.
В Сиве в настоящее время – около двухсот колодцев. Однако еще в римские времена здесь насчитывалось больше тысячи артезианских скважин. В обширной программе мероприятий по увеличению посевных площадей, принятой правительством Арабской Республики Египет, не забыт и древнейший оазис Зевса-Амона. Старые колодцы надо пробудить к новой жизни, чтобы увеличить площадь, пригодную для обработки. Положено также начало созданию промышленности: построена фабрика для упаковки фиников, которыми оазис славится и поныне. И тот, кто сегодня восхищается превосходными верблюдами в самой Сиве и ее окрестностях, пусть подумает о том, что Александр Македонский, вероятно, не мог познакомиться в оазисе Амона с этим животным, ибо в то время в Сахаре еще не было верблюдов. Каким же образом верблюд попал в пустыню? И когда?
Выступление легионов
Первое документальное упоминание о верблюде можно найти у Гая Юлия Цезаря. В своих «Записках о гражданской войне» полководец уделяет довольно большое внимание восстанию нумидийцев под предводительством царя Юбы против римского владычества. В Северной Африке, прежде всего на территории современного Алжира, еще в 200 году до н. э. возникло берберское государство Нумидия, столица которого Цирта сохранилась до наших дней под названием Константины. Сто лет спустя Римская империя приступила к завоеванию этого государства. В стране были расквартированы римские легионы для подавления периодически вспыхивавших восстаний берберов. В 46 году дело дошло до решающей битвы между римлянами и нумидийским царем Юбой. В этой битве, по сообщению Цезаря, удалось захватить двадцать два верблюда, принадлежащих Юбе. С тех пор верблюд очень быстро завоевал популярность у римлян. Вскоре после этого III легион Августа – главный воинский отряд римлян в Северной Африке – начал использовать верблюдов. Император Септимий Север (193–211), родившийся в Лептис-Магне, на границе с Ливийской пустыней, так высоко оценил это животное, что стал поощрять разведение верблюдов вообще, а в своем родном городе особенно.
Вне всякого сомнения, верблюд впервые был доставлен в Африку с Ближнего Востока. Уже в давние времена его изображение появилось на наскальных рисунках. Первые изображения датируются 150 годом до н. э. Может ли это служить указанием на то, как римским воинским подразделениям удалось проникнуть в глубь Сахары? Согласно римским записям, это произошло в 19 году до н. э., а затем в 70 и 86 годах н. э.
Вторжение в 19 году до н. э. преследовало прежде всего цель покорения ливийских племен, постоянно угрожавших римским владениям на севере пустыни. Во главе войска был поставлен проконсул Луций Корнелий Бальб, уроженец Испании. Так как римский историк Плиний сумел собрать и описать все доступные подробности об этом походе, мы узнали, что Бальб после победоносной битвы и покорения провинции Фазания (подразумевается Феццан) вернулся в Рим, где, невзирая на его иностранное происхождение, в его честь было устроено триумфальное шествие.
Плиний так комментировал это событие: «Удивительным является уже то, что рассказывают о завоеванных городах. Кроме Цидамуса и Гарамы Бальб завоевал и другие города и народности в приведенной ниже последовательности: город Табудеос, племя нитерис, город Неглигемела, племя или город Бубейюм, племя энипов, город Тубен, гору Нигер, города Нитибрум и Рапсу, племя весцеров, город Дебрис, реку Натабур, город Тапсагум, племя нанагеров, город Боин, город Пег, реку Дазибари, затем следуют города Баракум, Булуба, Алази, Бальза, Галла, Майяла, Цицама и в заключение гора Гири. Здесь, как свидетельствует надпись, якобы имеются драгоценные камни».
В дальнейшем историки потратили много сил на идентификацию упомянутых Плинием названий. С Гарамой все обстояло относительно просто: это нынешняя Джерма. Также и с Цидамусом: за этим названием скрывается, без сомнения, оазис Гадамес. Кстати, после армии Корнелия Бальба в Гадамесе часто бывали и другие римские военные подразделения. Анри Дюверье обнаружил, например, у входа в город Гадамес, где когда-то, вероятно, располагался римский лагерь, надпись, относящуюся ко времени правления императора Александра Севера (222–235).
Название Тубен могло означать алжирское Тобна, Вескра – Бискра, Рапса – Рат или Гат.
Анри Лот, тщательно исследовав сообщение Плиния, избрал другой путь. Если римляне завоевали Феццан, заселенный в те времена гарамантами, разве трудно предположить, что, продвигаясь на юг, они воспользовались старой «дорогой гарамантов»? Лот, во всяком случае, истолковал Алази как Илези, а это – старое туарегское название сегодняшнего Форт-де-Полиньяка на границе Тассили. Лот писал: «Другое название – Бальза – фонетически настолько близко к Абалессе, что я не сомневался в их однозначности, тем более что Абалесса – маленький населенный пункт в Хоггаре рядом с дорогой гарамантов. Кроме того, там можно увидеть руины небольшой крепости, где были найдены оттиски римских монет с изображением императора Константина, стеклянная ваза и римские светильники».
Лот продолжал: «Эти находки, несомненно, следует отнести к эпохе до III века н. э., и их открытие свидетельствует о существовании торговых связей между местным населением и римлянами. Однако возникла новая гипотеза, подтвердившая правдоподобие тождества наименований Бальза – Абалесса: не исключено, что римляне сами проходили по караванному пути. Я был в этом убежден и не находил ничего невозможного в том, что именно они построили крепость Абалессу, архитектура которой не имеет аналогий нигде в Сахаре и совершенно не похожа на очень характерные развалины арабских и берберских строений».
Однако самое удивительное в сообщении Плиния – упоминание реки Дазибари. Ко времени похода Корнелия Бальба в Сахаре вряд ли еще существовали «активные» реки. Если это соответствует действительности, то первая доступная на юге река могла быть Нигер. Лоту после длительных поисков удалось установить, что племена, обитавшие на берегах Нигера, называли его «Изабари». Это слово взято из языка народности сонгаи. «Иза» («иса») означает «река», а «бари» («бер») – «большая». В легендах народности сонгаи говорится, что хозяевами реки были племена «да». «Да Иза Бари», считал Лот, означает не что иное, как «Большая река людей да».
Из этого языкового родства французский исследователь сделал вывод, что Корнелий Бальб, по всей вероятности, пересекая пустыню, дошел до Нигера. Другие историки оспаривают этот тезис и предполагают, что римляне не могли выйти за пределы Феццана. Однако никто не может привести в свою пользу достаточно убедительных доказательств.
О двух других походах мы знаем, к сожалению, еще меньше. В 70 году легат Нумидии Септимий Флакк двинулся во главе воинского подразделения на юг. Поход был предпринят из Феццана и длился три месяца. Флакк якобы предполагал дойти до Судана. Шестнадцать лет спустя, то есть около 86 года, полководец Юлий Матерн предпринял новую экспедицию. Птолемей – египетский историк – пишет об этом следующее: «Юлий Матерн… отправился из Гарамы по направлению к югу в сопровождении вождя гарамантов против эфиопов и через четыре месяца дошел до Агисимбы – округа или провинции эфиопов, где живут носороги». Птолемей упомянул в своем сообщении еще названия Бардетус и Меше.
Снова был открыт путь для любых толкований. В двадцатые годы придерживались мнения, что «Агисимба» – это нагорье Аир. Позднее начали сомневаться в этом, поскольку Аир расположен в стороне от возможного пути из Феццана. Европейские исследователи XIX века попадали по старым караванным путям из Феццана в нагорье Тибести. Значит, Агисимба – это Тибести. Может быть, Меше – это Миски в Тибести? А Бардетус – Бардаи? Не значит ли это, что римляне достигли даже озера Чад? Французский историк Сюре-Каналь отклоняет это предположение.
«Красивый»
В этой связи возникает вопрос, что стало с гарамантами и «эфиопами», о которых сообщают античные источники. В настоящее время господствует мнение, что потомками гарамантов являются туареги. Можно ли предположить, что представители племени тиббу, столетиями жившие, как доказано, в постоянных раздорах с туарегами, – потомки «эфиопов»? Их родина – нагорье Тибести. И верно ли, что вождь гарамантов совместно с Юлием Матерном предпринял поход против них?
Вернемся к сказанному выше. Вполне вероятно, что римляне в своих двух походах пользовались верблюдами, что верблюд вообще сделал возможным эти походы. Однако в те времена можно было пересечь Сахару и без верблюдов. О гарамантах известно, что они подвязывали своим лошадям под животы бурдюки, наполненные водой, чтобы таким образом благополучно преодолеть пустыню.
Во всяком случае, с появлением верблюда в Сахаре произошла своего рода революция. Хотя значение этого события и толкуется учеными по-разному, но, вне всякого сомнения, в условиях прогрессирующего высыхания Сахары акклиматизация этого животного неизбежно должна была стать новой ступенью в развитии производства материальных благ.
Недаром жители пустыни придумали для верблюда множество ласковых имен, недаром прославили его в легендах и сказках. Арабская пословица гласит: «Аллах создал человека из глины. После содеянного у него остались два комка глины. Из одного он сотворил верблюда, из другого – финиковую пальму».
На самом деле, обитатель пустыни, наверное, считает, что, если бы верблюда не было, его следовало бы изобрести – настолько блестяще это животное приспособлено к тому, чтобы переносить зной и жажду. Возьмем хотя бы его горб, служащий как бы копилкой жира на случай наступления худших времен. Если бы жир у верблюда был распределен более или менее равномерно по всему туловищу, как у других животных, это бы затруднило необходимое охлаждение тела при невероятной жаре в пустыне. Желудок верблюда, состоящий из трех отделов, вмещает двести пятьдесят литров. Внешняя оболочка желудка прекрасно приспособлена для накопления воды и пищевых соков. Так как в тканях его организма тоже может аккумулироваться вода, верблюд продолжает идти как ни в чем не бывало даже в том случае, когда последние остатки влаги в его желудке израсходованы трое суток назад. Верблюд выживает при потере жидкости, равной четверти его веса. Если человек теряет в два с лишним раза меньше жидкости, он погибает. У верблюда необычайно широкие копыта, будто специально созданные для хождения по пескам. Питается он жесткой, грубой растительностью пустыни. Мягкими губами животное захватывает колючие кустарники и отправляет их в рот, где эта пища, смоченная притоком колоссального количества слюны, тщательно пережевывается.
О скорости верблюда рассказывают чудеса. Конечно, в большинстве случаев его возможности преувеличиваются. В среднем он проходит три с половиной километра в час. При беге на короткие расстояния может развить скорость до десяти километров в час. Разумеется, специально выдрессированные беговые верблюды-мехри перекрывают эти скорости. На мехри туарег делает за сутки от двухсот пятидесяти до трехсот километров. Это высшее достижение верблюда.
Житель пустыни знает истинную цену животному. И даже для пресловутого высокомерия верблюда у него есть объяснение: «У Аллаха сто имен. Человеку известны девяносто девять, и лишь верблюд знает сотое». В глазах жителей пустыни верблюд не только не безобразен – они называют его «джамел» – «красивый».
Насколько верблюд незаменим для путешествия по пустыне, настолько же сложна его экипировка. Европейский исследователь прошлого века писал о верблюжьем седле: «…Это сиденье – настоящий трон, если оно приготовлено с любовью и пониманием, то есть если оно умело устлано овечьими шкурами и одеялами поверх деревянного сооружения. Это делается для того, чтобы совершенно не чувствовалась твердая подставка. Ибо горе тому, кто оставит хотя бы малейший бугор или сдвинет с места какое-нибудь одеяло… Приготовленное должным образом верблюжье седло превращается в мягкое и удобное сиденье или ложе, на котором с известной осторожностью можно даже вертеться и оборачиваться назад. При спокойном, словно деревянном, шаге верблюда можно даже читать и писать… К мерному покачиванию, обусловленному своеобразным шагом этих животных и вызывающему у новичка ощущение, напоминающее морскую болезнь, очень быстро привыкаешь… Весьма удобно, что необходимые для путешествия вещи находятся у вас под рукой: впереди седла прикреплена „семсемие“ – походная фляга, сзади ездока висит „хург“ – верблюжий вещевой мешок, состоящий из двух соединенных между собой кожаных мешков…».