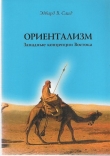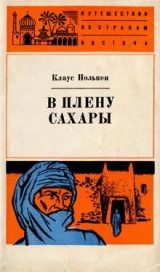
Текст книги "В плену Сахары"
Автор книги: Клаус Полькен
Жанры:
Путешествия и география
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 22 страниц)
Зловещая страна
Регейбаты – одно из самых многочисленных берберских племен в Западной Сахаре [29]29
Регейбатов в советской научной литературе относят к арабам Западной Сахары.
[Закрыть]. Мавры проникли сюда в первые четыре века нашей эры с севера, из Марокко, и подчинили себе оседлое темнокожее население здешних мест. После VIII века они приняли ислам. На рубеже XIV–XV веков в Мавритании появились макиль – племя, пришедшее из Аравии, – и после тридцатилетней войны покорили берберские племена. Однако вскоре победители в бесконечных распрях между собой почти истребили друг друга, так что берберам удалось шаг за шагом отвоевать свои первоначальные позиции.

Гончары Сахары – харатины – образуют особую касту
Края, в которых разыгрывались эти события, французский исследователь Сахары Теодор Моно назвал «зловещей страной». «За сорок пять километров пути, – пишет он, – нам попалось лишь одно дерево – маленькая акация. Земля, оголенная бурями, обнаженная до костей, за столетия превращенная ветрами в сплошную пыль, – мертва. Ветер, свистящий над барханами, поет о давно прошедших временах, об оцепенелом сне земли, которая уже забыла, что такое дождь. Между скалами из песчаника, которые медленно, но неуклонно крошатся, ползают люди, цепляясь за скелет этой умирающей земли. Жалкие муравьи, они томятся от жажды и голода, они бредут по сыпучему песку, отнимающему у них последние силы, или до крови сбивают ноги на камнях, беспрерывно борясь против страшного ветра бесконечной равнины, то леденея от холода, то изнывая от зноя».
В этой пустыне, где кругом только песок или камень, оазисы встречаются крайне редко. Летом ветер с юга, с Гвинейского залива, приносит иногда немного влаги, но большую часть года с востока, из Центральной Сахары, дует харматтан – знойный суховей, убивающий всякую жизнь. Летом температура местами поднимается до пятидесяти градусов в тени, а зимой на плато, на высоте пятьсот-шестьсот метров, термометр падает до пяти градусов ниже нуля.
И все же растения отважились довольно далеко проникнуть в пустыню. Акация, уроженка юга Мавритании, дает смолу, некогда столь высоко ценимый гуммиарабик, который был важным предметом торговли и привлекал к здешним берегам голландских купцов. Один из них описал в XVIII веке торговлю гуммиарабиком, а также своих мавританских партнеров по торговле следующим образом: «Мавританцы при всем своем коварстве еще и флегматичны, что воспринимается белыми как наказание. Их невозмутимость и хладнокровие резко контрастируют с живостью европейцев. Последние хотят как можно быстрее заключить сделку, тогда как мавританцы, стремясь выпросить подарки и выручить сверхприбыль, прибегают к всяческим уловкам, чтобы затянуть эту процедуру. Европейцам не остается ничего другого, как последовать их примеру и подобно им вооружиться великим терпением. После этого все кончается обоюдным согласием».
На несколько недель земля покрывается здесь зеленой травой. И этого оказалось достаточно, чтобы пустыню пересекли караванные пути.
Караванная торговля стала для мавританских племен одной из важнейших статей дохода. Другим источником средств к существованию было скотоводство, и, надо сказать, в стране без воды, с весьма скудной растительностью – это воистину тяжкий труд. Регейбаты прославились разведением верблюдов. Их белые гоночные мехри и сегодня слывут самыми красивыми и выносливыми во всей Сахаре. Торговля и скотоводство зависели от многих факторов: от погоды, времени года, от положения дел в соседних областях. В засуху оставался лишь единственный выход – разбой. Вот что рассказывает один мавританец: «Однажды, когда я еще был молодым, полным сил вождем племени, солнце спалило наши пастбища и половина скота пала от голода. Наши лазутчики сообщили, что на востоке, на расстоянии нескольких караванных переходов, в горах Ахаггар, выпал дождь. Мы знали, что там в стадах много молодняка. Поэтому я решил со своими соплеменниками отправиться туда верхом на верблюдах. Бурной темной ночью мы двинулись в путь. По дороге убили трех горцев: они не проявляли враждебности, но могли нас выдать. Мы незаметно подкрались к лагерю племени бени-хал и под покровом темноты напали на него. Убили мужчин, взяли в плен четырех женщин и двух черных рабов, угнали двадцать молодых, сильных верблюдов. За нами пустились в погоню. Мы потеряли пятерых воинов и лишились почти всех добытых верблюдов, так как наши тайные колодцы с водой пересохли. Женщин мы также должны были бросить в пути. Мы вернулись к родным шатрам с пустыми руками. Многие из наших детей умерли в тот год». Вот он, жестокий, беспощадный закон пустыни, которому вынуждены были следовать ее обитатели.
Мавры подразделяются на несколько племен, вернее, племенных союзов, каждый из которых имеет свои определенные, четко ограниченные владения. Самое большое племя – упомянутые выше регейбаты. Им принадлежит север Мавритании, на востоке хозяевами являются племена текна и таджакант, на юге и западе – улед-делим.
Ввиду кочевого образа жизни мавританцев, для которых не существует границ, установленных XX веком, определение их численности с большей или меньшей точностью представляется совершенно невозможным. Полагают, что их насчитывается от двухсот до трехсот тысяч. Перед второй мировой войной регейбатов было приблизительно двадцать пять тысяч человек. Сколько их на самом деле, ведомо одному аллаху.
Социальная структура мавританского общества кажется на первый взгляд предельно хаотичной. Мавры никогда не имели государственности, никогда не создавали сколько-нибудь крупного национального объединения. Иногда только, на ограниченный отрезок времени, удавалось объединить отдельные племена в конфедерации.
Воины и рабы
Мавританское общество, как, кстати сказать, и все народы Сахары, состоит из пяти четко разграниченных классов. Верхний социальный слой составляют хассани – воины. Они считают себя потомками арабов, проникших сюда в XIV–XV веках. В прежние времена они жили в основном благодаря дани, которую им платили группы менее знатного происхождения. Такой паразитический образ жизни привел, в частности, к тому, что хассани были сплошь и рядом неграмотными, так как считали ниже своего достоинства чему-либо учиться. Когда в ходе истории и другие, первоначально ниже их стоявшие классы взялись за оружие, чтобы захватывать добычу или защищаться от нападений, воины утратили свою роль.
Колониальные власти пытались возродить эту касту. Из рядов хассани французская администрация рекрутировала свои колониальные войска. Сравнительно высокое денежное вознаграждение, которое получали такие солдаты, способствовало тому, что хассани морально окончательно разложились. Процесс деколонизации привел к полной деградации этих бывших хозяев страны, ибо, безграмотные и деморализованные, они были абсолютно непригодны для занятия руководящих постов в независимой Мавритании.
С завоеванием независимости пробил час и для марабутов, стоящих на следующей за хассани ступеньке социальной лестницы. Марабуты слыли носителями учености и знаний. Они владели арабской письменностью. Просвещенные марабуты сыграли важную роль в торговле. С течением времени в их среде произошла известная дифференциация. Так, в Мавритании существуют «марабуты тени», обязанные платить дань хассани, в то время как «марабуты солнца» сохранили свою независимость.
Хассани и марабуты имели вассалов, которые принадлежали к третьей социальной группе. У хассани вассалы назывались «зенаг», у марабутов – «телямиды». Эти вассалы были те же берберы, попавшие в свое время под иго других племен. В принципе их жизнь не отличалась от жизни их повелителей. Разница лишь в том, что вассалы не могли стать собственниками пастбищ или земли, пригодной для земледелия.
Четвертая группа – харатины – вольноотпущенники. Если первые три группы состоят исключительно из берберов, то среди харатинов много выходцев из областей, лежащих южнее Сахары, из Тропической – «Черной» – Африки, которая была для мавританских племен неизменным поставщиком рабов. Рабы – это последняя, пятая категория в мавританской общественной структуре. Рабов имело каждое племя. Их именовали «палаточные рабы» и использовали для работ по хозяйству. Они были «движимым имуществом», частной собственностью и передавались по наследству. Правда, эти рабы не были нищими. Они представляли собой незаменимую рабочую силу и жили не хуже своих господ. Вольноотпущенники из их числа чаще всего избирали оседлый образ жизни и занимались земледелием или торговлей.
Хотя мавры исповедуют ислам, они остались верны многочисленным доисламским обычаям. Так, английский этнограф Бриггс сообщает о старой традиции, сохранившейся у племени улед-тидрарин, владения которого включают пригодную для обработки землю. Здесь стоит упомянуть, что вопреки общепринятым представлениям обитатели Сахары хорошо знакомы с земледелием. Улед-тидрарины занимаются им, в частности, на севере пустыни, в уэдах, где даже при относительно малых количествах осадков скапливается влага. Поэтому в уэдах встречаются даже деревья. Посеяв здесь зерновые, племя откочевывает в другие места и к определенному сроку возвращается, чтобы убрать хлеб. Богатый урожай отмечается особым торжественным танцем, в котором имеют право участвовать лишь девушки и юноши. Они выстраиваются в два ряда лицом друг к другу. Один из юношей открывает танец, выступая вперед и направляясь к стоящей против него девушке; он кладет к ногам девушки подарок – чаще всего немного чая, сахара или какое-нибудь украшение. Затем он возвращается на свое место. Теперь девушка выступает вперед, сбрасывает одежды, поднимает подарок и обнаженная возвращается в свой ряд. После того как то же самое проделают все остальные, начинается экстатический танец. Этот танец, разумеется, резко контрастирует с моралью и правилами поведения, предписываемыми исламом, и, без сомнения, является пережитком обряда плодородия.
Сколько верблюдов нужно человеку?
Скотоводство Мавритании базируется на кочевании от одного пастбища к другому. Оазисы, которые сделали бы возможным оседлый образ жизни, встречаются здесь чрезвычайно редко. В 1950 году во всей Мавританской Сахаре не было места, в котором произрастало бы более тысячи финиковых пальм, в то время как в больших сахарских оазисах счет пальмам идет на десятки тысяч.
Из-за отсутствия воды вся жизнь каждого члена кочевого племени превращается в тяжкий труд. Воду здесь нередко приходится доставлять за пятьдесят километров. Прогрессирующее высыхание Сахары сказывается на всем жизненном укладе мавров и имеет своим следствием уменьшение поголовья скота (в Рио-де-Оро, например, в 1946 году насчитывалось приблизительно сто тысяч верблюдов, а в 1950 году их оставалось всего пятьдесят тысяч).
В среднем на семью кочевника приходится двадцать пять верблюдов, пятнадцать овец и сорок коз. Правда, есть исключения. Так, среди племенных вождей на юге встречаются собственники пятисот верблюдов, пятисот голов крупного рогатого скота и двух тысяч овец.
Не только природа враждебна кочевнику. Европейские державы, окончательно завоевав страну, часто закрывали кочевникам их традиционные пути передвижения. В Европе долго бытовало мнение, что тяга к кочевой жизни – своего рода черта характера. Нежелание признать, что в пустыне это – единственно возможная форма существования, породило политику, враждебную по отношению к кочевникам.
Этнограф Жан Биссон исследовал с этой точки зрения одну из подгрупп племени регейбат. Она кочевала между уэдом Дра, Порт-Этьенном и Шингетти в Мавритании, передвигаясь вслед за дождями и из года в год повторяя один и тот же маршрут.
В этих ежегодных странствиях принимало участие не все племя, а лишь несколько семей, каждая из которых кочевала отдельно. Такая семейная единица состояла из тридцати трех человек, занимающих шесть шатров, и имела тридцать восемь верблюдов. Верблюдица дает от трех до четырех литров молока в день, и наряду с финиками верблюжье молоко играет большую роль в питании кочевника. Однако еще важнее верблюдов считаются овцы, которых в каждой группе было по сто двадцать.
Хотя регейбаты чистокровные берберы, сами они относят себя к племени шорфа, то есть к потомкам шерифа (одного из прямых потомков Мухаммеда). Согласно легенде, их мифический предок, благочестивый Ахмед эр-Регейби, в 1503 году пришел в долину Дра из Магриба как исламский миссионер и здесь женился на берберке.
Берберский элемент еще сильно сказывается на семейных отношениях регейбатов. Хотя имущество наследуется по отцовской линии, бабушка занимает в семье привилегированное положение.
В торговле регейбаты по традиции ориентируются на север. В апреле и мае они направляются к уэду Дра и пересекают его, чтобы на больших базарах Марокко продать своих знаменитых верблюдов, овец, шерсть, кожи и соль. В 50-х годах французская колониальная администрация запретила эту торговлю и закрыла регейбатам путь через уэд Дра. Предлогом послужила старая вражда между регейбатами и живущим в южном Марокко племенем айт-юси. Эта вражда, однако, прежде нисколько не мешала торговле. Французская администрация сослалась на якобы существующую «анархию» в областях, примыкающих к алжиро-марокканской границе. На самом деле в ее решении не последнюю роль сыграл тот факт, что в Марокко, Алжире и Мавритании в то время действовали освободительные армии.
Правительства молодых независимых стран в основном правильно оценили проблемы кочевых племен и постарались учесть их нужды и чаяния. Алжирские власти решили провести ежегодный мугар в Тиндуфе, чтобы таким образом возместить регейбатам потерю марокканских рынков.
Алжирское правительство придает большое значение развитию Сахары. Хотя до эксплуатации железорудных залежей в Гара-Джебиле еще далеко, ибо первоначально должен быть решен вопрос транспортировки и частичной обработки руды на месте, однако для Тиндуфа в целом уже планируется, строится и вводится в действие ряд объектов, которые должны резко изменить жизнь регейбатов в лучшую сторону. На первый взгляд может показаться, что житель Сахары живет сегодня так же, как его предки жили вчера, но это отнюдь не так. Когда в феврале 1967 года в Алжире происходили выборы в органы местного самоуправления, жители Тиндуфа тоже отправились к избирательным урнам. Четыре тысячи оседлых жителей оазиса выбирали городской орган законодательной власти, а девять тысяч семьсот кочующих регейбатов – свой орган самоуправления.

Палаточный городок, возникший во время праздника бедуинов в Иферване
Тиндуф развивается. Вырастают новые улицы, прокладываются водопровод, канализация, строятся почта и больница, школа и интернат: ведь без интерната образование для маленьких кочевников останется недоступным. В 1968 году уже все дети школьного возраста посещали школу – городским школам было передано шесть вагонов-интернатов под жилье для детей кочевников и выделено специально для них семь классных помещений. Теперь предстоит вести упорную агитацию среди регейбатов, чтобы они не запрещали своим сыновьям (а может быть, даже и дочерям) учиться. Вопрос этот не простой. Вернется ли сын в пустыню, чтобы жить в палатках, питаться сушеными финиками и верблюжьим молоком и из года в год кочевать со стадом овец и верблюдов с одного пастбища на другое, – захочет ли он вернуться, если получит хоть какое-то образование?
Проблема кочевников волнует сегодня все страны Северной Африки. Кочевничество возникло как единственно возможная форма выживания в условиях пустыни. Скотоводы, которые вели с древнейших времен оседлый образ жизни, столкнулись лицом к лицу с прогрессирующим ее высыханием. Все беднее становился растительный покров, все короче вегетационный период, все ценнее вода. При этих обстоятельстах единственным выходом для пастухов было кочевание от одного пастбища к другому, осваивание все новых и новых пространств.
Скотоводство дает кочевнику молоко, масло, сыр и, наконец, шерсть. Овец стригут раз в год, чаще всего весной. Полученная шерсть не представляет никакой рыночной ценности: она разного качества и к тому же сплошь и рядом настолько грязна, что никак не может быть продана, но кочевник удовлетворяется и такой. Женщины катают из нее войлок для шатров, ткут ковры и одежду. Режут скот редко. Для этого он слишком дорог. Забивают только старых, уже не имеющих никакой продуктивной ценности животных, и тут используется практически все, даже внутренности – из них изготовляют сосуды для хранения жидкостей, из костей делают инструменты и иглы. Поэтому понятно то большое уважение, которым окружен у кочевников скот.
Жизнь кочевников, с нашей точки зрения, полна лишений. Те, кому обстоятельства позволяют ограничиться меньшим по расстоянию и времени маршрутом, пользуются еще известным комфортом. Ну, а тот, на чью долю выпал длинный путь, вынужден сократить свой домашний скарб до минимума. Немногим владеет кочевник кроме своей палатки: циновками и коврами, на которых он спит, котлами и мисками, когда-то глиняными, теперь – металлическими, деревянной кухонной утварью – вот и все. Жидкости и мука хранятся в бурдюках.
Они пришли из Сирии
Не удивительно, что кочевничество в Сахаре могло сохраниться в течение столь длительного периода: экономически абсолютно независимая форма хозяйства, а также традиционные и выдержавшие проверку временем отношения, сложившиеся между кочевниками и оседлым населением – жителями оазисов, у которых можно было обменять скот на финики, муку и необходимую утварь, были единственно возможным образом жизни в пустыне, единственным шансом выживания в ней.
Этот характер хозяйства обусловливал определенные формы сосуществования. Только в большом коллективе можно было выжить. Семья, племя создавались как естественно-необходимая единица. С другой стороны, необходима была сильная личность вождя, чтобы сохранить этот союз. Нужно было поставить на службу общины знания самых мудрых, ибо жизнь кочевника требует большого опыта. Разведение скота и уход за животными в тяжелых условиях пустыни – это целая наука. Надо хорошо разбираться в пастбищах, надо знать, в какой последовательности ими пользоваться. Требуется так расставить верблюжьи «эстафеты», чтобы снабдить водой скот, пасущийся далеко от водного источника. Стада и кочевья необходимо охранять. Нужно обеспечить посев и уборку урожая на немногих полях в уэдах. И, наконец, нужно улаживать недоразумения с другими племенами по поводу прав на владение пастбищами.
Различают в общем три типа кочевников. Это полукочевники, обрабатывающие на краю пустыни землю, но наряду с этим кочующие со своими стадами по стране. Так называемые абсолютные кочевники живут в переходном поясе между пустыней и степью. Они кочуют в соответствии с временами года с севера на юг и обратно. Лето они чаще всего проводят на плоскогорьях Алжира, а зимой уходят в пустыню. Со своими стадами овец они преодолевают значительные расстояния, иногда до семисот километров. Немецкий ученый XIX века оставил нам наглядное изображение такого перехода кочевников.
«Из пустыни вышло арабское племя, чтобы сменить выжженные зимние пастбища на летние пастбища в Оресе. Разбившись на группы из тридцатисорока человек и стольких же верблюдов, племя в сопровождении принадлежавших ему овец и коз заполнило все плоскогорье. Одна часть шла нам навстречу, уже полностью готовая к переходу. Молодые, красивые женщины и часть детей сидели верхом на навьюченных верблюдах. Для детей были устроены настоящие гнезда, куда им в придачу, чтобы они не скучали, сажали ягнят или щенят. Женщины постарше, нагруженные, словно вьючные животные, с трудом переводя дыхание, плелись позади пешком. Мужчины также шли пешком, подгоняя верблюдов или овец и коз, которые, хотя и пасутся вместе, содержатся всегда раздельно. Лишь немногие из мужчин едут верхом на ослах. Другая группа начала сниматься с кочевья, а третья совершенно спокойно оставалась на месте. Еще одна группа разбивала новый лагерь. Лошадей мы видели очень мало, рогатый скот полностью отсутствовал. И те и другие слишком требовательны к корму и плохо переносят жару. Женщины с косами толщиной в руку и огромными серьгами шли с открытыми лицами, как и полагается бедуинкам. Это было интересное зрелище, напоминающее сцену из Ветхого завета».
К третьему типу кочевников Сахары относятся мавританцы и туареги. Они не предпринимают регулярных в зависимости от времен года переходов, а передвигаются вслед за случайно выпавшими осадками и появляющейся благодаря осадкам растительностью. Поэтому расстояния, которые они проходят, очень различны. В прошлом в крайне засушливые годы часто бывали случаи вторжения из своих традиционных районов в районы кочевья других племен. А это, в свою очередь, становилось причиной ожесточенных схваток между племенами.

Женщина из полукочевого племени айт-атта за ткацким станком
Как и мавританцы, абсолютные кочевники Северной Африки – берберского или арабского происхождения. К последним относятся шаамба, обитающие вокруг Большого Восточного Эрга. Однако кочевья их распространяются далеко на юг – до Тадемаитского плато. Поэтому шаамба находились раньше в постоянном состоянии войны с туарегами.
Предполагают, что шаамба пришли в XIV веке в Северную Африку из Сирии и осели в окрестностях Метлили в Мзабе. Почему они выбрали именно эту суровую местность, остается загадкой. Во всяком случае оазис Метлили стал их главным местом пребывания и одновременно приютом для беженцев из всей Северо-Западной Африки. Вскоре оазис уже не мог прокормить своих многочисленных обитателей. Тогда-то некоторые группы шаамба перешли от полукочевого образа жизни к чисто кочевническому.
В соответствии с их арабским происхождением племенная структура шаамба также арабская. Основная единица племени – клан, возглавляемый мужчиной, власть которого наследуется по отцовской линии. От родоначальника – чаще всего мифического мужского предка – клан получает свое название. Есть, однако, при этом два исключения: улед-айха считают своим родоначальником женщину (но это все же «святая» из семьи марабутов), а улед-фрадж называют своим праотцом представителя племени туарегов, нашедшего когда-то в Метлили прибежище.
У шаамба, как и у мавританцев, соблюдается племенная иерархия, во главе которой стоят касты воинов и кочевников. За ними следуют шорфа, или марабуты; затем идут обыкновенные, неблагородные кочевники и наконец – кланы вассалов, обязанные платить дань. На предпоследней ступени находятся оседлые племена, а на последней – рабы.
В 1936 году насчитывалось около двадцати тысяч шаамба. Прежде они были объединены в своего рода свободную конфедерацию, во главе которой стоял шейх главного племени и совет старейшин. Однако полномочия этого совета распространялись исключительно на «внешние отношения». Звание шейха наследовалось по мужской линии, однако претендующий на наследование этого титула старший сын должен был получить на это согласие совета старейшин.

Палатка кочевого племени шаамба
Шаамба придерживаются принципа постоянных пастбищ. Так как у них в оазисе Метлили все еще имеется племенное землевладение, они ко времени сбора фиников возвращаются туда. Это происходит в сентябре. В конце декабря или в начале января они снова уходят, кочуя от пастбища к пастбищу, где разбивают временные палатки. В июне они сооружают в пустыне постоянное кочевье, в котором остаются женщины и дети, в то время как мужчины отправляются со своим скотом дальше на юг. Когда мужчины возвращаются, они снова все вместе идут в Метлили для снятия урожая фиников. Во время их отсутствия за насаждениями в оазисе ухаживают рабы. Разумеется, эти рабы в настоящее время, пожалуй, «служащие» у шаамба.
Как и для всех кочевников, для шаамба колониальное вторжение Франции имело тяжелые последствия. Из чисто административных побуждений французские колониальные власти грубо вмешивались в традиционную племенную структуру и силой заставляли вносить угодные им изменения. Так, в 1887 году два тесно связанных между собой клана шаамба были объявлены самостоятельными и туда назначили новых шейхов. В результате возникли столкновения. В 1922 году это решение отменили и кланы объединили, подчинив их арабскому племени.
Последствия столь произвольных актов трудно оценить непосвященному. Если, однако, представить себе всю сложность взаимоотношений кланов, а также чрезвычайно важную роль шейха во время миграции клана и для решения всех хозяйственных вопросов, то нетрудно понять, что вмешательство колониальных властей во все области жизни шаамба должно было привести к печальным последствиям.
Шаамба рано познакомились и с проблемами «цивилизации». Мероприятия колониальных властей вызвали ускоренный распад кочевого хозяйства. Многие кочевники обнищали, отказались от традиционного ведения хозяйства, устремились в северные города, где в трущобах влачили нищенский образ жизни. Более зажиточные также перестроились. Так, в 1925 году шейх племени улед-алух продал свои стада, отказался от звания шейха и основал транспортную компанию. Прежним верблюдам он предпочел грузовики. Главная контора его фирмы находилась в Гардае, филиалы же были размещены в Салахе, Джанете и Таманрассете.