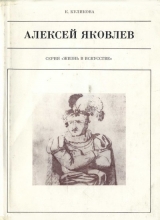
Текст книги "Алексей Яковлев"
Автор книги: Кира Куликова
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 18 страниц)
Весть о «победе» у Пултуска быстро донеслась до Петербурга. Уже 19 декабря вездесущий Жихарев записывал в свой дневник: «Всюду радость и на всех веселые лица. Курьер из армии прибыл и привез известие о победе, одержанной генералом Беннигсеном при Пултуске… Французы дрались храбро, напирали отчаянно, но мы устояли и победили. Конечно, потеря в людях и с нашей стороны велика, по зато французов легло вдвое более… Беннигсен не остановится на этой победе, а пойдет вперед… Мы дали себя знать, и первый блин не комом!»
Радостное предвкушение дальнейших побед разделяли с Жихаревым и другие петербуржцы. Все с нетерпением ожидали постановки на сцене новой трагедии Озерова «Димитрий Донской», которая, по ходившим слухам, «была произведением гениальным». Она «является очень кстати в теперешних обстоятельствах, – рассуждал Жихарев, – потому что наполнена множеством патриотических стихов, которые во время представления должны произвести необыкновенный эффект».
Она и произвела «необыкновенный эффект». Жихарев убедился в этом очень скоро, побывав на репетиции нового произведения Озерова, атмосферу которой потом – почти через полвека – попытался воссоздать в интересной своей достоверной меткостью сценке, поставленной в бенефис известной актрисы Александрийского театра П. И. Орловой в 1856 году под названием «13 января 1807 года, или Предпоследняя репетиция трагедии „Димитрий Донской“».
…Оживление царило в тот день в актерском фойе Большого театра. Сюда собрались и занятые в спектакле актеры, и все те, кто с нетерпением хотел посмотреть ее предпоследнюю репетицию. На видном месте расположился расторопный буфетчик, с особым усердием расставивший на придвинутом к стене столе закуски, бутылки с вином и графины с водкой. Вели нескончаемый спор о доходах театра степенный приятель Алексея Семеновича Яковлева бухгалтер Иван Федорович Тикулин и главный казначей Петр Иванович Альбрехт.
– Ну, слава богу, Иван Федорович, – с облегчением вздыхал Альбрехт. И с явно немецким выговором продолжал: – Ни один пустой мест; ни лож, ни кресла, все нарасхват!
– Вот то-то же, – пенял ему Тикулин, – а вы кричите все об издержках… А декорации-то невесть какие: княжеский шатер да старый дуб. Велика фигура!
– Так-то так, – возражал ему, медленно цедя слова, Альбрехт. – Да, бачка, трагедь не Русалка и не Князь-невидимка. Сегодня сбор, а завтра нет…
Актеры были заняты повседневными делами. Одни подходили к буфету, выпрашивая в долг стакан пунша, а то и чая. Другие вели ленивую беседу, оживлявшуюся лишь при воспоминаниях, кто когда и как играл. И все не понимали, почему вовремя не начинается назначенная репетиция новой трагедии Озерова «Димитрий Донской».
– Кому начинать-то? – саркастически улыбался располневший, начинающий лысеть актер Бобров. И не без ехидства бросал слывшему замечательным комиком Рыкалову и довольно посредственному актеру Рожественскому:
– Не вам же, Василий Федорович, становиться за Шушерина, а Спиридону Антиповичу за Яковлева!
Те возмущались и обижались, сетуя на Шаховского за то, что тот превратил их в «простофилей», а оба они, по их мнению, могли бы сыграть трагические роли «не хуже иных прочих».
Но тут приходил, кряхтя и охая, один из тех «прочих» – Яков Емельянович Шушерин. И все взоры устремлялись к нему.
– Насилу прибрел, – слабым голосом жаловался Шушерин. – Старость да немощи одолели… Кабы дал бог силы дотянуть кое-как до пенсии…
– Напейся душепарочки, – с легкой иронией советовал ему Сахаров, кивая на буфет, – так все пройдет.
– А, пожалуй, хоть сейчас отваляет Ярба, – тихонько судачили про Шушерина стоящие в сторонке актеры, – что твой Яковлев.
Появлялись театралы во главе с чуть чопорным, со вкусом одетым, свысока поучающим актеров Николаем Ивановичем Гнедичем. Рядом с добродушной, чуть располневшей, но все еще красивой Марией Степановной Сахаровой гордо усаживалась надменная Екатерина Семенова. Вбегал пополневший, с непомерно большой головой, забавно суетящийся Александр Александрович Шаховской. На ходу шпыняя, поучая, уговаривая, разрешал он споры актеров.
С поистине благородным достоинством, раскланиваясь во все стороны, входил все еще моложавый и подтянутый, несмотря на свои семьдесят два года, одетый по новой моде, но сохранивший повадки екатерининского вельможи Иван Афанасьевич Дмитревский, для которого и устраивалась настоящая репетиция. В сборе оказывались все, кроме одного, самого главного на этот раз, – Алексея Семеновича Яковлева, играющего роль Димитрия Донского.
– Да где же наш Димитрий? – визгливо вскрикивал Шаховской.
– Завтракает!.. – слышался издевательски звучащий ответ из толпы актеров.
– Господи боже мой! – хватался за голову Шаховской. И, горячась, быстро перебирая тонкими ножками, непонятно каким образом держащими грузное с нависшим животом тело, несся из одного угла фойе в другой. – У буфета нет. Да где же он? Ты должен знать, братец!
Шаховской чуть не с кулаками набрасывался на буфетчика.
– Сегодня не изволили закусывать, – степенно отвечал ему тот.
– Завтракает! – горячился Шаховской. – Если бы завтракал, был бы здесь. Чего доброго, запропастился куда-нибудь.
– Будет, – не повышая голоса, с неизменным сознанием своего превосходства успокаивал его Дмитревский, – непременно будет, без всякого сомнения будет. Не повторяет ли роль?
– А может, повторяет и другое что-нибудь, – с ехидной улыбкой бурчал будто про себя Шушерин.
– Бога не боишься, – обрезал его не любящий злословить Пономарев. – Накануне такого великого дня станет он этим заниматься!
И будто в подтверждение этих слов в фойе вбегал незадолго до этого вышедший из него Бобров.
– Да ведь Алексей Семенович больше часу как здесь! Ходит по сцене один, дожидаясь репетиции.
– Вот, душа, спасибо! – невольно вырвалось у Ивана Афанасьевича Дмитревского. – Я сказал вам, Александр Александрович, что непременно явится вовремя. Как можно подумать!
Обрадованный Шаховской уже всех гнал из фойе:
– На сцену, господа! На сцену!
А на пустой сцене, среди запыленных кулис, изображавших поле и несколько деревьев, в глубоком раздумье, заложив назад руки, бродил одетый в театральные доспехи Алексей Семенович.
– Что же вы тут одни? – бросаясь к нему, спрашивала вбежавшая прежде других на сцену Мария Степановна Сахарова.
– Да боялся идти наверх, – с застенчивой мрачностью отвечал Яковлев. – Разговоры, споры, буфет и прочее. Бог с ними!
– Можно бы дать знать о себе, – набрасывался на Алексея Семеновича подоспевший вместе с другими актерами Шаховской. – Голоса-то не занимать стать. А мы тебя все искали.
– Ведь я не булавка какая-нибудь, – негромко, но твердо отвечал Яковлев.
– Булавка не булавка, а подчас порядочный гвоздь, – оставлял за собой последнее слово Шаховской. – По местам, господа!
И началась репетиция «Димитрия Донского», завершившаяся пылким, восторженным возгласом Шаховского:
– Браво, Алексей Семенович! Хорошо!
Одобрительными кивками поддержали его слова сидящие в стороне, ближе к оркестру, театралы. Экспансивный Шаховской кидался к сидящему среди них Дмитревскому:
– Каков ученичок-то ваш, Иван Афанасьевич?
Плавным жестом, с привычным театральным изяществом разводил руками Дмитревский:
– Хорошо, очень хорошо. Как нельзя лучше. Ну, конечно, можно бы иное сказать и другим образом… Было бы естественнее говорить потише. Например, хотя бы так…
Встав в благороднейшую из благородных поз, с величайшим чувством воодушевления, слегка любуясь собой, но не давая почувствовать этого окружившим его актерам, Иван Афанасьевич продекламировал последние четыре строчки финального монолога Димитрия. И, как всегда бывало в таких случаях, слушавшие его внутренне ахнули, завосторгались великолепным декламаторским мастерством старого актера, его умением быть всегда в форме, благородством его осанки. Легко возбуждающийся Шаховской чуть не плакал от умиления:
– Прекрасно, Иван Афанасьевич, прекрасно!
И, словно забыв, что он только что не менее пылко восторгался Яковлевым, с назидательной строгостью обратился к тому:
– Алексей Семенович, слышал?
– Слышал, – мрачно ответил Яковлев, восхищенный Дмитревским не меньше Шаховского и все же где-то внутренне не соглашавшийся с таким чисто декламаторским чтением последнего монолога Димитрия. И неожиданно для всех сказал: – Я и сам еще не знаю, как завтра придется сыграть эту сцену.
…Вряд ли в точности так развивались события на репетиции 13 января 1807 года. Разговоры актеров Жихарев воспроизвел, безусловно, не со стенографической адекватностью, тем более что несколько иное, краткое описание ее он оставил в своем дневнике. Но дневниковая запись не опровергает, а подтверждает подлинность происходившего и воссозданного Жихаревым в драматической сцене, диалоги которой были только что приведены. С одной лишь поправкой: происходившего не на одной репетиции, а на многих, впечатления от которых Жихарев обобщил в своей «драматической были». Что же касается самого спектакля «Димитрий Донской», то о нем также сохранилась запись Жихарева, сделанная 15 января 1807 года – на второй день после первого представления:
«Вчера, по возвращении из спектакля, я так был взволновал, что не в силах был приняться за перо, да, признаться, и теперь еще опомниться не могу от тех ощущений, которые вынес с собою из театра. Боже мой, боже мой! что это за трагедия „Димитрий Донской“ и что за Димитрий – Яковлев! Какое действие производил этот человек на публику – это непостижимо и невероятно! Я сидел в креслах и не могу отдать отчета в том, что со мною происходило. Я чувствовал стеснение в груди, меня душили спазмы, била лихорадка, бросало то в озноб, то в жар, то я плакал навзрыд, то аплодировал из всей мочи, то барабанил ногами по полу – словом, безумствовал, как безумствовала, впрочем, и вся публика, до такой степени многочисленная, что буквально некуда было уронить яблока. В ложах сидело человек по десяти, а партер был набит битком с трех часов пополудни; были любопытные, которые, не успев добыть билетов, платили по 10 р. и более за место в оркестре между музыкантами. Все особы высшего общества, разубранные и разукрашенные как будто на какое-нибудь торжество, помещались в ложах бельэтажа и в первых рядах кресел и, несмотря на обычное свое равнодушие, увлекались общим восторгом и также аплодировали и кричали „браво!“ наравне с нами…»
Больше всех шумел и восторгался помещавшийся за несколькими рядами кресел партер, в котором были сидячие и стоячие места. Зрители туда собрались за три часа до начала представления, чтобы занять место, с которого можно будет лучше видеть представление.
Свое нетерпение они выказывали беспрерывными аплодисментами, стуком тростей и палок. В шесть часов вечера в директорской ложе показался в парадном мундире с орденской лентой через плечо Александр Львович Нарышкин. Удовлетворенно окинув взглядом переполненный театр, он кивнул дирижеру. Оркестр заиграл музыкальное вступление, взвился занавес, представление началось.
В зале воцарилась полная тишина. Димитрий – Яковлев начал монолог, взывающий к российским князьям, боярам, воеводам начать «отмщение» «алчным вранам» – татарам. Но тишина длилась недолго. Произнесенные Яковлевым с убежденностью, силой, болью за «междоусобную брань», за слабость России слова:
Беды платить врагам настало ныне время, —
взорвали ее топотом, криками «браво!», неистовыми рукоплесканиями, которые более пяти минут не давали возможности актеру продолжить монолог. Восторженная реакция зрителей сопровождала игру Яковлева на протяжении всей трагедии. По многочисленным свидетельствам, слова Димитрия – Яковлева буквально врезались в память людей, которые уже после первого представления разносили стихотворные строки, сразу же становившиеся злободневно «крылатыми»:
Ах, лучше смерть в бою, чем мир принять бесчестный!..
Скажи, что я горжусь Мамаевой враждой:
Кто чести, правде враг, тот враг, конечно, мой….
Иди к пославшему и возвести ему,
Что богу русский князь покорен одному…
Группами, с непросохшими глазами, собирались зрители в антрактах. Тут и там слышались панегирики Яковлеву:
– Как Яковлев произнес этот стих!
– Одним словом он умел выразить весь характер представляемого им героя, всю его душу и, может быть, собственную.
– А какая мимика! Сознание собственного достоинства, благородное негодование, решимость – все эти чувства, как в зеркале, отразились на прекрасном лице его.
– Если бы Яковлев не имел никакой репутации, то, прослушав, как он произнес этот стих, нельзя было бы не признать в нем великого мастера своего дела!
Когда же, завершая трагедию, Яковлев, стоя на коленях, произнес последние слова раненного в бою Димитрия «Языки ведайте: велик российский бог!», признание было единодушным – Яковлев превзошел самого себя.
«Конечно, ситуация персонажа сама по себе возбуждает интерес, – как бы подытоживал общее зрительское восприятие первого представления „Димитрия Донского“ Жихарев, – стихи бесподобные, но играй роль Димитрия не Яковлев, а другой актер, я уверен, эти стихи не могли бы никогда так сильно подействовать на публику; зато и она сочувствовала великому актеру и поняла его: я думал, что театр обрушится от ужасной суматохи, произведенной этими последними словами».
От представления к представлению рос успех «Димитрия Донского». «При всякой встрече с кем-нибудь из знакомых, – вспоминали очевидцы, – можешь быть уверен, что ты встретишь вопрос:
– Что, видели ли Донского? А каков Яковлев?»
В обстановке усиливающихся наполеоновских завоеваний в Европе патриотические монологи трагедии Озерова вызывали ответные чувства в зрительном зале. Но не только этим ограничивалось ее значение. Новаторскими в трагедии были трактовка исторических событий и раскрытие психологической сущности героев. Обращаясь к событиям многолетней давности, Озеров не пытался прямыми аллюзиями (что было характерно для классицистской трагедии) отразить наболевшие конфликты своего времени. В «Димитрии Донском» была сходная с современной ситуация: военная угроза России и ожидание дальнейшего развития событий, которые должны решить ее судьбу. Но не было откровенных поучений, приводящих к неизбежной схематизации образов.
Отличие новой трагедии Озерова от произведений русской классицистской драматургии не сразу поняли современники Озерова. Как не сразу поняли и неожиданность решения сценического образа московского князя Димитрия (нареченного за победу над ханом Мамаем – Донским), стремящегося соединить разрозненные войска русских княжеств для борьбы с татарским нашествием.
Прославившийся чтением поэтических творений гражданского и философского звучания, Яковлев вдохновенно читал монологи Димитрия. В созданном им облике полководца России продолжало покорять то соединение гражданского и лирического, которое восхищало уже в его Фингале. Димитрий Яковлева был верным патриотом. Но, так же как и вождь Морвена, он был страстным возлюбленным. Для него понятие родины сливалось с понятием любви – не абстрактной, а обыкновенной, человеческой. Защищая родину, он шел и на защиту Ксении. Отстаивая до конца свое право любить, он считал это долгом не меньшим, чем защищать родную землю. Чувство и долг у него смыкались, превращаясь в единое понятие: честь.
Собрав русскую рать против орды Мамая, он не побоялся выступить против могущественного князя Тверского, объявленного женихом любящей Димитрия дочери нижегородского князя Ксении. Хотя и понимал, что это может привести (и привело) к расколу среди русского войска. Князь Тверской соглашался идти в бой против Мамая при условии, если ему отдадут Ксению, чтобы, женившись на ней, мстить ей потом за нанесенную «обиду». Димитрий не поступался своими принципами, будучи убежден, что насилие над личностью не менее пагубно, чем любое другое насилие. В конфликте Димитрия и Тверского правда была на стороне первого. Но за Тверским шли остальные князья, считавшие, что в защите Ксении проявляется своего рода деспотия князя московского над ними. Оскорбленные этим, они хотели было уже пойти на примирение с Мамаем и заплатить требуемую им дань. Решившись принять бой, Димитрий оставался с малочисленным войском, покинутый в конце концов и Ксенией, вначале готовой уйти в монастырь, а затем, для его же, Димитрия, спасения, давшей обещание выйти замуж за нелюбимого Тверского (что и соединило вновь русские войска).
Димитрий Донской вырастал у Яковлева в романтического героя – отверженного всеми, непонятого, верного своим убеждениям, со всей широтой натуры идущего на смерть во имя любви и гражданского долга. Отказываясь от возлюбленной по ее воле, он продолжал жить ради спасения родины, но для себя в бою искал лишь смерти. В Димитрии – Яковлеве до самого конца трагедии не возникало даже подобия борьбы между чувством и долгом. Наоборот: именно любовь давала возможность совершить ему подвиг, приведя к победе русские войска.
Пускай все воинство и вся Россия пусть
Познают, коль хотят, любовь мою и грусть,—
восклицал он.
Последними же словами Димитрия – Яковлева перед боем, посвященными Ксении, оказывались те, которые были близки собственным думам актера:
Но коль любовника оплачет хоть слезой,
Ту радость принеси на гроб печальный мой.
В отличие от Фингала, Димитрий был мужем зрелым, понимающим, какая огромная ответственность лежит на нем – полководце «всея Руси». Таким он представал в древних летописях. Таким явился он и в спектакле, который отличался более вдумчивым подходом Озерова и постановщика спектакля Шаховского к старине, нежели при воплощении пьес Сумарокова и Княжнина, также в свое время претендующих на раскрытие сюжетов из русской были.
Разумеется, понятие «историчность» и здесь воспринималось еще весьма узко и односторонне. Озеров стремился, выражаясь языком Пушкина, «переселиться» в век, им изображаемый, но то была первая, робкая, во многом компромиссная попытка. Он отрекся от прямых намеков на современность. Однако не сумел еще прийти к той народности изображения, за которую будет ратовать Пушкин. И за отсутствие которой станет потом упрекать Озерова: «Что есть народного в Ксении, рассуждающей шестистопными ямбами о власти родительской с наперсницей посреди стана Димитрия?»
Пушкин в разные годы по-разному отнесется к драматургии Озерова. Упрек в отсутствии народности будет сделан Пушкиным с высоты того времени, когда уже был создан «Борис Годунов» – самое великое творение русской трагедии. Но упреки в нарушении исторического правдоподобия бросали Озерову и гораздо ранее – в год постановки «Димитрия Донского». И исходили они, как это ни парадоксально, из лагеря классицистов, эстетическую систему которых сам Пушкин отрицал.
Постановщика спектакля укоряли за то, что он не во всем выдержал историческую верность костюмов: «Мы видим Димитрия Донского, вооруженного римским мечом». Драматурга – за снижение образа положительного героя – правителя и полководца. А также за отсутствие «исторической верности», понимаемой в классицистко условном значении. И что интересно: особую критику вызывала уже с другой точки зрения, чем требование народности Пушкиным, все та же сцена с Ксенией, исполняя которую, особенно громкий успех имела Семенова.
– На чем основывался Озеров, – возмущался Державин, – выведя Димитрия влюбленным в небывалую княжну, которая одна-одинехонька прибыла в стан и, вопреки всем обычаям тогдашнего времени, шатается по шатрам княжеским да рассказывает о любви своей к Димитрию?
– Ну конечно, – по своему обычаю, уклончиво вначале отвечал ему Дмитревский, – иное и неверно, да как быть! Театральная вольность, а к тому же стихи прекрасные: очень эффектны.
Но тут же спохватывался и уже с большей откровенностью продолжал:
– Вот изволите видеть, ваше высокопревосходительство, можно бы сказать и много кой-чего насчет содержания трагедии и характеров действующих лиц, да обстоятельства не те, чтоб критиковать такую патриотическую пьесу, которая явилась так кстати и имела неслыханный успех… Таких людей… с талантом Владислава Александровича, приохочивать и превозносить надобно; а то, неравно, бог с ним, обидится и перестанет писать. Нет, уже лучше предоставим всякую критику времени: оно возьмет свое, а теперь не станем огорчать такого достойного человека безвременными замечаниями.
Оценка Дмитревского была во многом справедлива. Хотя дело было здесь не только в том, что «Димитрий Донской» оказался «кстати» и стихи в нем для своей эпохи были «прекрасными». Озеров «Димитрием Донским» прорубил новый путь русской трагедии, отойдя в какой-то мере от классицистских канонов абстрактной схемы «правдоподобия образов» к романтически воспринимаемым характерам героев, с их намечающейся психологически усложненной разработкой (к чему так стремился на сцене Яковлев).
В патриотическом же спектакле, явившемся только «кстати», со звучными стихами и эффектными декорациями, Яковлеву вскоре пришлось сыграть. И он имел в нем успех еще более шумный, чем в «Димитрии Донском». Хотя и не нашел для себя, как актера, того психологического материала, который обрел в «Димитрии Донском».








