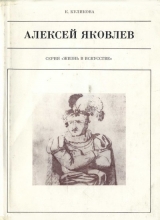
Текст книги "Алексей Яковлев"
Автор книги: Кира Куликова
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 18 страниц)
«Иногда, – вспоминал Фаддей Булгарин, – на Яковлева находил приступ гордости, и он воображал себя, разумеется, будучи навеселе, что он точно герой». И приводил как пример случай (о нем рассказывали и другие мемуаристы), когда Яковлев, возвращаясь после спектакля в костюме Димитрия Донского, напугал стражников у городской заставы, объявив им громовым голосом, что собственной персоной является светлейшим московским князем. Последнее происходило опять-таки под винными парами.
Потом Яковлев огорчался, ругал себя, «добродушно и вполне откровенно», по словам Аксакова, рассказывая о подобных случаях. Не щадящим себя, исполненным детского простодушия раскаянием Яковлев невольно вызывал симпатию. Юный Аксаков рассердился как-то на боготворимого им Шушерина за то, что тот, спровоцировав для потехи подобный рассказ Яковлева, «валялся со смеху», а потом выпроводил Алексея Семеновича «без всяких церемоний».
Вера в то, что его поймут правильно, часто ставила Яковлева в нелепое положение. Искренне забывая в минуты восторженного приема его зрителями на сцене обиды, нередко делился он со своими завистливыми собратьями радостью «понятости» его публикой. А тем казалось это недопустимым хвастовством. Они за глаза осуждали, иногда подшучивая, а порой и высмеивая его «бахвальство».
Так день за днем между этим умным, но «не рассудительным» (вспомним формулировку Жихарева), бесхитростным, но с уязвленным самолюбием, откровенным, искренним и в то же время сложным, погруженным в свои мысли человеком и другими людьми вырастала стена трагического непонимания.
ЖУРНАЛЬНАЯ ПОЛЕМИКА
Вторая половина 1808 года не привнесла в творческую жизнь Яковлева чего-либо существенного. Играл он в основном старый репертуар. Все реже приходилось ему играть с Каратыгиной. Все чаще с Семеновой. И еще чаще с дочерью Ивана Ивановича Вальберха, Марией Ивановной, которая была принята на роли любовниц и принцесс в 1807 году (и которой протежировал Шаховской, пытаясь противопоставить ее Семеновой). Между Семеновой и Вальберховой делились теперь в основном роли главных любовниц. Делились не всегда удачно. Театралы не раз упрекали за это князя Шаховского.
Вместо того, рассуждали они, чтобы назначить Вальберховой роли нежных юных принцесс, таких, как воздушная Моина в «Фингале», ей приходится играть первые трагические роли, вроде страстной и гордой Дидоны, которые более свойственны сильному дарованию Семеновой. Они осуждали князя Шаховского за то, «что он с какой-то беспечностью смотрит на такое распределение ролей в предосуждение пользы обеих актрис и собственному своему спокойствию». «Правда, – пытались они в какой-то мере объяснить его поведение, – он мог иметь и то обстоятельство, что Семенова не выпустит из рук тех ролей, которые приобрели ей благосклонность публики в начале ее поприща, и что в таком случае, если ей будут отданы роли Вальберховой, то последняя останется почти без ролей…» И все-таки, считали они, во всем этом есть «свой умысел».
Умысел у быстро увлекающегося князя Шаховского действительно был. Ориентируя репертуар на классицистскую и так называемую неоклассицистскую трагедию (сентименталистские драмы все реже и реже появлялись тогда на подмостках), Шаховской хотел воспитать «свою» актрису на главные роли. Чувствительный дар Каратыгиной «исторгать слезы» у зрителей не устраивал его. Строптивая Семенова, взяв, что могла, у Шаховского, устремляла взоры в другую сторону – на Гнедича, более четко формулирующего свои взгляды на театр. Красивая, умная, послушная Вальберхова, которую Шаховской знал с юности, казалась ему превосходным актерским материалом. Из него можно было слепить то, что хотелось ему.
Яковлеву приходилось выступать в качестве партнера попеременно со всеми тремя актрисами. Равных себе актеров он на петербургской сцене не имел. Шушерин доживал на сцене последние дни. Молодой Щенников получал чаще всего нарекания. Жебелев постепенно переходил на роли простаков или, как тогда говорили, «деми-характер». Никого из актеров с Яковлевым в Петербурге не пытались даже сравнивать. В том числе и из французской труппы. Особенно в ролях молодого любовника, на которые во французской труппе не было достойного актера. Знаменитый Ларош явно устарел и сам отдавал предпочтение своему русскому собрату по амплуа, называя Яковлева «талантом первого разряда». Приехавший же недавно в Петербург Ведель уступал ему и по внешности, и по дарованию, будучи, по признанию разборчивых театралов, «совершенной карикатурой Тальмы».
И можно было понять возмущение Яковлева, когда он, посмотрев Веделя в роли Ореста из расиновской «Андромахи», разгоряченный, чуть не взбешенный, влетел после спектакля в ложу Нарышкина, поклонился ему в пояс и с насмешливым негодованием выпалил:
– Ну, ваше превосходительство, уж актер! и это Орест? да это ветошник! А чай жалованья получает втрое Яковлева.
По рассказам очевидцев, «добрый Александр Львович захохотал и пригласил Яковлева приехать к нему для объяснения на другой день…»
24 августа 1808 года Нарышкин предложил конторе увеличить жалованье Яковлева на 500 рублей, превысив тем самым высший по штатному расписанию в русской труппе актерский оклад и сравняв его с окладом Веделя, получавшего 3000 рублей. «Сверх того, – приказывал Нарышкин, – актеру г. Яковлеву расходы по положенному ему бенефису дирекция оплачивать будет». Ведель же расходы по своему бенефису нес сам.
А еще через два с половиной месяца в книге распоряжений театральной дирекции была сделана следующая запись: «По предложению его высокопревосходительства господина главного директора и кавалера Александра Львовича Нарышкина актеру Яковлеву предлагает производить квартирных денег по пятисот рублей ежегодно… Приказано оные квартирные деньги внести в список…» Вскоре Яковлев переехал из неудобной, находящейся на первом этаже театрального училища казенной квартиры в нанятую по своему вкусу.
Все это еще и еще раз свидетельствовало о том исключительном положении, которое занимал в то время Яковлев. Остальные ведущие актеры русской труппы (кроме уходившего на пенсию Шушерина, имевшего высший до сих пор оклад – 2500 рублей) получали в два, а то и в три раза меньше его. Бенефисы же, на которые имели право всего пять, кроме Яковлева, русских актеров (в сентябре 1808 года к ним прибавится еще Семенова, а несколько позже Вальберхова), все без исключения до сих пор устраивались на их, а не на казенный счет.
Яковлев занял самое высокое положение, о каком только мог мечтать актер столичной труппы. За пятнадцать лет служения русскому театру у него сложились свои взгляды на актерское искусство. Он тщательно продумывал роли, пытаясь найти собственные, отличные от других законы вхождения в образ. Тем больнее для него оказалась дискуссия, которая развернулась в 1809 году.
Собственно говоря, с отстаивания им своих убеждений и началась вокруг его имени журнальная перепалка. Возникла она, казалось бы, по самому незначительному поводу. 21 января 1809 года князь Шаховской представил на суд публики свой перевод трагедии Вольтера «Китайский сирота». «Долго репетировалась эта трагедия, – свидетельствует Пимен Арапов, – и обставил он ее лучшими сюжетами; Чингис-хана, императора татарского, играл Яковлев; Замти – вельможу китайского – Сахаров; Идамию, его супругу, – Вальберхова. Пьеса потерпела падение, и когда, по опущении занавеса, начали вызывать Яковлева и он вышел, несколько голосов закричали Вальберхову, но в то же время многие стали шикать, и лишь только показалась эта молодая актриса, раздался крик „не надо!“».
Арапов допустил здесь некоторую неточность. Пьеса «не пала». Она имела шумный успех. Яковлев играл Чингис-хана еще долгое время. Но против Вальберховой действительно были направлены критические выпады, в которых «кабалерская» пристрастность сочеталась с объективной правдой: дарованию Вальберховой, выступавшей тогда в амплуа «молодых цариц» попеременно с Каратыгиной, на самом деле не хватало трагической силы, чтобы сыграть роль Идамии, страстно любящей своего ребенка, которого готов отдать на заклание во имя спасения наследника престола ее супруг Замти. И многие тогда закономерно разделяли мнение рецензента журнала «Цветник»: Вальберхова, «без сомнения, сама… чувствует… что роль Идамии гораздо выше сил ее…», роль Идамии должна была бы играть Каратыгина: «она сыграла бы ее несказанно лучше».
В то же время рецензент не охаивал всего спектакля. Он отдавал должное актеру, игравшему главную мужскую роль: «Нельзя никого было выбрать, – утверждал он, – для сей роли кроме г. Яковлева». И сразу же после того как соединил имена Яковлева и Каратыгиной, рецензент не без двусмысленности намекал, почему: «Мстительный Чингис-хан узнает в супруге Замти прекрасную Идамию. Он любил ее уже несколько лет, и вся пролитая им кровь не могла затушить пламени, которым пылало к ней сердце…»
А затем предъявлял претензии и Яковлеву. Начав с привычного упрека: жаль, что тот, надеясь, как видно, на свои природные преимущества, «играет иногда с некоторым небрежением», рецензент попытался доказать, в чем же, по его мнению, состояло это небрежение. «Чингис-хана представлял он не очень хорошо, надобно ему было… во многих местах, а особливо в явлениях с Идамией, говорить с большим жаром». Согласившись, что «Чингис-хан был добрее и образованнее своих татар», что «тон его без сомнения должен быть только важен тогда, когда говорит он, не будучи волнуем страстью, или когда старается ее умерить», рецензент в запальчивости восклицал: «Но как же не выйти ему из себя, когда страсти сильно в нем действуют?» И назидательно поучал актера: «Чем должен быть у Вольтера на сцене Чингис-хан? Разъяренным победителем и страстным любовником. Ни тот, ни другой никогда не наблюдают умеренности».
Яковлев не оставил без внимания эти критические нападки. Роль Чингис-хана была для него программной. Он отозвался на рецензию письмом, напечатанным в соперничающем с «Цветником» журнале «Северный Меркурий». Письмо его свидетельствовало о том, что, вопреки мнению ряда театралов, актер имел свою принципиальную творческую линию и намеренно следовал ей, нередко противостоя традиционным представлениям.
«Господа издатели! В суждении вашем, помещенном во втором номере сего издания, о представлении трагедии „Китайский сирота“ в переводе на российском языке вы, между прочим, жалеете, что я, надеясь, как видно, на телесные мои преимущества, играю иногда с некоторым небрежением, что роль Чингис-хана представлял я не очень хорошо и что надобно мне было, по мнению вашему, а особливо в явлениях с Идамией, говорить с большим жаром.
С того времени, как только начал я замечать и чувствовать благоволение почтенной публики к игре моей, не только никогда не пренебрегал оною, но тщился более усовершить ее и при каждом представлении моем считал себя обязанным, и ревностно старался угодить знающим искусство актеров зрителям. Противно было бы и моим чувствиям и моей склонности к сему искусству поступать иначе; безумно также надеяться на телесные преимущества, зная, что они ничего не значат без душевных… Чем нехорошо представлял я Чингис-хана? По мнению вашему, тем, что надобно бы мне было говорить с большим жаром.Чингис-хан, правда, выведен у Вольтера разъяренным победителем и страстным любовником, но чтоб тот и другой никогда не наблюдали умеренности,быть не может. Вообразите себе человека с пылкими страстями, и притом честолюбивого, умного, великодушного, который, соображаясь с обстоятельствами, умеет их укрощать или по крайней мере искусно скрывать их пылкость, дабы во всех его поступках видно было благоразумие. Таково есть свойство Чингис-хана, такова была моя игра; ежели я чего-либо не соблюдал в изображении такого свойства, сие, может быть, произошло от ошибки в расположении моей роли, а отнюдь не от небрежения. Ошибки свойственны людям, и даже знающим совершенно свое дело. Но сознание в оных свойственно одним только добросовестным. Позвольте, господа издатели „Цветника“, позвольте мне вас причесть к сим последним, ибо я уверен, что и вы сознаетесь в своей ошибке, видимой из суждения вашего об игре моей.
Впрочем, с должным к вам уважением имею честь быть вашим покорнейшим слугою
А. Яковлев».
Но издатели «Цветника» не сознались в своей «ошибке». Они продолжили полемику, раскрывшую принципиальную бездну непонимания театральными рецензентами воззрений актера. Яковлев стремился к усложнению образа, к раскрытию в герое противоречивых чувств, непрестанного борения страстей. Рецензенты «Цветника» были привержены к гармонической ясности чувств: будь то любовь или ненависть. Яковлев и в злом искал доброго, в рассудочном – безрассудного, в пылком – разумного. Рецензенты «Цветника» хотели четкого разделения добра и зла, разумного и неразумного, пылкого и рассудительного. Требовали четкого соблюдения жанровых границ исполнения. Величавый дух трагедии, в их представлении, определял величие жестов, торжественность пантомимы, мимики, точного соблюдения ритмики при чтении стихотворных строк. Яковлев отстаивал право актера и в трагедии ступать по грешной земле, раскрывая не только величие или низменность души, но и часто объединяющие их противоречивые чувства. Он интуитивно тянулся к трагедийным особенностям драматургии Шиллера и романтически воспринимаемого Шекспира. Его противники оставались верными тем классицистским нормам, которые объединяли, при всей их разности, Корнеля, Расина и Вольтера.
В чем же продолжали упрекать Яковлева авторы последующих статей «Цветника»? Что не правилось им в трактовке ролей, которые он особенно тщательно готовил и которые старался играть по-своему? Именно это « по-своему» и вызывало яростное сопротивление «просвещенных друзей», советам которых издатели «Цветника» настоятельно предлагали следовать актеру. Недовольство «вольностью» поведения актера на сцене сквозит в каждой строчке «Письма в Москву», написанного А. Н. Олениным и напечатанного в октябрьском номере «Цветника» за 1809 год.
Отдав дань «девице Семеновой», в пользу которой состоялся спектакль «Заира» 8 октября, ее «совершенно греческой красоте, одаренной редкими средствами для театра», Оленин весь свой полемический пыл направил против Яковлева.
«Что я видел!.. – восклицает он. – Что я слышал!.. Прежде то почиталось хорошим, что было признано таким от многих умных людей, а теперь всякому хорошо то, что только ему одному нравится; все переменяется; что век, то обычай, что город, то норов; чему же я удивляюсь… Где же благородство? Где величие азиатских государей? Где трагическая возвышенность?» Орозман – Яковлев «подходит к самому носу Заиры… он берет ее за руку, за плечо, за обе руки! Где же скромность и пристойность любви благородной? Где важность страсти трагической? Боже мой! Он тянет ее к себе…» В Яковлеве не чувствуется благородный мусульманин. Он позволяет себе говорить «как осужденный, дрожащим голосом», переходящим на басовые ноты. Нарушая все приличия, подымает руку вверх, делая ею круговые движения, прижимает руку Заиры к сердцу: то «с наклонною головою, голосом умиленным беседует с нею», то остается «в каком-то оцепенении», то говорит со «страшным хладнокровием», то «позволяет себе метаться и кричать». Одним словом, Яковлев «совершенно не понимает» своей роли, ломает все сложившиеся представления о ее исполнении.
Самое же удивительное кажется автору «Письма в Москву» то, что на протяжении всей трагедии Яковлеву оглушительно рукоплещет партер. (Заметим, не раёк, где собиралась случайная публика, а демократический партер, откуда, нередко стоя, смотрели спектакли, по мнению многих актеров, бескорыстные, истинные любители театра.) Что ж, сокрушается автор письма, если Яковлев творил сие по «небрежению», то «вредил только самому себе, ибо, пренебрегая судом просвещенных зрителей», сидящих в дорогостоящих креслах, «и основывая славу свою на хлопанье и вызовах, он забыл, что хлопанье его вызовщиков не услышит потомство. Если же по неведению, то истинно должно пожалеть об актере, который, имея столь чрезвычайные дарования, сам заградил для них такое обширное поле к приобретению славы…»
Но рукоплескание партера на этот раз не было вызвано желанием услышать «хлопанчики». В те годы Яковлев углубленно работал над близкими себе ролями. И роль Орозмана была одна из них. Однако ж ни издатели «Цветника», ни знаток театра Оленин не захотели услышать крика души актера. Опубликованное «Северным Меркурием» его письмо отвечало не только на рецензию о «Чингис-хане». Оно как бы предугадывало упреки и автора «Письма в Москву». Для того чтобы почувствовать трагическую суть непонятости «просвещенными зрителями» творческих устремлений Яковлева, стоит еще и еще раз вчитаться в каждую строку приведенного выше его письма.
Почти все остальные рецензии на игру Яковлева, помещаемые в «Цветнике» в 1809–1810 годах, были весьма для него лестными.
Но и в них часто продолжали мелькать слова: «иногда играл с небрежением», «хотя во многих местах играл очень хорошо; однако ж мало вникнул в характер» и пр. Подтверждением подобных упреков служили все те же обвинения в «невыдержанности» роли, в снижении трагической величавости, в нарушении узаконенных правил актерской игры. И пожелания, как было бы хорошо, если бы его герой, «говоря с другом своим, не клал ему на плечи рук», «будучи в исступлении», не касался бы «пальцем уха» или, став невольным убийцей матери, никогда, даже при виде своей возлюбленной, «не изъявлял бы веселие».
От Яковлева порой требовали, чтобы он оправдался перед публикой. Но оправдываться после его письма о «Чингис-хане» было бессмысленно. На подобные упреки он уже ответил этим письмом. И любимыми ролями, которые он сыграл и будет еще играть.
В ГОДЫ ПОЛНОГО ПРИЗНАНИЯ
Журнальная полемика, одним из объектов которой оказался Яковлев, разожгла до предела страсти, порой не имевшие непосредственного отношения к нему. С еще большей силой продолжали разрастаться споры вокруг трех его постоянных партнерш: Каратыгиной, Семеновой и Вальберховой. Особенно вокруг двух последних.
Попытка утвердить в русской труппе еще одну актрису на первые трагические роли в лице Вальберховой не прошла даром для Шаховского. Когда-то, в дни постановки на сцене «Эдипа в Афинах», дружный репертуарный комитет теперь раскололся: Оленин, Гагарин, Мусин-Пушкин, Арсеньев его оставили, считая (как объяснял Оленин), что несправедливости, которые Шаховской чинит «бедной Семеновой», не дают ему права знакомства с «порядочными людьми». Несправедливы были распространяемые слухи (недвусмысленные намеки на них имелись в оленинском «Письме в Москву») о том, что Яковлев, якобы в отместку за Каратыгину, вкупе с Сахаровым намеренно сорвал первый в жизни Семеновой бенефис, на котором была поставлена «Заира». Но не менее несправедливы были и утверждения князя Шаховского, обвинявшего Оленина в том, что тот явился инициатором скандальной атмосферы на бенефисе Семеновой. На что честнейший Оленин, не без основания, с обидой возражал: «Я никогда не хлопаю руками, палкой не стучу, ногами не шевелю, устами не шикаю – а менее всего кабалирую… это подло и гадко».
А страсти все нагнетались и нагнетались. С особой силой разгорелись они после спектакля «Электра и Орест», показанного зрителям 9 ноября 1809 года, в котором не играла Семенова. Полемику начал сам автор трагедии – плодовитый, но весьма посредственный литератор Грузинцев, написавший письмо в «Цветник». В нем он восторженно оценивал игру актеров. Считая, что в роли Электры «г-жа Вальберхова подходила близко к совершенству», а г-жа Каратыгина в роли Клитемнестры «украсила трагедию своей игрой», Грузинцев основную дань восхищения отдавал исполнившему Ореста Яковлеву, который, «невзирая на грудную болезнь, от простуды с ним приключившуюся…», показал «искусство великого актера». «Сей северный Лекен во многих случаях превосходит самого Лекена», – восклицал счастливый автор в конце своего послания.
Поместив письмо в своем журнале, издатели «Цветника» сопроводили его собственными, написанными не без ехидства, комментариями. Красноречиво доказав, что Вальберхова в роли Электры «весьма далека от совершенства», они соглашались, «что г. Яковлев имеет от природы все то, что нужно иметь самому лучшему трагическому актеру, что он действительно у нас теперь самый лучший трагический актер…» Удивлялись они одному: «в каких точно случаях он превосходит Лекена?..»
«О том, – справедливо утверждали они, – ничего сказать не можем, ибо мы Лекена не видели».
К переписке Грузинцева с «Цветником» примкнул безымянный издатель «Электры и Ореста». В предисловии к опубликованной им трагедии он утверждал, что «актрисы с такими дарованиями, какие имеются у Вальберховой, на российском феатре доныне еще не бывало, да и вряд ли когда будет». Каратыгиной же, «выполнившей» в «Электре и Оресте» «все обязанности благоразумной актрисы», более свойственно играть чувствительные драмы и «зрелые роли цариц в трагедии».
За словами этими обнажалась позиция князя Шаховского, которую он неустанно отстаивал за кулисами. Очищая место для Вальберховой, он постепенно отодвигал Каратыгину на роли благородных матерей. Семенова же, по его мнению, должна была потесниться, уступив более сильные и яркие роли его протеже.
Но Семенова не хотела, да и не должна была «тесниться». Она и сейчас уже «на театре… казалась царицей среди подвластных ей рабов», как напишет о ней потом Вигель.
Завершая осенью 1810 года затянувшиеся споры, об этом открыто заявит рецензент «Цветника»: «Читатель сам догадается, кто поистине та актриса, какой у нас ныне не бывало, и кто бы мог сыграть роль Электры гораздо лучше г-жи Вальберховой», которая «при всем старании своем вовсе не показала того знания страстей, величавости, разнообразия в рассказах и точности движений», коих требуют первые роли трагедии.
Рецензия «Цветника» появилась в то время, когда все взгляды были устремлены на французскую петербургскую труппу, куда весной 1808 года прибыла наконец знаменитая мадемуазель Жорж.
Появилась она на сцене в «Федре» Расина, потом в «Танкреде» Вольтера. Публика встретила ее восторженно, рецензенты ее воспевали: «Все ее телодвижения ловки, игривы… Для кисти и резца она лучший образец…» И предостерегали: нужно только предуведомить наших молодых актрис, чтобы они «с большой осторожностью перенимали» ее протяжную манеру говорить, похожую на пение!..
Русские же актрисы, стараясь не пропускать ни одного спектакля на сцене Большого театра, пока что молчаливо и напряженно следили за ее игрой. Но одна из них уже «подняла перчатку», как выражались рецензенты того времени, брошенную русскому театру появлением мадемуазель Жорж.
8 апреля 1809 года русские зрители увидели Семенову в роли Аменаиды из трагедии Вольтера «Танкред», в которой продолжала выступать французская актриса. К этой роли Семенова готовилась тщательно и долго. Она проходила ее с придирчиво требовательным, одержимым благозвучной ритмикой стиха Гнедичем, специально для Семеновой переведшим «Танкреда». Перевод был отмечен большой для того времени точностью и безукоризненной созвучностью рифм. Неукоснительного воплощения всего этого на сцене требовал он и от актрисы.
Семенова на первых порах была послушной ученицей. Она впитывала в себя игру Жорж – эффектно декламационную, величаво холодную, с заранее определенными ритмическими акцентами, с протяжно напевным произнесением стихов, рассеченным в запланированных местах неожиданной для зрителей превосходно отработанной скороговоркой. И под руководством Гнедича пыталась осмыслить каждую стихотворную строку, согревая ее напевную декламационность темпераментом и силой чувства.
«Бездушная французская актриса Жорж и вечно восторженный поэт Гнедич могли только ей намекнуть о тайнах искусства, которое поняла она откровением души», – скажет о Семеновой позже Пушкин. Роль Аменаиды станет ее любимой ролью. В ней через два года признает себя побежденной Семеновой сама Жорж. Но «откровение души» пришло к Семеновой не сразу. Вначале, когда шла она к постижению роли Аменаиды, многое казалось окружавшим ее театралам и актерам странным. Они ужаснулись, услышав, как на одной из репетиций «Танкреда» она «завыла».
– Нашей Катерине Семеновне и ее штату не понравились мои советы, – ворчал огорченный Шаховской, – вот уже с неделю, как она учится у Гнедича, и вчера на репетиции я ее не узнал. Хотят, чтобы в неделю она была Жорж: заставили петь и растягивать стихи… Грустно и жаль, а делать нечего; бог с ними.
Заглавную роль в «Танкреде» играл Яковлев. Поучения чуждого ему Гнедича, как обычно в таких случаях, он дерзко отверг. Чем и заслужил потом четкую, но не во всем справедливую оценку прославившего себя переводом гомеровской «Илиады» поэта: «Необыкновенный, по необразованный талант Яковлева, в диких своих порывах блуждавший как комета, не мог в ролях, им игранных, оставить полных и ясных идей: игра его зависела единственно от силы и расположения духа, а не от идей души, проникающей в тайны искусства…»
И все же за роль благородного, верного, ревнующего и любящего рыцаря Танкреда, отдавшего на поединке жизнь за возлюбленную, Гнедич очень хвалил актера.
– Славно же вы в прошедший раз играли Танкреда, – по воспоминаниям Жихарева, говорил он Яковлеву, – я был очень доволен вами и особенно в сцене вызова. Что, если б всегда так было!
Единодушное признание Яковлева в роли Танкреда было и в журнальной прессе. «Г-н Яковлев в сей пьесе играл… очень хорошо», – констатировал «Северный Меркурий». Ему вторил и враждующий с ним «Цветник»: «Г. Яковлев вникнул весьма хорошо в роль Танкреда. Поступь его, осанка, разговор, телодвижения, все показывало в нем героя… Г-жа Семенова в роли Аменаиды не сравнялась с m-lle George, но, смею сказать, превзошла ее… Согласитесь, что и г. Яковлева (nom barbare pour les oreilles délicates!) [16]16
Варварская фамилия для изысканных ушей (франц.).
[Закрыть]несравненно приятнее видеть в роли Танкреда, нежели Лароша». «Знатоки… находят, – продолжал „Цветник“, – что костюм русских актеров в „Танкреде“ действительно сходен с бывшим у сицилианцев в начале века… и что, напротиву того, французские актеры одеты были по моде XVII или XVIII столетия…».
Спектакль был показан в грандиозных, величественных декорациях Гонзаго. Костюмы сделаны по эскизам Оленина. На всем представлении лежала печать строгого вкуса, отличавшего и художников, и переводчика, который принимал самое непосредственное участие в постановке трагедии.
Яковлев любил играть Танкреда. В роли вольтеровского рыцаря отсутствовало то противоречивое начало, которого он непрестанно искал в предлагаемых ему ролях. И все же в образе Танкреда он находил близкие себе проявления нравственного бунтарства, резкую непримиримость ко злу, романтическую верность до гроба возлюбленной.
В дальнейшем Гнедич долгое время будет совершенствовать свой перевод вольтеровской трагедии. По наблюдениям исследователей творчества поэта, в первоначальном виде его перевод не имел той откровенно политической окраски, сближающей его с произведениями декабристов, какая была ему свойственна впоследствии. Но уже и в том виде гнедичевский «Танкред» развивал элементы предромантической драмы, которые невольно прорывались в саму трагедию Вольтера, написанную по мотивам «Освобожденного Иерусалима» Торквато Тассо. Усиливая звучание национально-освободительных идей, Гнедич дополнял речи героев вольнолюбивыми словами, направленными против деспотии, защищающими свободу личности, ее достоинство.
Все это и воплощал с присущей ему яркостью Яковлев. В отличие от Лароша, костюмированного как оперный премьер (голубой плащ, каска с колыхающимися страусовыми перьями, мягкие сапоги с пряжкой), Танкред – Яковлев появлялся на фоне коричневых с серыми пятнами декораций в светло-желтом колете, отороченном черным бархатом, со стальным шлемом, украшенным такого же цвета перьями. На грандиозной площади, с перспективно воссозданными портиками зданий и памятниками средневековых Сиракуз, узнавал он о мнимой измене любимой им Аменаиды, якобы обрученной с рыцарем Орбассаном, а потом написавшей любовное письмо врагу Сиракуз мавританскому вождю Соламиру. Не зная, что Аменанда отвергла притязания Орбассана (который в отсутствие Танкреда захватил в «рыцарской республике» власть) и что написанное ею письмо предназначалось не Соламиру, а ему самому, Танкред – Яковлев с первого выхода на сцену представал рыцарем без страха и упрека, до последнего вздоха верным своей «прекрасной даме». Без размышлений бросался он на защиту Аменаиды, когда ее выводили на площадь, чтобы судить за измену. С закрытым забралом, никем не узнанный, внезапно представал он перед судившими ее.
Сей девы рыцарь я,—
грозно и твердо звучали его слова. С гордым вызовом бросая перчатку Орбассану, он требовал:
Устройте, судии, обряд здесь боевой.
О, гордый Орбассан! – тебя зову на бой.
Победив Орбассана, но по-прежнему сомневаясь в том, что Аменаида любит его, Танкред решал идти в бой один против целого войска мавритан. Не выдавая мук ревности, без тени упрека, спокойно и строго говорил он падающей к его ногам Аменаиде:
Поди… утешь отца, его я почитаю.
Другой важнейший долг отсель меня зовет…
Признательность без мер нам тягостна бывает,
Освобождаю я навеки вас от ней.
И ты… располагать властна судьбой своей,
Будь счастлива… а я, я смерть найти желаю.
Только в финале, когда смертельно раненного Танкреда, победившего мавров, вносили на ту же площадь, раскрывал Яковлев, сколько нежности, выстраданной любви таится в душе его героя:
Аменаида… как! так я любим тобой?
И уже совсем обессиленный, умирая, Танкред – Яковлев смятенно просил:
Прости… страшись
За мною следовать… и жить мне поклянись.
Мужество и верность были основными красками Яковлева в роли Танкреда. В ней было меньше пылкости, «волканического» темперамента, свойственных ему в аналогичных ролях первого любовника. Зато побеждало зрелое умение сдерживать себя в патетических монологах, создавая образ человека внешне сурового, но обладающего большой возвышенной душой.
Танкред считался всеми современниками Яковлева одной из лучших его ролей. К лучшим они относили и еще одну, противоположную, казалось бы, Танкреду, сыгранную им в том же 1809 году в новой трагедии Озерова «Поликсена», – «царя царей» Агамемнона: нерешительного, не сумевшего противостоять злу, но непрестанно размышляющего о бессмысленности жертв войны, о мудрой терпимости к недостаткам людей, которая постигается с возрастом, о том, что «злополучие – училище царей».








