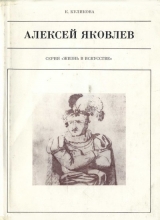
Текст книги "Алексей Яковлев"
Автор книги: Кира Куликова
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 18 страниц)
Екатерина Ивановна прожила долгую и трудную жизнь, имея на руках не только дочь, но потом и престарелых родителей, и брата – талантливого дирижера музыкальной труппы театра Аркадия Ширяева (которого необычайно высоко ценили знаменитый балетмейстер Дидло и композитор Кавос), периодически попадавшего на излечение в психиатрическую больницу. Сама она, играя второстепенные роли, дослужилась в театре до пенсии в размере 1300 рублей в год ассигнациями (что составляло 371 рубль 42 коп. серебром). И умерла в 1850-х годах, завещав похоронить себя рядом с мужем на Волковом кладбище, под памятником, на котором было начертано: «Яковлев Алексей Семенович, двора его императорского величества актер. † 3 ноября 1817 на 44 годе. Завистников имел, соперников не знал. Соорудила супруга». [22]22
Останки Алексея Семеновича Яковлева вместе с памятником, который представлял из себя трехгранный обелиск из серого известняка с мраморной рельефной накладкой, изображающей светильник и цветочную гирлянду, были перенесены с Волкова кладбища в Некрополь деятелей искусства и литературы Александро-Невской лавры в 1936 году. В настоящее время стоящий там памятник, подновленный в 1893 году «Обществом для пособия нуждающимся сценическим деятелям», вновь подвергся разрушению временем: на нем нет надписи и лишь частично сохранилось рельефное изображение.
[Закрыть]
Памятник по тем временам стоил очень дорого.
Что же касается документов, имеющих непосредственное отношение к Алексею Семеновичу Яковлеву, то, пожалуй, есть смысл упомянуть еще один. Через полтора месяца после его смерти, 18 декабря 1817 года, «его императорским величеством, самодержцем всероссийским Александром I» был подписан указ, коим «Алексей Яковлев из санкт-петербургских купцов» в числе других театральных служителей, числящихся купцами, мещанами, вольноотпущенными, прослужив на императорской сцене двадцать три года и прославив ее, был переведен наконец из торгового сословия, обязанного платить подати, в число «штатных актеров», не имеющих «никаких повинностей».
Воспользоваться сей привилегией Алексей Семенович так и не сумел.
ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАНАВЕСА
Затем началась уже другая – посмертная жизнь актера.
Осиротела Мельпомена:
Нет Яковлева, нет российского Лекена!
Разил он ужасом и жалостью сердца,
Дух русский возвышал в Димитрие, в Росславе;
Почил под сению лаврового венца,
Искусство взял с собой, а имя отдал славе.
Эпитафией, сочиненной в 1817 году только что выпущенным из Лицея однокашником Пушкина Алексеем Илличевским, и обрела она свое начало. Но слава, которой, по утверждению поэта, актер оставил имя, была такой же беспокойной, далекой от панегирической идиллии, какой была и сама жизнь Яковлева.
«Отдавая с сердечным удовольствием должную справедливость высоким дарованиям, пламенным чувствам и редким способностям превосходного артиста, которого безвременная смерть огорчает всех любителей театра и знавших его лично, – предупреждала первая посвященная ему безымянная биография, „заимствованная из своеручных записок покойного г-на Яковлева“ и напечатанная в конце 1817 года журналом „Северный наблюдатель“, – нельзя умолчать для пользы заступающих его место, что они не все должны были заимствовать от него, а особливо в трагедиях. Не получа с младенчества того образования, которое придает людям большого света приятность, ловкость и вид отличный от других, простительно, ежели господин Яковлев не всегда оказывал в поступи и телодвижениях своих то благородство, которое бы соответствовало сильным и возвышенным его чувствам… Желательно, чтобы актер, заступающий место Яковлева, старался возвыситься до его дарований, приобресть себе такую же славу и заслужить любовь публики; но также старался бы избегать тех недостатков, которые извинялись одними его великими способностями…»
Эпитафия следовала за эпитафией. Один биографический очерк сменялся другим, но и в них слова «великий», «неповторимый» звучали наряду с определениями: «гуляка», «актер плебеев».
В театре уже зажглись новые звезды трагических дарований. В Москве, играя старого озеровского Эдипа, вывел на сцену Степан Федорович Мочалов сына своего Павла, дебютировавшего ролью Полиника. Случилось это за два месяца до смерти Яковлева. И именно ему – Павлу Степановичу Мочалову – довелось, во многом повторив жизнь в искусстве своего предшественника, невольно приглушить сценическую славу того на новом витке временной спирали.
Мочалова также будут упрекать в неровности игры, в небрежности отношения к ролям, в отсутствии «хороших манер», в приверженности к райку, за «внезапные болезни», отменяющие спектакли. И также будут рыдать в его гениальные минуты, подымающие людей к высотам философских размышлений о смерти и бытии, об исполненном противоречий человеческом несовершенстве. Он тоже будет несчастен и одинок. Но на театральные подмостки взойдет в свое время. Он обретет себя в куда более совершенных переводах Шекспира и Шиллера. И найдет равного себе по гениальности зрителя и судью – Белинского, который запечатлеет его творения для потомства и увековечит облик их создателя.
Через три года после смерти Яковлева придет замена ему и на петербургской сцене. На ее подмостки ступит чем-то похожий внешне на Яковлева (и такой противоположный ему по дарованию и человеческому существу) восемнадцатилетний сын Александры Дмитриевны Каратыгиной Василий. Бывший воспитанник Горного корпуса, получивший первый офицерский чин в департаменте внешней торговли, предназначенный родителями к совсем иной, чем актерская, карьере, не выдержит сценического искуса и пойдет вслед за ними. Дебютировав в петербургском театре 3 мая 1820 года прославленной Яковлевым ролью Фингала, он заслужит одобрительные рукоплескания зрительного зала. И получит признание редко хвалившего «нынешних» старшего плотника Фролова, прослужившего в театре около сорока лет:
– Насмотрелся я на дебютантов-то, перевидал их на своем веку, но… этот молодец далеко пойдет и будет важный ахтер! После Алексея Семеновича мне не доводилось встречать здесь такого лихача!
Пророчество наглядевшегося на всяких знаменитостей плотника сбылось скоро. Возбудив вначале бурную журнальную полемику, Василий Андреевич Каратыгин после окончательного ухода со сцены Семеновой в 1826 году до самой своей смерти, последовавшей в 1853 году, стал единовластным законодателем трагического искусства в петербургском театре. Его называли «солнцем русской сцены», любимцем императора Николая I. Столичные журналисты слагали рецензентские оды в его честь. Отточенное мастерство его было рационально-умным. Отработанные перед зеркалом движения и мимика лица отличались внушительной величественностью. Его могли упрекать в отсутствии вдохновения. Но никто никогда не бросил ему упрека в «небрежении» к ролям, в неприличии жестов, в потакании вкусам «черни». Его поведение на сцене отвечало требованиям изысканной публики. Не только на сцене, но и в жизни он был среди нее «свой».
Счастливо женившись на дочери знаменитой танцовщицы Евгении Ивановны Колосовой Александре (исполнявшей вместе с ним первые роли в трагедиях и комедиях), он не знал ни мук неразделенной любви, ни трагических потрясений жизни.
– Каратыгины были первой артистической четой на нашей сцене, пользовавшиеся содержанием весьма значительным, благодаря их разумной бережливости, – не без зависти отмечали актеры. – …Благодаря… умению отдавать трудовые свои деньги в надежные руки для оборотов, Каратыгины приобрели значительное состояние, прослыли чуть не за миллионеров…
Он не был романтиком в жизни. Хотя и не мог не отдать в какой-то степени дань романтическим течениям на сцене. Выступал в трагедиях Шиллера, играл и переводил произведения Шекспира. Но оставался в них чаще всего тем же величественным, с доведенной до совершенства благородной пластикой героем, полководцем, принцем крови, коронованным или некоронованным королем, каким был и в любимой своей классицистской трагедии. Увидевшего свет «Бориса Годунова» Пушкина он закономерно для себя называл «галиматьей в шекспировом роде».
И выступая все же в «шекспировой галиматье», захватившей сцену его времени, внешне укрупнял создаваемые в ней образы, вольно или невольно выпрямляя их внутреннюю противоречивую человеческую суть. И если предшественник его Яковлев сквозь «дюсисовскую дрянь» пробивался порой к тем или иным глубинам неисчерпаемого богатства Шекспира, то Василий Каратыгин, имея в руках шекспировский подлинник, приспосабливал его, прежде всего, к своему мастерски отшлифованному декламационному и пластическому искусству.
Мог ли предполагать Яковлев, кто заменит его на петербургской сцене, сделавшись ее «идолом» (выражение журнальных статей того времени)? Мог ли способствовать этому? Он знал, разумеется, о выступлениях пятнадцатилетнего сына Александры Дмитриевны (которого, как помнит читатель, досужая молва насмешливо называла его «наследником») на домашней сцене в квартире Каратыгиных, в спектаклях, ставившихся Андреем Васильевичем. По всей видимости, Яковлев, после женитьбы возобновивший общение с семейством Каратыгиных, был и на представлении в их «театре» своей старой одноактной комедии «Живописец и подьячий», где юный Василий в 1816 году исполнял роль художника. Но вряд ли сам он, уже больной и до времени постаревший, каким бы то ни было образом мог передать свой опыт будущему петербургскому премьеру.
У таких актеров, как Яковлев, не бывает учеников. И дело не только в том, что они творят порой интуитивно, пересоздавая свои роли на каждом спектакле. Дело в личности создаваемых ими героев, в том самовыражении крупных индивидуальностей, которыми такие актеры непременно являются и особенности которых не могут быть искусственно привиты никому.
Василием Каратыгиным и в жизни и на сцене руководил не он. С детства тот следовал принципам Андрея Васильевича: бережливости, добросовестности, сдержанности чувств, добропорядочному рационализму поступков и рассуждений. Потом попал в руки умного, высокообразованного знатока старого искусства Павла Катенина – стойкого приверженца преобразованных в духе декабристского времени традиций корнелевских трагедий. «Усильным напряженным постоянством» Василий Каратыгин «в искусстве безграничном достигнул степени высокой». Слава улыбнулась ему. Но никогда не постиг он удивительных тайн моцартианства. Тех самых тайн, «восхитительные порывы» которых были отличительной особенностью Яковлева, а затем Мочалова.
Эти «восхитительные порывы» успел заметить Пушкин, увидев Яковлева незадолго до кончины – обессиленного, потерявшего жизненный и творческий тонус – в немногих, далеко не лучших его ролях. [23]23
По доказательному утверждению биографа Е. С. Семеновой – И. Медведевой, Пушкин, выпущенный из Лицея в июне 1817 года, мог видеть Яковлева лишь в следующих ролях: Пожарского, Фрица, Беверлея, Карла XII, Иодая, Тезея и графа во второстепенной драме Коцебу «Сила клятвы».
[Закрыть]Успел заметить… Но не пощадить самого актера.
«Долго Семенова являлась перед нами с диким, но пламенным Яковлевым, который, когда не был пьян, напоминал нам пьяного Тальма. В то время имели мы двух трагических актеров! Яковлев умер; Брянский заступил его место, но не заменил его. Брянский, может быть, благопристойнее, вообще имеет более благородства на сцене, более уважения к публике, тверже знает свои роли, не останавливает представлений внезапными своими болезнями;но зато какая холодность! какой однообразный, тяжелый напев!
По мне уж лучше пей,
Да дело разумей.
Яковлев имел часто восхитительные порывы гения, иногда порывы лубочного Тальма. Брянский всегда, везде одинаков. Вечно улыбающийся Фингал, Тезей, Орозман, Язон, Димитрий – равно бездушны, надуты, принужденны, томительны. Напрасно говорите вы ему: расшевелись, батюшка! развернись, рассердись, ну! ну! Неловкий, размеренный, сжатый во всех движениях… Брянский в трагедиях никого не тронул…»
Разящим, не знающим промаха словом запечатлел Пушкин сходящего в могилу актера и его младшего собрата. Поэт был молод, порывист, бескомпромиссен, безжалостен ко всему ветшавшему, уступающему дорогу новому времени, которое потом назовут декабристским, а также его, Пушкина, именем. Он не видел Яковлева в пору расцвета, в любимых самим актером ролях. Был очарован Семеновой, сыгравшей с Яковлевым около семидесяти ролей, но так и не нашедшей с ним общего языка. Статью свою «Мои замечания об русском театре» Пушкин написал для прочтения в тесном кругу вольнолюбивого содружества «Зеленая лампа». Статья осталась незаконченной. И была подарена поэтом Семеновой. Та в свою очередь передарила статью Гнедичу, оставившему на рукописи надпись: «Пьеса, писанная А. Пушкиным, когда он приволакивался, но бесполезно, за Семеновой, которая мне тогда же отдала ее». Семенову, одну Семенову воспевал Пушкин безоговорочно.
«Говоря об русской трагедии, говоришь о Семеновой, и, может быть, только об ней… Семенова не имеет соперницы… Она осталась единодержавною царицею трагической сцены».
Возвышенное, достигшее апогея славы дарование Семеновой полностью отвечало гражданственному духу наступившего времени, нашедшему свое выражение в пламенных стихах Рылеева:
Любовь никак нейдет на ум:
Увы! моя отчизна страждет,
Душа в волненьи тяжких дум
Теперь одной свободы жаждет.
«Игра всегда свободная, всегда ясная, благородство одушевленных движений, орга́н чистый, ровный, приятный и часто порывы истинного вдохновения, все сие принадлежит ей…»
В свете ее гармоничных, исполненных яркой целенаправленности, гордых и мужественных героинь, могучее, но неровное, лишенное плавной гармонии, раскрывающее глубинные бездны противоречивой сущности человека, клонящееся в последние годы к упадку искусство Яковлева казалось «диким» и «лубочным», отходило в мрачную тень.
Пройдет двенадцать лет, и Пушкин совсем другой акцент придаст слову «лубочный».
Таков прямой поэт. Он сетует душой
На пышных играх Мельпомены,
И улыбается забаве площадной
И вольности лубочной сцены, —
напишет он в послании тому же Гнедичу. Но пока что «пышным играм Мельпомены» он слагал гимны, прославляя ее величественно-прекрасную верховную жрицу и со всем пылом молодости низвергая всех, кто когда-либо дерзал на соперничество с Семеновой.
«Было время, когда хотели с нею сравнивать прекрасную комическую актрису Вальберхову… Но истинные почитатели ее таланта забыли, что видели ее в венце и мантии… Кто нынче говорит об Каратыгиной?.. Было время, когда ослепленная публика кричала об чудном таланте прелестной любовницы Яковлева; теперь она наряду с его законною вдовою, и никто не возьмет на себя решить, которая из них непонятнее и неприятнее. Скромная, никем не замеченная Яблочкина… предпочитается им обеим простым, равнодушным чтением стихов, которое, по крайней мере, никогда не вредит игре главной актрисы».
«Никогда не вредит игре главной актрисы…» Яковлев, выступая с ней двенадцать лет, «вредил» ее игре много раз. Об этом должен был слышать Пушкин. И все же, несмотря на невольную пристрастность запальчиво полемических оценок, с истинной широтой взгляда отметил в угасшем на его глазах актере главное: гениальность сценических порывов, пламенность натуры, «величественную осанку».
Беспощадная меткость пушкинских формулировок в оценке «упадающего» дарования Яковлева во многом определила его посмертный облик. «Диким, но пламенным», «лубочным Тальма», которому хлопает «площадной партер», имеющим восхитительные порывы гения, искусство которого не укладывается ни в какие канонические стили, возникал он вновь и вновь в посвященных ему очерках, беллетризированных рассказах, сценических интерпретациях его жизни. Незаурядность, исключительность его натуры, громкая противоречивая слава привлекали к нему многих литераторов на протяжении всего XIX века. В историю русского театра он вошел как предромантический актер. В драматургию как герой мелодрамы.
Свыше тридцати лет на подмостках всей России появлялся русский вариант «Кина, или Гения и беспутства» – пьеса «Актер Яковлев», сочиненная режиссером и водевилистом Н. И. Куликовым в 1859 году.
В обличии многих славных провинциальных и не провинциальных мастеров сцены продолжал жить на ней беспокоящий умы артист, превращенный в благородного мелодраматического героя. Буйным защитником справедливости, щедро отдающим свой талант, сердце, деньги людям, смело выступающим против условности окружающего общества, ставшим жертвой его интриг и собственных страстей представал в пьесе Куликова главный герой. По всем законам мелодраматического жанра образ Яковлева был в ней насыщен приподнятой патетикой. Но за ходульностью приемов мелодрамы, написанной человеком, дружившим с семейством Каратыгиных, проглядывали и истинные, взятые из жизни черты.
Трагедия одинокого, стоящего выше других, охваченного болью за людей и раздираемого собственными противоречиями человека была основной творческой темой Яковлева. Таким был и он сам.
Сценические его создания не поддавались аналитическому препарированию. О художниках, подобных ему, позже поэт Аполлон Григорьев напишет:
«Если несколько раз вы приходите в театр с твердо принятой решимостью не давать над собой воли артисту… если… уступите обаянию сценическому, если вы, несмотря на все ваши усилия, потрясены порывом, измучены представляемым… отрекитесь от анализа, отрекитесь хоть в этом случае от своего самолюбивого я…»
Таких актеров, каким был Яковлев, в разное время называли по-разному: субъективными, стихийными, актерами-исповедниками, актерами нутра или самовыражения. И за всеми этими терминологическими обозначениями непременно вставало еще одно, понимаемое уже не в специфическом узкостилевом, а в более широком человеческом смысле: романтик.
Но что такое романтизм в таком – более широком, чем литературное направление, смысле?
«Сколько я не читал о романтизме, все не то… – утверждал еще Пушкин. – Все имеют у нас самое темное понятие о романтизме». «Вопрос не уяснился, – как бы продолжал мысль Пушкина в 1843 году Белинский, – и романтизм по-прежнему остался таинственным и загадочным предметом». «Формул романтизма дано несколько, – размышлял Горький в двадцатых годах нашего столетия, – но точной, совершенно исчерпывающей формулы… пока еще нет».
«Когда вам будут говорить: „Это романтизм“, – обращалась Цветаева „К детям“ в конце тридцатых годов, – вы спросите: „Что такое романтизм?“ и увидите, что никто не знает; что люди берут в рот (и даже дерутся им! и даже плюются! и запускают вам в лоб!) – слово, смысла которого они не знают. Когда же окончательно убедитесь, что незнают, сами отвечайте бессмертным словом Жуковского: „Романтизм – это душа“».
Словами большого поэта и закончим документальное жизнеописание актера, который и славен был тем, что щедро отдавал и отдал душу людям, сжигая ее перед ними на сценических подмостках.
Иллюстрации

Садовая улица в Петербурге. Литография К. Беггрова. Начало XIX в.

Вид Гостиного двора в Петербурге. Гравюра И. Иванова. Начало XIX в.

Малый (деревянный) театр Книппера на Царицыном лугу

Зрительный зал Эрмитажного театра

И. А. Дмитревский. Портрет работы неизвестного художника

А. С. Яковлев. Портрет работы неизвестного художника

А. Д. Каратыгина

А. В. Каратыгин. Портрет работы В. Тропинина. 1800. Из частного собрания

И. И. Вальберх

Эскиз П. Гонзаго к трагедии на античный сюжет

Сцена из драмы Н. Ильина «Лиза, или Торжество благодарности». Фронтиспис издания 1817 г.

А. А. Шаховской

В. А. Озеров

Е. Семенова в роли Ксении. «Димитрий Донской» В. Озерова

А. Яковлев в роли Фингала. «Фингал» В. Озерова

Иллюстрация к трагедии В. Озерова «Эдип в Афинах»

Иллюстрация к трагедии В. Озерова «Фингал»

Иллюстрация к трагедии В. Озерова «Димитрий Донской»

Иллюстрация к трагедии В. Озерова «Поликсена»

Эскиз костюма Иодая к спектаклю «Гофолия» (Athalie) неизвестного художника. 1800-е гг.

Эскиз костюма Димитрия Донского П. Гонзаго. 1807

Иллюстрация к трагедии Ж. Расина «Ифигения в Авлиде»

Иллюстрация к трагедии М. Крюковского «Пожарский»

М. И. Вальберхова

А. С. Яковлев. Гравюра С. Галактионова с портрета О. Эстеррейха

Большой (Каменный) театр в Петербурге. Архитектор Тома де Томон

Театральная площадь в Петербурге. Гравюра Б. Патерсена. Начало XIX в.

Дорога в Красный кабачок. Гравюра по рисунку А. Зауэрвейда. 1813

С. Ф. Мочалов. Портрет работы О. Кипренского

И. А. Дмитревский. Гравюра с рисунка О. Кипренского

А. Л. Нарышкин

Н. И. Гнедич

Рисунок О. Кипренского. Слева направо: П. А. Кикин, Е. С. Семенова, А. С. Яковлев, С. С. Пименов. В центре И. А. Крылов

А. С. Яковлев. Портрет работы И. Клюквина

Автограф письма А. С. Яковлева к С. П. Жихареву

А. С. Яковлев. Рисунок К. Брюллова. 1817

Автопортрет А. Пушкина. 1820

Актрисы петербургского театра. Рисунок А. Пушкина на рукописи «Руслана и Людмилы»

Малый театр (Казасси) в Петербурге

А. С. Яковлев. Гравюра А. Творожникова

Я. Г. Брянский

В. Каратыгин в роли Гамлета

П. Мочалов в роли Фингала

Гравюра по рисунку А. Шарлеманя из книги «Русские люди (Жизнеописание соотечественников, прославившихся своими деяниями на поприще науки, добра и общественной пользы)». 1860









